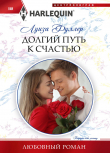Текст книги "Уир Гермистон"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Кто сейчас думает о вас, Гермистон? – закричала на него оскорбленная женщина. – Мы думаем о той, кто уже избавилась от земных печалей. Могла ли она сделать выбор хуже, вот что ответьте-ка мне, Гермистон, ответьте перед ее телом, хладным, как сырая земля!
– Ну, есть такие, которым не угодишь, – сказал его милость.
ГЛАВА II. ОТЕЦ И СЫН
Лорд верховный судья был известен многим; Адама Уира, вероятно, не знал никто. Ему нечего было прятать от людей, не в чем было оправдываться – просто он безмолвно и полностью довольствовался самим собой; та часть человеческой природы, которая уходит в белый свет на добычу славы или любви (нередко покупая их за фальшивую монету), у него просто отсутствовала. Он не добивался, чтобы его любили, ему это было безразлично; сама мысль об этом была ему, наверно, незнакома. Он пользовался всеобщим уважением как юрист и всеобщей ненавистью как судья и с нескрываемым презрением относился к тем, кого превосходил, – к менее ученым юристам и менее ненавистным судьям. Во всем остальном его дела и дни являли полнейшее отсутствие каких бы то ни было признаков честолюбия; он жил механически, с безразличием, в котором было даже что-то величественное.
Своего маленького сына он видел мало. Во время многочисленных болезней его детства судья аккуратно справлялся о его здоровье и ежедневно навещал больного: входил в комнату с натужно веселым выражением на страшном лице, отпускал несколько неуместных шуток и тут же удалялся к несказанному облегчению ребенка. Один раз, когда выздоровление Арчи совпало с началом судебных вакаций, милорд в своей карете сам отвез мальчика в Гермистон, куда того обычно доставляли на поправку. По всей вероятности, в тот раз его больше, чем всегда, встревожило нездоровье сына, потому что это путешествие навсегда заняло в памяти Арчи особое место: за дорогу отец успел пересказать ему, с начала и до конца, с потрясающими подробностями, три настоящих дела об убийстве.
Арчи прошел обычный путь всех эдинбургских мальчиков: учился в школе, потом поступил в университет; и Гермистон все это время едва утруждал себя проявлением даже видимости интереса к успехам сына в науках. Правда, каждый день после обеда мальчика по особому знаку приводили пред очи отца – он получал горсть орехов и стакан портвейна, который выпивал под сардоническим взглядом судьи. «Ну, сэр, что вы сегодня проходили по вашей книжке?» – саркастически спрашивал милорд и задавал сыну несколько вопросов на юридической латыни. Ребенку, только еще одолевавшему начала, Кордерия, Папиниан и Павел оказывались, естественно, не под силу. Но папаша ничего другого не помнил. Он не был суров с юным школяром, приобретя за годы судейства неисчерпаемый запас долготерпения, но не заботился ни скрыть, ни поудачнее выразить свое разочарование. «М-да, тебе еще многому предстоит выучиться», – мог небрежно заметить милорд, не подавляя зевка, и тут же снова погрузиться в свои мысли на все время, пока ребенка не уводили спать, а милорд, захватив графин и стакан, перебирался в задние покои, окна которых выходили на луга, и там сидел над своими делами далеко за полночь. В Эдинбургском суде не было человека осведомленнее, чем он; его профессиональная память вызывала изумление; если приходилось высказываться по какому-то делу без предварительной подготовки, никто не мог сделать это основательнее, чем он, и, однако, никто тщательнее его не готовился к слушанию. Нет сомнения, что, засиживаясь так до глубокой ночи или задумываясь за столом и забывая о присутствии сына, его милость вкушал от тайных радостей, недоступных простым смертным. Отдаваться всем существом одному интеллектуальному занятию – это и значит достичь успеха в жизни; но, пожалуй, только в юриспруденции и высшей математике такая поглощенность может длиться всю жизнь, не принося поздних сожалений, и в самой себе находить постоянную несуетную награду. Эта атмосфера отцовского самозабвенного трудолюбия была для Арчи лучшей школой. Правда, она не прельщала его, даже, наоборот, отталкивала и угнетала. Все это так. Тем не менее она присутствовала, неприметная, как тиканье часов, и суровый идеал делал свое дело, подобно безвкусному, но ежедневно принимаемому укрепляющему средству.
Но Гермистон все же не был целиком предан одной страсти. Он еще отличался приверженностью к вину; он просиживал за графином до зари и прямо из-за стола отправлялся в суд, сохраняя ясную голову и твердую руку. После третьей бутылки в нем начинали отчетливо проступать плебейские черты; резче делался простонародный выговор; грубее – тупые простонародные шутки; он становился гораздо менее грозным и неизмеримо более отвратительным. Мальчик же унаследовал от Джин Резерфорд болезненную брезгливость, странно сочетавшуюся с безудержной вспыльчивостью. На школьном дворе в кругу товарищей детских игр он кулаками расплачивался за грубое слово; за отцовским столом (когда подошло ему время присутствовать на этих попойках) он бледнел от омерзения и молчал. Изо всех гостей отца только один не был ему отвратителен – Дэвид Кийт Карнеги, лорд Гленалмонд. Лорд Гленалмонд был высок и худощав, имел длинное лицо и длинные, тонкие кисти рук; говорили, что он похож на статую Форбса, героя Куллоденской битвы, установленную в здании Парламента. В глубине его синих глаз и на седьмом десятке не погас молодой огонь. Разительно отличаясь от всех присутствующих за столом, он казался артистом и аристократом, попавшим по недоразумению в грубое общество, и это привлекло к нему внимание мальчика; а так как интерес и любопытство – два чувства безотказнее и быстрее всего вознаграждаемые в этом мире взаимностью, лорд Гленалмонд тоже заинтересовался мальчиком.
– Так это ваш сын, Гермистон? – спросил он, кладя ладонь на плечо Арчи. – Он уже совсем взрослый юноша.
– Тю! – отозвался утонченный родитель. – Весь в маменьку: боится слово сказать.
Но гость удержал мальчика подле себя, побеседовал с ним, обнаружил в нем вкус к изящной словесности и чистую, пламенную, застенчивую юношескую душу, и по его приглашению Арчи стал каждое воскресенье навещать его в его голой, холодной и мрачной гостиной, где вечерами старый лорд предавался чтению в изысканном холостяцком одиночестве. Доброта, изящество и утонченность всего облика старого судьи, его мыслей и речей находили отклик в сердце Арчи. Ему захотелось вырасти таким же; и когда настал час выбирать профессию, пример лорда Гленалмонда, а вовсе не лорда Гермистона привел его на юридический факультет. Гермистон втайне гордился этой дружбой, но отзывался о ней весьма презрительно. Он не упускал повода поддеть их насмешливым словцом, и это, по правде сказать, было ему вовсе не трудно, потому что ни Арчи, ни его престарелый друг не умели парировать его нападок. Ядовитые насмешки над всеми этими никчемными бездельниками и неучами – поэтами, художниками, музыкантами и их поклонниками – постоянно были у него на устах. «Ах, синьор Тру-ля-ля, – это было его любимое выражение. – Бога ради, избавьте нас от синьора!»
– Вы ведь большие друзья с моим отцом, правда? – спросил однажды Арчи лорда Гленалмонда.
– Я никого так искренне и глубоко не уважаю, Арчи, – ответил тот. – Он вдвойне заслуживает почтения: как превосходный юрист и как кристальной честности человек.
– Вы и он такие разные, – продолжал мальчик, глядя в глаза старому судье с такой же страстностью, с какой глядится любовник в глаза своей возлюбленной.
– Это верно, – отозвался судья. – Мы очень разные. Боюсь, что и вы с ним тоже разные. Но мне было бы грустно, если бы мой юный друг судил несправедливо о своем отце. Он обладает всеми достоинствами римлянина – такими же были Катон и Брут. Мне думается, имея такого отца, уже можно гордиться своей родословной.
– О, я предпочел бы, чтоб он был простым пастухом с пледом на плечах! – с неожиданной горечью воскликнул Арчи.
– А это сказано весьма неразумно и к тому же, я полагаю, не вполне искренне, – возразил Гленалмонд. – О таких словах потом неизменно вспоминаешь с раскаянием. Это всего лишь книжная эффектная фраза, она отнюдь не точно выражает ваши мысли, да и самые ваши мысли не продуманы вами до конца, и ваш отец, окажись он сейчас здесь, без сомнения, сказал бы по этому поводу: «Синьор Тру-ля-ля!»
С того дня Арчи, по-юношески болезненно чувствительный, избегал разговоров на эту тему. И, быть может, напрасно. Дай он себе волю выговориться, выразить в словах все, что было у него на сердце, как это свойственно и необходимо юности, и об Уирах из Гермистона, пожалуй, нечего было бы писать. Но даже слабого намека на опасность попасть в смешное положение оказалось вполне достаточно; в мягкой укоризне, какой прозвучали слова его друга, он прочел запрет, и не исключено, что прочел правильно.
Помимо старого судьи, у мальчика не было ни друзей, ни просто приятелей. Серьезный и пылкий, он прошел школу и колледж, огражденный от толпы равнодушных стеной своей застенчивости. Он вырос красивым юношей с открытым, выразительным лицом, с изящными, живыми манерами; был умен, получал награды, блистал в студенческом Дискуссионном клубе. Казалось бы, вокруг такого юноши должны были толпиться многочисленные друзья; но что-то в нем – отчасти материнская чувствительность, отчасти отцовская суровость – удерживало его в стороне от товарищей. Знаменательно, хотя и странно, что в глазах сверстников Арчи был сын своего отца-судьи Гермистона. «Вы ведь приятель Арчи Уира?» – спросили как-то у Фрэнка Инниса; и Иннис ответил со свойственным ему остроумием и несвойственной ему глубиной проникновения: «Я знаком с Уиром, но не знаю никакого Арчи». Арчи не знал никто – симптом болезни, нередко поражающей единственных сыновей. Он плавал под собственным, никому не ведомым флагом. Из мира, в котором он жил, была изгнана всякая надежда на душевное человеческое участие, и он взирал вокруг на своих товарищей-студентов, равно как и в будущее, на череду однообразных дней и неинтересных знакомств, без надежды и любопытства.
Но с течением времени бесчувственный и закоснелый старый грешник стал испытывать к сыну чресл своих и единственному продолжателю рода душевное тяготение и нежность, в которые сам с трудом мог поверить и уж, разумеется, никак не в состоянии был выразить. Радамант, за сорок лет привыкнувший лицом, голосом, жестом внушать ужас и отвращение, возможно, и велик, но едва ли способен вызвать к себе любовь. Он, правда, делал попытки расположить к себе Арчи, но к ним не следует относиться насмешливо – они были неназойливы, а неудачи, которыми они кончались, переносились поистине стоически. Таким железным, несгибаемым натурам не приходится рассчитывать на сочувствие. И судья, так и не добившись дружбы сына, ни даже простого его доброжелательства, продолжал торжественное восхождение по голым широким ступеням своего долга, не находя привета, но не ведая колебаний. Что ж, его отношения с Арчи могли бы приносить ему больше радости, в этом он, вероятно, иногда отдавал себе отчет; но радость – всего лишь побочный продукт сложной химии жизни, на нее рассчитывают только дураки.
Что думал по этому поводу Арчи, нам, кто давно уже стал взрослым и забыл свою молодость, представить себе несколько труднее. Он никогда и ни в чем не попробовал понять человека, с которым встречался за завтраком и обедом. Скупость на страдания и жадность на удовольствия – таковы два полюса юности; и Арчи принадлежал к скупым. Стоило откуда-то повеять холодом – он поворачивался спиной, стараясь как можно меньше подвергаться пронизывающему ветру. Он избегал отцовского общества; в присутствии отца предпочитал смотреть в сторону, насколько позволяли приличия. День за днем, месяц за месяцем освещала лампа эту пару за столом – милорда, багроволицего, угрюмого, презрительного, и Арчи, неизменно мрачневшего и как бы тускневшего в отцовском присутствии; и не было, наверное, во всем мире более чужих друг другу людей. Отец с величавым простодушием либо говорил о том, что было интересно ему самому, либо спокойно молчал. А сын лихорадочно выискивал какую-нибудь безопасную тему для застольной беседы, которая не грозила бы лишний раз обнаружить душевную грубость милорда или его благодушное бессердечие, и вел разговор боязливо, с осторожностью дамы, идущей, подобрав юбки, по узкой тропе. Если он все же оступался и милорд начинал произносить речи, терзавшие его чувствительность, Арчи, выпрямившись на стуле и насупившись, почти совсем замолкал, но милорд, не смущаясь, продолжал выставлять напоказ свои худшие качества перед безмолвствующим, негодующим сыном.
– Что верно, то верно, негодное то сердце, что не знает веселья, – заключал обычно милорд свои невыносимые излияния. – Однако мне пора снова становиться к плугу.
И он уходил и, как повелось, замыкался у себя в задних покоях, между тем как Арчи устремлялся в вечерний город, весь трепеща от ненависти и презрения.
ГЛАВА III. КОЕ-ЧТО О ТОМ, КАК БЫЛ ПОВЕШЕН ДУНКАН ДЖОПП
Однажды – дело было в 1813 году – Арчи забрел на заседание Уголовного суда. Служитель с булавой провел и усадил сына судьи, председательствовавшего на процессе. За деревянной загородкой скамьи подсудимых серело лицо жалкого и гнусного негодяя Дункана Джоппа, которому грозил смертный приговор. Вся его жизнь, разгребаемая сейчас на людях, была позор, порок и трусливое малодушие; перед людьми открывалась вся подлая нагота преступления. И этот жалкий человек слушал и даже по временам как будто бы понимал – словно иногда он забывал, в каком ужасном месте находится, и помнил лишь свой позор, его в это место приведший. Голова его оставалась опущенной, руки сжимали край деревянного барьера; волосы свисали ему на глаза, и время от времени он откидывал их назад. Он то вдруг оглядывался на публику, охваченный жестоким страхом, то смотрел прямо в лицо своему судье и нервно глотал слюну. На горле у него был повязан грязный лоскут фланели; и эта тряпица перетянула в душе Арчи ту чашу весов, на которую была брошена жалость в противовес отвращению. Стоявший перед ним был на самом пороге небытия; пока еще это человек, способный видеть и воспринимать; но еще немного времени, и, сыграв свою краткую роль в уродливом последнем спектакле, он перестанет существовать. А он, между тем, с такой естественной человеческой непоследовательностью, от которой сжималось сердце, кутал свое простуженное горло.
Прямо против Арчи в кресле с высокой спинкой, облаченный в судейский пурпур, с неподвижным лицом в белой раме парика, восседал милорд Гермистон. Воплощенная честность, он даже не считал нужным изображать беспристрастие, которое было бы тут только маской: перед ним, как сказал бы он сам, сидел человек, заслуживающий виселицы, вот он и отправлял его на виселицу. И нельзя было не видеть, что делал он это со вкусом. Чувствовалось, что он получает удовольствие, применяя свои отточенные способности, что он любуется собственным зорким взглядом, без труда проникающим в самую суть факта, и доволен каждой своей грубой, издевательской репликой, камня на камне не оставляющей от жалких потуг защиты. Он шутил, внося под мрачные своды закона что-то от кабацкого веселья. И подсудимый, жалкое отребье рода человеческого, с фланелевым лоскутом на шее, был загнан на эшафот под глумливое улюлюканье.
У Дункана была любовница, существо едва ли не более жалкое и значительно старшее, чем он. Хныча и почтительно приседая, она вышла на свидетельское место, чтобы еще добавить к бремени улик груз своего предательства. Гулким басом милорд произнес слова присяги, которые ей полагалось повторить, и добавил с презрительной угрозой:
– Думай, что будешь говорить, Джэнет. Меня не проведешь, со мною шутки плохи.
Когда же она срывающимся голосом уже вела свой рассказ, его милость прервал ее вопросом:
– Почему же ты так поступила, а, старая карга? Уж не должен ли я понимать тебя так, что ты была любовницей обвиняемого?
– Да, с соизволения вашей милости, – плачущим голосом подтвердила женщина.
– Нечего сказать, хорошенькая парочка! – заметил милорд; и в его презрении прозвучала такая беспощадная жестокость, что даже на галерее не раздалось ни смешка.
Заключительная речь судьи тоже содержала несколько перлов.
– Это отребье держалось друг друга, а уж почему, не нам судить, – говорил лорд верховный судья. И еще: – Обвиняемый, который, помимо всего прочего, уродлив и духом и телом… – Или: – Ни у самого подсудимого, ни у этой старой барышни не хватило ума даже солгать в нужную минуту.
А вынося приговор, судья сделал попутно такое замечание:
– Я с божьей помощью отправил на виселицу немало народу, но такого мерзавца, как ты, мне еще вешать не приходилось.
Слова эти были резки сами по себе, а интонация и чувство, с которыми они были произнесены, и дьявольское удовольствие, испытываемое говорившим, оставляли неизгладимое впечатление.
Когда все было кончено и Арчи вышел из суда, мир вокруг него неузнаваемо изменился. Будь в преступлении Джоппа хоть немного искупающего величия, будь в деле хоть какая-то неясность, неопределенность, он, быть может, еще понял бы. Но преступник со своим обвязанным горлом стоял перед всеми в поту смертного страха, не имея ни единого оправдания и никакой надежды, – зрелище, которое стыд велит закрывать от людей, создание, павшее так низко, что жалость к нему не могла быть опасной. А судья терзал его с таким невообразимо жутким злорадством, какое могло привидеться только в страшном сне. Одно дело – поразить копьем тигра, другое – раздавить каблуком жабу: даже на бойне существует своя эстетика, и мерзость Дункана Джоппа распространилась, как зараза, на его судью.
С невнятным возгласом махнув рукой, Арчи прошел мимо кучки своих товарищей-студентов и зашагал по Хай-стрит. Словно во сне, взглянул он на древние стены Холируда, и картины романтического прошлого всплыли перед ним, тут же потускнев: красочные повести былого, образы королевы Марии и принца Чарли, и белоголовый олень, и блеск, и преступления, бархат и железо минувшей эпохи; застонав, он прогнал их от себя. На Охотничьем лугу он повалился ничком в траву, и небеса были черны над ним, и прикосновение каждой былинки жгло. «И это мой отец! – стонал он. – От него получил я жизнь; плоть на этих костях от него, и за хлеб, вскормивший меня, заплачено этими ужасами». Он вспоминал мать, лбом прижимаясь к сырой земле. Он думал о бегстве, но куда было ему бежать? Думал о другой, лучшей жизни, но могла ли быть такая жизнь в этом обиталище диких и злобных гиен?
Время до казни прошло, как в кошмаре. Он встретился с отцом, но не смотрел на него, не мог с ним разговаривать. Казалось, не было человека, от которого хоть на мгновение могли бы укрыться эти признаки горячей вражды, но верховный судья был слишком толстокож, чтобы что-нибудь почувствовать. Будь милорд в этот день разговорчив, перемирие не могло бы сохраниться; но, по счастью, он пребывал в угрюмо-молчаливом настроении, и Арчи безмолвно вынашивал замысел бунта прямо под жерлами пушек флагманского фрегата. С высоты его девятнадцати лет ему представлялось, что он от рождения отмечен для некоего небывалого подвига, что ему назначено восстановить низвергнутую Добродетель на ее троне и прогнать с него Дьявола, рогатого узурпатора с раздвоенным копытом. Прельстительные якобинские идеи, которые он раньше всегда опровергал на диспутах в Дискуссионном клубе, вдруг заполонили его душу, и, куда бы он ни шел, казалось ему, всюду вокруг него смыкалось почти осязаемое кольцо новых понятий и нового долга.
В назначенное утро Арчи был на месте предстоящей казни. Он видел глумливую чернь, видел, как осужденный дрожа поднимался на эшафот. Он наблюдал за пародией на молитву, лишившей несчастного последних остатков мужества. Затем наступил жестокий миг самого уничтожения, и тело задергалось под перекладиной, точно сломанная игрушка-дергунчик. Арчи был готов к самому ужасному, но не к этой трагической пошлости. Мгновение он стоял молча, а потом на всю площадь раздалось: «Здесь свершилось безбожное убийство!» – И его отец, отвергнув, конечно, смысл этих слов, мог бы признать своим громовой голос, их произнесший.
Фрэнк Иннис насильно увел его с площади. Эти два красивых юноши вместе проходили курс наук и вместе появлялись всюду, испытывая род взаимной симпатии, основанной главным образом на том, что наружностью нравились друг другу. Настоящей близости между ними никогда не было; Фрэнк был натура мелкая и насмешливая, ни возбуждать, ни испытывать истинных дружеских чувств он не умел; так что отношения между молодыми людьми оставались чисто внешними: их объединяли только общие занятия да общий круг знакомств, дававший пищу для шутливой болтовни. Тем более чести Фрэнку, что он испугался за Арчи, заметив его состояние, и решил до вечера не отпускать его от себя или хотя бы следить за ним. Но Арчи, только что бросивший вызов – богу, сатане? – не пожелал и слушать товарища.
– Я не пойду с вами, сэр, – сказал он Фрэнку. – Ваше общество мне сейчас нежелательно; я хочу остаться один.
– Брось, Уир, право же, не будь смешным! – настаивал Иннис, не выпуская его рукава. – Не могу же я тебя отпустить, пока не буду точно знать, что ты задумал сделать. А вот это уж и совсем напрасно, – когда Арчи сделал внезапное воинственное движение. – Вышло бог знает что, ты же сам понимаешь. И ты отлично знаешь, что я выполняю роль доброго самаритянина. Единственное, чего я добиваюсь, – это чтобы ты успокоился.
– Если все, что тебе нужно, Иннис, – это спокойствие, – ответил Арчи, – и ты обещаешь избавить меня от своей опеки, я готов сообщить тебе, что намерен отправиться на прогулку за город любоваться красотами ландшафта.
– Честное слово?
– У меня нет привычки лгать, мистер Иннис, – отвечал Арчи. – Имею честь пожелать вам всего наилучшего.
– А ты не забыл про заседание? – спросил Иннис.
– Про заседание? – повторил Арчи. – О, нет, я про заседание не забыл.
И молодой человек унес свой страждущий дух за городские пределы и целый день бродил по проселкам и тропам в бесцельном паломничестве душевной боли; в то время как друг его с ухмылкой на устах поспешил распространить известие о внезапном умопомрачении Уира и созвать как можно больше народу на очередной диспут в Дискуссионном клубе, на котором – вот увидите! – наверняка произойдут дальнейшие забавные события. Вряд ли сам Иннис верил в собственное предсказание; я полагаю, что он хотел лишь возбудить своим рассказом как можно больше разговоров – не из вражды к Арчи, а просто ради удовольствия видеть вокруг себя заинтересованные лица. Но как бы то ни было, слова его оказались пророческими. Арчи не забыл про заседание клуба; он появился там в назначенный час и еще до окончания вечера глубоко ошеломил своих товарищей, надолго запомнивших этот случай. Была как раз его очередь председательствовать на диспуте. Они собрались в той самой комнате, где и сегодня происходят заседания Дискуссионного клуба, только портретов там еще не было, ибо те, с кого их потом написали, в те годы только начинали свою деятельность. Та же люстра с множеством свечей проливала свет на головы присутствующих; быть может, даже стул под ним был тот же самый, на котором с тех пор сидели столь многие из нас. По временам председатель, казалось, забывал, о чем идет спор, но и в эти минуты лицо его хранило выражение решимости и энергии. Потом, как бы очнувшись, он начинал вмешиваться в прения, вставлял ядовитые реплики и налагал направо и налево штрафы, пуская в ход тяжелую артиллерию, к которой обычно так редко и скупо прибегают у нас председательствующие. Ему и невдомек было, как походил он при этом на своего отца, но товарищи видели это сходство и посмеивались. Возвышаясь в кресле надо всеми присутствующими, он казался недосягаемым для всякой угрозы скандала; но решение уже было принято: он намеревался замкнуть круг своего вызова. Сделав знак Иннису (который только что был им подвергнут штрафу и пытался оспорить решение председателя), чтобы тот сел на его место, Арчи Уир спустился с возвышения и подошел к камину, где яркий свет свечей падал сверху на его бледное лицо, а огонь сзади одевал красным ореолом его тонкую фигуру. Он внес дополнительное предложение – обсудить вместо следующей темы, значившейся в списке, вопрос о том: «Совместима ли смертная казнь с божьими заповедями и с благом человека?»
В зале возникло замешательство, почти переполох, так дерзко прозвучали эти слова в устах единственного сына судьи Гермистона. Предложение Арчи не получило поддержки, в противовес была выдвинута прежняя тема, принята единогласно, и скандал, казалось бы, замяли. Но Иннис торжествовал: его пророчество оправдалось. Наряду с Арчи он стал героем вечера; вокруг него, когда заседание окончилось, толпились чуть не все, кто там был, а к Арчи подошел только один человек.
– Уир, дружище! – сказал этот храбрый член Дискуссионного клуба, дружески беря его под руку. – Это была смелая вылазка!
– Это не вылазка, – мрачно отозвался Арчи, – а скорее целая война. Я видел сегодня утром, как был повешен этот несчастный, и до сих пор испытываю омерзение.
– Гм-гм, – произнес его собеседник, сразу, словно обжегшись, выпустил его руку и поспешил к тем, с кем ему было проще.
Арчи остался один. Последний из верных – или это был просто храбрейший из любопытных? – покинул его. Он смотрел, как черная толпа студентов распадалась на группки, которые, шепчась или крича, расходились по улице в разные стороны. И оторванность от других в эту минуту угнетала его как знамение и символ всего его будущего. Взращенный в атмосфере непрерывного страха, среди трепещущих слуг и домочадцев, в четырех стенах, которые при первом грозном звуке хозяйского голоса сами замирали и погружались в безмолвие, он вдруг очутился над красной пропастью войны и с ужасом увидел, как она глубока и опасна. Побродив по тускло освещенным улицам, он сделал круг и вышел к отчему дому сзади. Здесь, на задворках, он долго стоял и смотрел на освещенное окно, за которым был кабинет отца. И чем дольше он смотрел, тем неяснее становился в уме его образ человека, который сидел там, за шторами, неутомимо листая страницы судебных процессов и отрываясь только затем, чтобы выпить глоток портвейна, или вставал из-за стола и тяжело шел вдоль книжных полок, чтобы достать нужный том и проверить какую-то ссылку. Неужели жестокий судья и этот трудолюбивый, бесстрастный книжник – одно и то же лицо? Связующее звено между ними ускользало от Арчи; немыслимо было предвидеть поступки такой двойственной натуры; он уже спрашивал себя, разумно ли было ему начинать то, что совершенно неизвестно еще как кончится; и наконец, принося неуверенность, пришла мысль: а не совершает ли он предательства по отношению к родному отцу? Ибо он дважды предал его – дважды бросил ему вызов в присутствии неисчислимых свидетелей, открыто нанес ему удар на глазах у толпы. Кто дал ему право судить отца в делах столь сложных и значительных? Никто. Такая роль еще, быть может, подобает человеку чужому, но в родном сыне – никуда не денешься! – это предательство. И теперь можно было ожидать последствий самых неожиданных, ведь один только бог может предсказать, как именно отнесется к непростительному проступку сына лорд Гермистон, этот человек с двумя такими разными, такими несовместимыми характерами.
Эти и подобные им опасения мучили Арчи всю ночь и не оставили его и тогда, когда он поднялся пасмурным зимним утром; они сопровождали его из аудитории в аудиторию, обостряли его чувствительность к любым переменам в обращении товарищей, звучали, заглушая голоса профессоров, и вечером вместе с ним возвратились домой не усмиренные, а даже еще возросшие. Причиной тому была случайная встреча со знаменитым доктором Грегори. Арчи в задумчивости стоял у освещенного окна книжной лавки, напрасно ища в себе мужества для предстоящего объяснения с отцом. Утром (как это уже повелось между ними давно) они встретились и разошлись, едва обменявшись приветствиями; было очевидно, что милорд еще ни о чем не слыхал. При мысли о грозном лике верховного судьи у его сына возникала даже робкая надежда, что вообще не найдется храбреца, который рискнул бы передать ему чьи-то пересуды. А если так, спрашивал себя Арчи, способен ли он будет выступить снова? Он спрашивал себя и не находил ответа. И как раз в эту минуту на плечо ему вдруг легла рука и кто-то негромко проговорил у самого его уха: «Любезный мистер Арчи, вам следует зайти ко мне».
Он вздрогнул, обернулся и оказался лицом к лицу с доктором Грегори.
– Почему я должен к вам заходить? – спросил Арчи с вызовом отчаяния.
– Потому что у вас очень больной вид, – ответил доктор, – и совершенно очевидно, что вы нуждаетесь в помощи, мой юный друг. Хороших людей, как вам известно, на свете немного, и не всякого было бы так жаль потерять, как вас. Не о всяком пожалеет сам лорд Гермистон.
Доктор с улыбкой кивнул и пошел дальше.
В следующее мгновение Арчи нагнал его и, в свою очередь, хотя и гораздо грубее, ухватил за локоть.
– О чем это вы? О чем вы говорили? Почему вы думаете, что лорд Гермистон… что мой отец пожалел бы обо мне?
Доктор повернулся к нему и оглядел его с ног до головы с профессиональным интересом. И гораздо более тупой человек, чем доктор Грегори, догадался бы, в чем дело; но девяносто девять человек из ста, будь даже они все такими же добрыми, как он, обязательно бы все испортили каким-нибудь бестактным благожелательным преувеличением. Доктор поступил правильнее. Он хорошо знал отца. По этому страдальчески бледному, умному лицу он мог составить себе представление и о сыне. И без прикрас и обиняков рассказал ему чистую правду.
– Когда у вас была корь, мистер Арчибальд, вы болели очень тяжело, я думал, что вы так и уплывете у меня между пальцев, – начал он. – Так вот, ваш отец тогда был полон тревоги за вас. Откуда я знаю, спросите вы? Да просто у меня наметанный глаз. Знак, который я увидел, десять тысяч других людей не заметили бы; и возможно – я говорю: возможно, потому что ваш отец не выказывает свои чувства, – возможно, что это был единственный знак. Вот как было дело. Однажды я вошел к нему и сказал: «Гермистон, в состоянии ребенка произошла перемена». Он не произнес ни звука, только посмотрел на меня, как дикий зверь, если вы простите мне такое сравнение. «Перемена к лучшему», – добавил я. И отчетливо услышал, как он перевел дух.
Не дав впечатлению рассеяться, доктор наклонил голову в допотопной треуголке, с которой он не желал расставаться, повторил, подняв брови: «Отчетливо» – и удалился, оставив Арчи в полной растерянности.