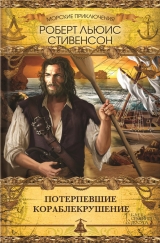
Текст книги "Потерпевшие кораблекрушение"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как-то на один из наших обычных пикников явился инкогнито сам Пинкертон под руку со своей алгебраичкой, и, надо сказать, он стал душой своей двадцатки. Мисс Мэйми оказалась довольно хорошенькой девушкой с огромными ясными глазами, прекрасными манерами и удивительно правильной речью. Поскольку нарушать инкогнито Пинкертона было строжайше запрещено, я не имел возможности познакомиться с мисс Мэйми поближе, однако на другой день мне было сообщено, что она сочла меня «остроумнейшим человеком из всех, с кем ей приходилось встречаться».
«Не очень же ты разбираешься в остроумии», – подумал я. Однако не скрою, что такого мнения придерживалась не только она. Одна из моих острот даже обошла весь Сан-Франциско, и я слышал, как ею, не подозревая о моем присутствии, щеголяли в кабачках. Бремя славы становилось с каждым днем тяжелее: стоило мне появиться на улице, особенно в не слишком фешенебельном квартале, как кругом уже слышалось: «Кто это?» – «Как – кто!.. Да это же Дромадер Додд!» Или с уничтожающей насмешкой: «Ты что, не знаешь мистера Додда, распорядителя пикников? Ну и ну!» Должен сказать, что наши пикники, хотя и несколько вульгарные, были все же веселы, безыскусственны и доставляли их участникам большую радость, так что, несмотря на все заботы, руководить ими часто оказывалось для меня истинным удовольствием.
По правде говоря, этому удовольствию мешали только два обстоятельства. Во-первых, необходимость шутить с девочками-подростками, которых я терпеть не мог, а во-вторых… Но это требует некоторых объяснений. В дни моего детства я, разумеется, научился (и, к сожалению, не разучился и по сей день) петь известный романс «Перед битвой». Надо сказать, что мой голос обладает следующей особенностью: когда я беру верхние или нижние ноты, их практически никто не слышит. Люди понимающие объясняли мне, что я пою горлом. Впрочем, даже обладай я вокальным талантом, «Перед битвой» – это не та песня, которую я стал бы петь: когда мы вырастаем, наши вкусы меняются. Однако, истощив во время одного из наиболее скучных пикников все свои другие светские таланты, я в отчаянии исполнил эту песню. То была роковая ошибка! Либо на пароходе завелся пассажир-старожил (хотя я никак не мог его выявить), либо сам пароход впитал эту традицию, но, во всяком случае, с тех пор, едва мы успевали отплыть от пристани, как среди публики распространялся слух, что мистер Додд – замечательный певец, что мистер Додд поет «Перед битвой» и, наконец, что мистер Додд сейчас споет «Перед битвой». Таким образом, это стало обязательным номером, так же как падение топора в воду. И воскресенье за воскресеньем я, пуская петуха за петухом, исполнял пресловутую песенку, после чего меня награждали щедрыми аплодисментами. Великодушие человеческого сердца не знает границ – меня неизменно просили исполнить песенку на «бис».
Следует, однако, сказать, что мои труды, включая даже песню, оплачивались очень щедро. В среднем после каждого воскресенья мы с Пинкертоном делили между собой пятьсот долларов чистой прибыли. К тому же наши пикники, хотя и косвенным образом, помогли мне заработать весьма приличную сумму. Произошло это в конце лета, после «Прощального первоклассного маскарада». К этому времени многие корзины сильно пострадали, и мы решили продать их, с тем чтобы весной, когда пикники возобновятся, приобрести новый набор. Среди покупателей был ирландец, по фамилии Спиди, к которому, не получив обещанных денег, я, после того как несколько моих писем остались без ответа, отправился домой лично, внутренне удивляясь тому, что вдруг оказался в роли кредитора. Спиди встретил меня очень воинственно, хотя и был явно напуган. Заплатить он не мог, а корзинки уже успел перепродать и ехидно предложил мне обратиться в полицию. Мне не хотелось терять собственные деньги, не говоря уж о деньгах Пинкертона, и, кроме того, наглое поведение нашего должника меня возмутило.
– А вы знаете, мистер Спиди, что я могу отправить вас в тюрьму? – сказал я, желая припугнуть его.
Мои слова были услышаны в соседней комнате. Оттуда немедленно выбежала толстая румяная ирландка и принялась убеждать и уговаривать меня:
– Да неужто у вас хватит духу сделать это, мистер Додд? Всем же известно, какой вы добрый и хороший человек. И лицо-то у вас такое доброе, ну точь-в-точь как у моего покойного брата. Оно, конечно, правда, что он любил выпить лишнего, от него, бедняги, так и разило… Да и в доме-то у нас ничего нет, кроме мебели да ентих акций! Ну возьмите вы акции, мистер Додд. Уж так-то дорого они мне обошлись, а говорят, и гроша ломаного не стоят.
Не устояв перед ее мольбами, а кроме того, раскаиваясь в собственной суровости, я в конце концов согласился взять большую пачку так называемых «дутых» акций, на которые эта превосходная, хотя и несколько бестолковая женщина потратила свои заработанные тяжким трудом сбережения. Нельзя сказать, что эта сделка была для меня выгодна, но, во всяком случае, она успокоила ирландку, а с другой стороны, я не слишком рисковал, так как этим акциям (я назову их «Кетамаунтский серебряный рудник») все равно уже дальше падать было некуда.
Месяца два спустя я увидел в биржевой газете, что акции Кетамаунтского рудника стали подниматься и к вечеру «енти акции» стоили уже целое состояние. Наведя справки, я узнал, что в заброшенном руднике была обнаружена новая большая жила, которая обещает чудеса. Вот прекрасная тема для философских размышлений: сколько раз в заброшенных рудниках, акции которых стояли на нуле, обнаруживались новые жилы! Супруги Спиди, нимало того не подозревая, избрали правильную политику выжидания, и их акции не попали в руки синдикату, который нарочно «заморозил» рудник, чтобы по дешевке скупить все его акции. Если бы они продержались немного дольше и я не пришел требовать свои деньги, миссис Спиди уже щеголяла бы в шелковых платьях.
Разумеется, я не мог воспользоваться подобной случайностью и отправился к Спиди, чтобы вернуть им их акции. В доме у них стоял страшный шум. Туда явились все соседи (сами любившие играть на бирже), чтобы выразить свое сочувствие, и в центре этой группы сидела обливающаяся слезами миссис Спиди.
– Пятнадцать лет, – причитала она, когда я вошел, – копила я эти деньги и даже детям молока не покупала, бессердечная я тварь! И ездила бы я теперь в карете, будь в мире справедливость! И будь он проклят, этот Додд! Как только он переступил наш порог, так я и поняла, что это сам дьявол.
Тут она увидела меня, но даже драматизм этой минуты не идет ни в какое сравнение с тем, что за этим последовало, ибо, когда выяснилось, что я пришел вернуть потерянное богатство, и когда миссис Спиди (предварительно облив мою грудь слезами) отказалась его принять, и когда мистер Спиди (вызванный для этой цели из соседнего кабачка) присоединился к этому отказу, и когда я стал настаивать на своем, а они настаивали на своем, а соседи громогласно поддерживали каждого из нас по очереди, и когда, наконец, мы договорились считать себя совладельцами акций и делить доходы на три части – одну мне, одну мистеру Спиди, одну его супруге, – представьте сами, какая буря восторгов бушевала в этой маленькой, скудно обставленной комнате, где в одном углу стояла швейная машина, в другом спали малыши, а грязные стены были украшены картинами, изображавшими президента Гарфилда и битву при Геттисберге. Кто-то из растроганных соседей принес бутылку портвейна, и мы распили его, мешая со своими слезами.
– Пью за ваше здоровье, милый вы человек! – рыдала миссис Спиди, особенно растроганная моей галантностью в вопросе о третьей доле. – И все мы пьем за его здоровье, за мистера Додда, распорядителя пикников, самого известного человека во всей округе, и я молю бога, милый вы человек, чтобы сохранял он вас в здравии и счастье до самой старости!
В конце концов оказалось, что наибольшую выгоду от этих акций получил я, потому что я продал свою треть, когда она стоила пять тысяч долларов, а Спиди, любившие риск, держались за свои акции, пока синдикат не начал снова «замораживать» рудник, и с трудом выручили лишь четверть этой суммы. Оно было и к лучшему, потому что почти все эти деньги были вложены в новые акции, и, когда я в следующий раз увидел миссис Спиди, на ней еще было великолепное платье, купленное во времена прежнего успеха, но она уже проливала слезы по поводу новой катастрофы:
– Опять мы остались без гроша, милый вы мой человек! Все деньги, какие у нас были, и швейная машинка, и сюртук Джима – все мы вложили в «Золотой Запад», а эти подлецы перестали платить дивиденды.
К концу этого года мое финансовое положение было таково.
Я получил:
за акции Кетамаунтского серебряного рудника… 5000 долларов
за пикники……………………………………………… 3000 долларов
за лекцию……………………………………………… 600 долларов
прибыли с капитала, вложенного в дело Пинкертона… 1350 долларов
–
Всего…………………………………………………… 9950 долларов
К этому надо прибавить:
остаток от дара моего деда………………………… 8500 долларов
С другой стороны:
я истратил……………………………………………… 4000 долларов
Следовательно:
у меня оставалось………………………………… 14 450 долларов
Не стыжусь сказать, что я смотрел на эту цифру с радостью и гордостью. Восемь тысяч долларов из этой суммы были вполне осязаемы и лежали в банке, остальные же носились неведомо где (пути их можно было проследить только по нашим счетным книгам), подчиняясь магическим чарам колдуна Пинкертона. Мои доллары пробирались к берегам Мексики, где им грозили морские волны и береговая охрана; они звенели на стойках пивных в городе Томстоне, штат Аризона; они сияли на игорных столах в лагерях золотоискателей – даже воображение не могло уследить за их полетом, так быстро и так далеко разлетались они, подчиняясь волшебному жезлу колдуна. Но, где бы они ни были, они оставались моими, а кроме того, я получал весьма значительные дивиденды. «Мое состояние» называл я их. И надо сказать, что, выраженная в долларах или даже английских фунтах, это была значительная сумма. Ну, а во французских франках она казалась настоящим богатством. Вероятно, я проговорился, и вы уже догадываетесь, о чем я мечтал, на что надеялся, и готовы уже обвинить меня в непоследовательности, но выслушайте сперва мои оправдания и рассказ об изменениях, которые произошли в судьбе Пинкертона.
Примерно через неделю после пикника, на который он явился с Мэйми, Пинкертон признался мне в своих чувствах к ней. Я видел, с каким выражением смотрели на него ясные глаза Мэйми во время пикника, и посоветовал робкому влюбленному открыть ей свое сердце. На следующий вечер он уже вел меня в гости к своей невесте.
– Ты должен стать ее другом, Лауден, как ты стал моим, – растроганно просил он.
– Наговорив ей кучу неприятностей?.. Вряд ли таким образом можно завоевать дружбу молодой девушки, – ответил я. – Благодаря пикникам у меня большой опыт в этом отношении.
– Да, ты просто великолепен во время этих пикников. Не могу выразить, как я тобой восхищаюсь! – вскричал он. – Но что неприятного можешь ты ей сказать? Она – само совершенство! Не понимаю, чем я мог заслужить ее любовь. И какая это ответственность для такого неотесанного малого, как я, да к тому же еще не всегда правдивого!
– Подбодрись, старина, подбодрись! – сказал я.
Однако, когда мы дошли до пансиона, где жила Мэйми, он был чрезвычайно взволнован.
– Это Лауден, Мэйми, – сказал он, чуть не плача, – полюби его, у него великая душа.
– Я хорошо вас знаю, мистер Додд, – сказала она любезно. – Джеймс неустанно восхваляет ваши добродетели.
– Дорогая моя, – ответил я, – когда вы поближе узнаете нашего друга, вы сделаете большую скидку на его доброту и горячее сердце. Мои добродетели сводились к тому, что я позволял ему кормить и одевать меня и трудиться ради меня не покладая рук, когда все это было для него нелегко. Если я сейчас жив, этим я обязан ему. Лучшего друга ни у кого не было. Вы должны хорошо о нем заботиться, – прибавил я, обнимая Пинкертона за плечи, – и быть ему верной помощницей, потому что он в этом нуждается.
Эта речь произвела на Пинкертона сильное впечатление, и боюсь, что на Мэйми тоже. Я готов признать, что мои слова не были особенно тактичными. «Когда вы поближе узнаете нашего друга» – выражение не вполне удачное, и даже «быть ему верной помощницей» могло показаться оскорбительным. Однако я уверен, вы согласитесь со мной, что всю мою тираду целиком нельзя назвать самодовольно-покровительственной. И все же, хотя именно таково было мнение мисс Мэйми, я не могу ее особенно винить, так же как и самого себя: Пинкертон наверняка так надоел ей своими рассказами обо мне, что бедняжка, вероятно, не могла уже спокойно слышать даже моего имени. Поэтому, что бы я ни говорил, она слушала бы меня с одинаковым раздражением.
Итак, у меня появилось два новых основания уехать в Париж. Во-первых, Джим собирался жениться и, следовательно, ему больше не грозило одиночество, а вовторых, я не понравился его невесте, и следовало избавить ее от моего общества. Как-то поздно вечером я заговорил с Пинкертоном о моем новом плане. Этот день был отмечен для меня великим событием: я положил в банк пять тысяч долларов, вырученных от продажи Кетамаунтских акций, и, поскольку Джим в свое время отказался от своего права на эти акции, весь риск и все доходы достались мне. Поэтому я счел себя вправе отпраздновать свой успех пивом с солеными галетами. Для начала я сказал Пинкертону, что если это причинит ему какие-нибудь затруднения в делах или будет ему неприятно, то я больше к этому вопросу не возвращусь. Он мой лучший, мой самый верный друг, и я готов для него на все. Но в то же самое время я прошу его точно взвесить, насколько я ему нужен, ибо такая жизнь не удовлетворяет меня и все мои помыслы, все мои истинные устремления влекут меня совсем к другому. Кроме того, я должен напомнить ему, что он собирается вступить в брак, что у него появятся новые интересы и что наша горячая дружба может в какой-то степени стать неприятной его жене.
– Ах нет, Лауден, в этом ты ошибаешься! – горячо перебил меня Пинкертон. – Она высоко тебя ценит.
– Ну, тем лучше, – продолжал я.
И затем я указал ему, что наша разлука будет недолгой, что, судя по состоянию наших дел, года через два он может приехать ко мне в Париж, приобретя состояние, хотя и не слишком значительное по американским масштабам, но для Франции огромное; что мы можем соединить наши средства и купить дом в Париже для зимы и дачу в Фонтенбло для лета, и будем наслаждаться безоблачным счастьем и вдали от золотой лихорадки Запада воспитывать из маленьких Пинкертонов практичных, трудолюбивых людей с художественными вкусами.
– Так пусть же я уеду, – закончил я, – не как дезертир, а как авангард, возглавляющий марш пинкертоновского отряда.
Так я убеждал его и молил с большим чувством, а он сидел напротив меня, опираясь подбородком на руки, и (если не считать вышеприведенного возгласа) хранил глубокое молчание.
– Я ждал этого, Лауден, – сказал он наконец, когда я кончил, – и мне это больно: такой уж я эгоист. А кроме того, твой отъезд нанесет смертельный удар пикникам. Незачем отрицать, что ты был душой этого дела, и без тебя, без твоего жезла, твоей любезности, остроумия, шуток и галантности будет утрачено самое главное – царившая на них атмосфера дружеского веселья. Но ты прав, и тебе следует уехать. Можешь рассчитывать на сорок долларов в неделю, а если Дипью-Сити – это же один из естественных центров Калифорнии – разрастется так, как я рассчитываю, эту сумму можно будет по меньшей мере удвоить. Однако и сорок долларов не такие уж плохие деньги. Вспомни, что два года назад ты вынужден был чуть ли не просить милостыню.
– Я и просил ее, – сказал я.
– А эти бессердечные негодяи ничем тебе не помогли, и теперь я этому рад. Я в восторге, что ты возвращаешься победителем! Так и надо твоему мэтру и этому бесчувственному Майнеру! Дай только акциям Дипью-Сити подняться, и ты поедешь в Париж. А через два года, день в день, я приеду туда к тебе с Мэйми, господь да благословит ее!
Мы беседовали до поздней ночи. Я так наслаждался моей вновь обретенной свободой, а Пинкертон так гордился моим торжеством, так радовался моему счастью, с такой нежностью говорил об избранной им невесте, а вся комната до такой степени наполнилась воздушными замками и дачами в Фонтенбло, что сон, разумеется, бежал от наших глаз, и, только когда часы пробили три, Пинкертон начал превращать свой патентованный диван в кровать.
ГЛАВА VIII
ЛЮДИ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Принято смотреть на жизнь так, словно она совершенно точно, как, например, сон и явь, разделяется на развлечение и дело. Покончив с деловой стороной моей жизни в Сан-Франциско, в этой главе я буду говорить о развлечениях, и вы увидите, что они сыграли свою роль в истории того джентльмена, о котором я скоро собираюсь повести речь.
Как ни был я занят днем, почти все вечера оказывались в полном моем распоряжении – обстоятельство тем более приятное, что я жил теперь в незнакомом мне и чрезвычайно – живописном городе. Из «поклонника Парижа», как я некогда себя называл, я стал (или пал до того, что стал) любителем прогулок по набережным, созерцателем пристаней, завсегдатаем подозрительных кварталов, искателем знакомств с оригинальными людьми. Я посещал мексиканские и китайские игорные притоны, заседания немецких тайных обществ, матросские ночлежки и прочие опасные и таинственные места. Я видел, как смуглую ладонь пойманного на передергивании мексиканца-шулера пригвождали ножом к столу, как моряков на улицах оглушали сильным ударом по голове, чтобы, пока они не пришли в себя, переправить их на борт корабля, где была нехватка рабочих рук; как поссорившиеся буяны обменивались выстрелами и клубы порохового дыма (вместе с остальной компанией) валили из дверей кабачка. Посещал я и Ноб-Хилл – тоже своеобразные трущобы, где живут только миллионеры. Они обитают на вершине холма, вздымающегося над городским шумом, и пассат проносится по пустынным улицам между их дворцами.
Но Сан-Франциско интересен не только сам по себе.
Это не просто самый своеобразный город в Штатах и самая огромная плавильная печь для переработки национальностей и драгоценных металлов. Это ворота в Тихий океан, порт, откуда ведут пути в иной мир, к более ранним эпохам истории человечества. В этой гавани всегда собирается множество кораблей, обогнувших мыс Горн, приплывших из Китая, из Сиднея, из Индии, но среди этих великанов морского простора прячутся иные суда: шхуны с низкой осадкой, изящным корпусом и такелажем, как у яхты, ведущие торговлю на полинезийских архипелагах, шхуны, на чьих палубах мелькают бронзовые ясноглазые полинезийские матросы, говорящие на мягком, звучном языке, и чьи большие шлюпки рассказывают повесть о реве прибоя на коралловых рифах. Эти шхуны приходят и уходят, никем не замеченные, и даже в газетах редко-редко мелькнет строчка в столбце хроники: «Такая-то шхуна отплыла на острова Южных Морей». Они увозят пестрый груз консервированной лососины, джина, тюков яркого ситца, дамских шляп и штампованных часов, для того чтобы через год вернуться нагруженными по самую рубку копрой, или черепаховыми щитами, или жемчужными раковинами. Но у меня в моей роли поклонника Парижа эта торговля среди незнакомого мира южных островов не вызывала даже любопытства. Я стоял там на самом дальнем берегу Запада в наши дни. А тысячу семьсот лет назад и в семи тысячах миль к востоку римский легионер, быть может, точно так же стоял на стене Антонинов и смотрел на запад, где высились горы, принадлежавшие пиктам. Какое бы расстояние и время ни разделяли нас, я, когда глядел на просторы Тихого океана, стоя под маяком, был наследником и подобием этого легионера: мы оба стояли на границе Римской империи (западной цивилизации, как мы выражаемся теперь) и смотрели в даль, свободную от римского влияния. Но я смотрел назад и мечтал только о Париже, и потребовалось много связанных друг с другом происшествий, чтобы мое равнодушие сменилось интересом и даже жгучим любопытством, которое, впрочем, я не предполагал удовлетворить.
Первое из этих происшествий познакомило меня с неким жителем Сан-Франциско, известным далеко за пределами этого города. Его имя дорого всем, кто любит хорошую прозу. Я как-то забрел в еще незнакомый мне район города, где на обрывистых песчаных холмах, в глубоких песчаных лощинах лепились одинокие старинные дома. Город наступал на него со всех сторон. Уже цепи уличных фонарей проходили через него, не обрываясь, и отовсюду доносился шум экипажей и прочие звуки городской жизни. Не сомневаюсь, что теперь от него не осталось и следа, но в те дни (особенно по утрам, когда я туда ходил) это был восхитительный мирный приют, чем-то напоминавший деревню.
На одном из песчаных холмов стояло несколько домиков, окруженных садами; я часто подымался туда по осыпающейся под ногами тропинке и, расположившись в тени крайнего из домов, принимался рисовать. В первый же день я заметил, что из окна нижнего этажа за мной наблюдает моложавый красивый мужчина, преждевременно облысевший, с очень живым и симпатичным лицом. На второй день мы как-то вполне естественно поклонились друг другу. На третий день он вышел ко мне, похвалил мой набросок и с непринужденным дружелюбием истинного любителя искусства пригласил меня к себе. И скоро я уже сидел в комнате, представлявшей собой настоящий музей редкостей, – кругом стояли, висели, лежали весла, боевые дубинки, корзины, грубо вытесанные каменные идолы, украшения из раковин, чаши из скорлупы кокосового ореха, белоснежные перья из копры и множество других свидетельств и примеров культуры иного, неведомого мне мира и неведомого народа. А как увлекательны были объяснения моего нового знакомого! Несомненно, вы читали его книгу. Вы уже знаете, как он путешествовал и голодал, как он жил на островах Южных Морей, и вы поймете, что для меня после долгих месяцев конторской работы и пикников живая и интересная беседа с ним была полна особого очарования. За первой встречей последовали другие, и вот так мне довелось услышать названия этих островов и подпасть под их чары. Уже после второй встречи я испытывал невыразимое счастье, когда возвращался домой, сжимая под мышкой «Ому» Мелвилла и описание приключений моего нового друга.
Второе происшествие носило более драматический характер и оказало самое непосредственное влияние на мое будущее. Я прогуливался по набережной и любовался бухтой. Большой барк, примерно в 1800 тонн, огибал мыс, держась как-то особенно близко к берегу. Я смотрел на него с ленивым безразличием, как вдруг заметил, что двое каких-то людей перескочили через фальшборт, спрыгнули в подошедшую к кораблю лодку и, вырвав у лодочника весла, начали яростно грести по направлению к тому месту, где стоял я. Не прошло и нескольких минут, как они уже бежали вверх по лестнице, и я заметил, что оба они слишком хорошо одеты для простых матросов (одежда первого из них была просто щеголеватой) и что оба находятся во власти какого-то сильного чувства.
– Где здесь ближайший полицейский участок? – крикнул бежавший впереди.
– Вон там, – ответил я и побежал рядом с ними. – Что случилось? Что это за корабль?
– Это «Жнец», – ответил он. – Я первый помощник, а мой спутник – третий, и нам необходимо успеть в участок до матросов. Дело в том, что они могут обвинить нас в пособничестве капитану, а это мне совсем не по вкусу. Я на своем веку плавал со всякими людьми, но такого, как наш старик, еще не видывал. Как он начал палить, так и палил без передышки в течение всего плавания, а последнего человека подстрелил всего шестнадцать часов назад. Хоть команда у нас вся как – на подбор головорезы, но никто и пикнуть не смел, когда капитан принимался палить направо и налево.
– Ну, теперь ему конец, – заметил третий помощник. – Больше уж он в море не выйдет.
– Не говорите глупостей! – возразил первый. – Если ему удастся в целости добраться до берега и если его сразу не линчует возмущенная толпа, он еще сумеет выкарабкаться. У судовладельцев память получше, чем у публики, и они его не оставят: ведь такого опытного капитана поискать.
– Да уж что верно, то верно. На «Жнеце» жалованье матросам не платят вот уже третий рейс.
– Как не платят? – воскликнул я, потому что был еще новичком в вопросах мореходства.
– То есть матросам не платят, – объяснил первый помощник. – Они сбегают, не дожидаясь расчета. Да так заведено не только на «Жнеце».
Тут я заметил, что мы давно уже перешли с бега на шаг. И, надо сказать, я сильно подозреваю, что бешеная спешка вначале была чистым Спектаклем. Во всяком случае, когда мы пришли в полицейский участок и офицеры со «Жнеца» сообщили об ужасной судьбе пяти матросов, убитых во время плавания (одних капитан застрелил в припадке бешенства, а других – с жестоким хладнокровным расчетом), то было уже поздно принимать меры. Прежде чем полицейские успели добраться до корабля, негодяй улизнул на берег, смешался с толпой, а затем укрылся в доме своего друга. На корабле остались только его жертвы. Он правильно сделал, что поторопился. Когда жители приморского района узнали о случившемся, когда последний из раненых моряков был отвезен в больницу, когда те, кому удалось уцелеть а этой плавучей бойне, поведали повесть о своих злоключениях и показали свои рубцы, весь город был взбудоражен. Моряки плакали на глазах у всех. Хозяева ночлежек, давно привыкшие ко всяким зверствам, и особенно к зверствам по отношению к матросам, в негодовании потрясали кулаками, и, если бы капитан «Жнеца» появился в это время на улице, часы его были бы сочтены. Но, по слухам, его в этот же вечер спрятали в бочке и переправили на другой берег бухты. И вот, после того как он совершил тягчайшие преступления на двух кораблях, теперь он командует третьим, плавающим по Атлантическому океану.
Как я уже сказал, я сильно подозреваю, что мистер Нейрс (старший помощник) сознательно помог своему капитану спастись. Он всегда был сторонником законности и осторожности и всегда стоял на страже офицерских привилегий. Однако утверждать это с полной уверенностью я не берусь. Хотя впоследствии я узнал его очень близко, он продолжал хранить об этом молчание, да и вообще ничего не рассказывал о плавании «Жнеца». Вероятно, у него были на то свои причины. Пока мы шли в полицейский участок, он несколько раз заявлял Джонсону, третьему помощнику, что не только донесет на капитана, но и отдаст себя в руки полиции. Однако в конце концов он изменил свое решение, сказав: «Все это наверняка кончится ничем, да и вообще у меня есть много хороших друзей в Сан-Франциско». И действительно, все кончилось ничем, хотя это стало ясно не сразу. А мистер Нейрс почти немедленно кудато скрылся из участка и затем был спрятан почти так же надежно, как и его капитан.
С Джонсоном же я продолжал часто встречаться. Мне так и не довелось узнать его национальность: сам он называл себя американцем, но говорил он по-английски, как иностранец, и в его манерах также не было ничего американского. Скорее всего он был шведом или датчанином, но долго служил на английских и американских кораблях. Весьма возможно, что, как и многие его соотечественники, постоянно плававшие на иностранных кораблях, он успел основательно забыть родной язык. Хотя он был человеком очень мягким и кротким, долгая привычка к жестокой морской дисциплине привела к тому, что от многих его веселых историй у меня кровь холодела в жилах. Он был высок, худощав, светловолос. Его смелое, честное лицо покрывал загар, говоривший о жизни на открытом воздухе. Когда он сидел, вы могли бы принять его за, аристократа или кавалерийского офицера, но стоило ему встать, и его покачивающаяся походка сразу выдавала в нем моряка, да и изъяснялся он на том особом жаргоне, на котором говорят люди, всю жизнь проплававшие по разным морям. Приходилось ему плавать и среди островов Южных Морей, так что теперь после плавания вокруг мыса Горн, где бушевали снежные бури, он заявил: «Отправляюсь погреться к канакам», Я решил, что скоро с ним расстанусь, однако, согласно неписаному морскому закону, он должен был прежде истратить все деньги, полученные за предыдущий рейс, «Эх, и кутну же я, небесам жарко станет!» – заявил он, несколько преувеличивая, ибо трудно представить себе более скромный и тихий кутеж: почти все время он проводил в малом зале кабака Черного Тома, где вместе с друзьями (исключительно старожилами Южных Морей) тихонько пил пиво, курил коротенькую трубочку и рассказывал длиннейшие истории.
Кабак Черного Тома был, по сути, захудалым притоном, где самые бедные матросы курили скверный табак, пили никуда не годный джин и бренчали на надтреснутых гитарах и банджо. Хозяин его был местным политическим воротилой и главой шайки хулиганов, которые называли себя «ягнятами». По слухам, мэр города и политические заправилы Сан-Франциско побаивались этой шайки и не брезговали пользоваться ее услугами. Помню, как-то перед выборами в кабак привели очень элегантно одетого слепца, который долго о чем-то совещался с хозяином. Эта пара выглядела настолько странно, а почтительность, с которой взирали на нее посетители кабака, поспешившие отойти как можно дальше, показалась мне столь загадочной, что я попросил объяснений у своего соседа. Он сообщил мне, что слепец – видный политический деятель города, которого некоторые называют «Королем Сан-Франциско», хотя большинство предпочитает кличку, которую ему дали в китайском квартале, – «Слепой Белый Дьявол».
– Наверное, ему очень понадобились «ягнята», – прибавил мой собеседник.
Я сделал набросок «Слепого Белого Дьявола», стоящего у буфетной стойки, а на следующей странице моего альбома спустя всего несколько часов появился рисунок, изображавший, как Черный Том угрожает толпе своих клиентов огромным револьвером системы «Смит и Вессон». Вот с какими контрастами приходилось мне сталкиваться в большом зале этого кабака.
И все это время в малом зале заседал неофициальный клуб Южных Морей, где разговоры шли о жизни, совершенно непохожей на ту, которая нас окружала. Там собирались старые шкиперы, торговцы Южных Морей, коки, помощники капитанов. По большей части это были прекрасные люди, испытавшие благотворное влияние кроткого и жизнерадостного народа, среди которого им довелось жить. Кроме того, они знали много интересного, и не из книг, а по личному опыту, так что я готов был часами сидеть и слушать их увлекательные рассказы. В них всех была какая-то поэтическая струнка. Ведь всякий бродяга-моряк, если только он не отпетый негодяй, кажется младшим братом поэта. Даже бессвязные фразы Джонсона вроде: «Оно так, канаки люди ничего, неплохие» или: «Черт его знает, что за остров, – горы прямо до самой воды. Жить бы мне на нем да жить» – таили какую-то внутреннюю музыку, а многие из его приятелей были просто изумительными рассказчиками. Их длинные повествования, неожиданно меткие описания людей, пейзажей постепенно создавали в моем мозгу четкий образ южных островов и жизни на этих островах: отвесные берега, острые горные пики, густая тень лепящихся по склонам лесов, неумолчный рев прибоя на рифе и вечное мирное спокойствие лагуны; необычайно яркие солнце, луна и звезды, красивые к благородные люди, всегда готовые приветствовать чужестранца, всегда готовые предоставить ему свой кров и свою лодку, – жизнь, льющаяся словно музыка, и долгие вечера, оживляемые звуками мелодичных песен.








