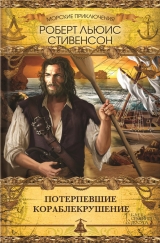
Текст книги "Потерпевшие кораблекрушение"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ГЛАВА IV,
В КОТОРОЙ Я ПОЗНАЮ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Было ли это результатом полученного мною образования и постоянных банкротств в коммерческой академии или сказывались качества, унаследованные от старика Лаудена, эдинбургского каменщика, но я, вне всяких сомнений, был очень бережлив. Беспристрастно разбирая свой характер, я прихожу к заключению, что это единственная добродетель, которой я могу похвалиться. В течение первых двух лет пребывания в Париже я не только никогда не тратил больше того, что высылал мне отец, а, наоборот, успел накопить в банке порядочную сумму. Вы скажете, что вряд ли это было особенно трудно, поскольку я разыгрывал из себя бедняка-студента, однако гораздо легче было бы тратить все до последнего гроша. Просто чудо, что я не пошел по этой дорожке; а на третьем году моей жизни в Париже, то есть вскоре после того, как я познакомился с Пинкертоном, выяснилось, что это не только чудо, но и счастье. В очередной срок деньги от отца не пришли. Я послал ему обиженное письмо с напоминанием и впервые не получил от него никакого ответа. Каблограмма возымела большее действие, так как, во всяком случае, заставила отца вспомнить о моем существовании. «Напишу немедленно», – телеграфировал он мне, однако обещанное письмо пришло очень не скоро. Я недоумевал, сердился, тревожился, но благодаря своей прежней бережливости не испытывал никаких финансовых затруднений. Все затруднения, тревоги, муки отчаяния выпали на долю моего бедного отца, который там, в Маскегоне, боролся с судьбой за существование и богатство и, возвращаясь домой после тяжелого дня бесплодного риска и неудач, перечитывал, может быть, со слезами, последнее злое письмо своего единственного сына, ответить на которое у него не хватало мужества.
Только три месяца спустя, когда от моих сбережений почти ничего не осталось, я получил наконец обещанное письмо вместе с обычным чеком.
«Мой дорогой сынок, – начиналось оно. – Боюсь, что из-за биржевой горячки я не только не отвечал на твои письма, но и не выслал тебе денег. Прости своего старика отца – ему пришлось очень нелегко, а теперь, когда все кончилось, доктор требует, чтобы я переменил обстановку и поехал охотиться в Адирондакские горы. Только не думай, что я нездоров – простое переутомление и упадок душевных сил. Многие из самых видных дельцов не устояли: Джон Т. Брейди удрал в Канаду с чужими капиталами. Билли Сендуит, Чарли Даунс, Джо Кейзер и еще многие из наших видных граждан сели на мель. Но Додд Голова Что Надо снова выстоял бурю, и, мне кажется, я так все устроил, что к осени мы станем богаче, чем были.
Теперь выслушай, сынок, мое предложение: ты писал, что далеко продвинулся в работе над своей первой статуей, – так возьмись же за дело серьезно и кончи ее. Если твой учитель – все не могу запомнить, как пишется его фамилия, – вышлет мне сертификат, что она отвечает рыночным нормам, ты получишь в свое полное распоряжение десять тысяч долларов, чтобы истратить их здесь или в Париже, как захочешь. Поскольку ты утверждаешь, что там больше возможностей для твоей работы, я даже думаю, что тебе следует купить или выстроить в Париже собственный домик, а там, глядишь, твой старик отец начнет заходить к тебе обедать. Я с удовольствием приехал бы сейчас, потому что начинаю стареть и очень стосковался по своему милому мальчику, но у меня на руках еще несколько спекуляций, которые требуют моего личного присутствия и наблюдения.
Скажи своему другу мистеру Пинкертону, что я каждую неделю читаю его корреспонденции и, хотя напрасно ищу в них имя моего Лаудена, все же кое-что узнаю о той жизни, которую он ведет в этом незнакомом мне Старом Свете, описанном талантливым пером».
Разумеется, ни один молодой человек не сумел бы переварить подобное письмо в одиночестве. Оно означало такую перемену судьбы, что необходим был наперсник, – и таким наперсником я, разумеется, выбрал Джима Пинкертона. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что он упоминался в письме; однако не думаю, чтобы последнее обстоятельство сыграло какую-нибудь особую роль, – наше знакомство уже успело перейти в дружбу. Мой соотечественник мне очень нравился; я посмеивался над ним, я читал ему нотации, и я любил его. Он, со своей стороны, глубоко восхищался мной и глядел на меня снизу вверх – ведь я в избытке получил то «образование», о котором он так мечтал. Он ходил за мной по пятам, всегда готов был смеяться моим шуткам, и наши общие знакомые прозвали его «оруженосцем».
Мы с Пинкертоном читали и перечитывали это письмо, причем радовался он не меньше меня, а выражал эту радость куда более бурно. Статуя была уже почти закончена, так что потребовалось всего несколько дней, чтобы подготовить ее к показу. Мой учитель дал свое согласие, и в безоблачное майское утро у меня в мастерской собрались зрители предстоящего испытания. Мой учитель вдел в петлицу пеструю орденскую ленточку. Он пришел в сопровождении двух студентов-французов, моих приятелей; они оба теперь – известные парижские скульпторы. «Капрал Джон» (как мы его называли), вопреки своей сдержанности и своей привычке целиком отдаваться работе, которые с тех пор принесли ему такое уважение во всем мире, на этот раз покинул свой мольберт, чтобы поддержать земляка в столь важную минуту. Милейший Ромни пришел по моей особой просьбе, ибо кто из знавших его не чувствовал, что радость неполна, если он ее не разделяет, а несчастье переносится легче благодаря его утешениям? Кроме того, при церемонии присутствовали Джон Майнер, англичанин, братья Стеннис – Стеннис-аше1111
Старший (франц.).
[Закрыть] и Стекнис-frere,1212
Брат (франц.).
[Закрыть] как они фигурировали в счетах барбизонеких трактирщиков, – два легкомысленных шотландца, и, разумеется, Джим; от волнения он был бел как полотно, а на лбу у него поблескивали капельки пота.
Полагаю, что и у меня, когда я снимал покрывало с Гения Маскегона, вид был не лучше. Учитель с серьезным видом обошел статую, потом улыбнулся.
– Неплохо. Да, для начала неплохо.
Мы все вздохнули с облегчением, а Капрал Джон (в качестве самого способного студента из числа присутствующих) объяснил ему, что статуя предназначается для украшения общественного здания, своего рода префектуры.
– Как? Что? – вскричал он. – Это еще что такое? А… в Америке, – добавил он, когда ему были даны соответствующие разъяснения. – Ну, это дело другое. Отлично, отлично.
О сертификате с ним пришлось заговорить, как о шутке – как о капризе богача, который в вопросах культуры недалеко ушел от дикарей Фенимора Купера, после чего потребовалось объединение всех наших способностей, чтобы составить сертификат в выражениях, приемлемых для обеих сторон. В конце концов этот документ был сочинен. Капрал Джон написал его своим неразборчивым почерком, учитель освятил своим именем и росчерком, я сунул его в конверт вместе с уже приготовленным письмом, после чего мы все отправились завтракать – все, кроме Пинкертона, помчавшегося на извозчике отвезти мое послание на почту.
Завтрак был заказан у Лавеню, куда не стыдно пригласить даже своего мэтра. Стол накрыли в саду, блюда я выбирал лично, а над картой вин мы устроили военный совет, что привело к превосходным результатам, и вскоре все уже разговаривали с большим воодушевлением и быстротой, Правда, когда произносились тосты, всем приходилось на несколько минут умолкать. Разумеется, мы выпили за здоровье мэтра, и он ответил короткой остроумной речью, полной изящных намеков на мое будущее и на будущее Соединенных Штатов; затем пили за мое здоровье; затем – за здоровье моего отца, о чем он был немедленно извещен каблограммой. Подобное мотовство и экстравагантность чуть не доконали мэтра. Выбрав в поверенные Капрала Джона (очевидно, исходя из предположения, что он стал уже слишком хорошим художником, чтобы в нем могли сохраниться какие-либо американские черты, кроме имени), он излил свое негодующее изумление в одной несколько раз повторенной фразе: «C'est barbare!».1313
«Какое варварство!» (франц.).
[Закрыть] Помимо обмена формальными любезностями, мы разговаривали – разговаривали об искусстве, и разговаривали о нем так, как могут говорить только художники. Здесь, в Южных Морях, мы чаще всего разговариваем о кораблях; в Латинском квартале мы обсуждали вопросы искусства – и с таким же постоянным интересом и, пожалуй, с таким же отсутствием результатов.
Довольно скоро мэтр ушел. Капрал Джон (который в какой-то мере уже сам был молодым мэтром) последовал за ним, после чего все простые смертные, разумеется, почувствовали большое облегчение. Остались только равные среди равных, бутылки заходили по кругу, беседа становилась все более и более оживленной. Мне кажется, я и сейчас слышу, как братья Стеннис произносят свои многословные тирады, как Дижон, мой толстый приятель-француз, сыплет остротами, столь же изящными, как он сам, а другой мой приятель, американец, перебивает говорящих фразами вроде: «Я нахожу, что в отношении тонкости Коро…» или: «для меня Коро – самый…» – после чего, исчерпав свой запас французских слов (он был не силен в этом языке), снова погружается в молчание. Однако он хотя бы понимал, о чем идет речь, что же касается Пинкертона, то шум, вино, солнечный свет, тень листвы и экзотическое удовольствие принимать участие в иностранной пирушке были для него единственным развлечением.
Мы сели за стол около половины двенадцатого, а примерно около двух, когда зашел спор о каких-то тонкостях и в качестве примера была названа какая-то картина, мы решили отправиться в Лувр. Я уплатил по счету, и несколько минут спустя мы всей толпой уже шли по улице Ренн. Погода стояла жаркая, и Париж сверкал тем поверхностным блеском, который очень приятен, когда у вас хорошее настроение, и действует угнетающе, когда на душе грустно. Вино пело у меня в ушах и озаряло все вокруг. Картины, которые мы видели, когда, громко переговариваясь, проходили по галереям, полным бессмертных творений, кажутся мне и теперь прекраснейшими, какие мне только доводилось видеть, а мнения, которыми мы обменивались, казались нам тогда необыкновенно тонкими, глубокомысленными и остроумными.
Но, когда мы вышли из музея, наша компания распалась из-за различия наших национальных обычаев. Дижон предложил отправиться в кафе и запить события дня пивом; старшего Стенниса эта мысль возмутила, и он потребовал, чтобы мы поехали за город, если возможно – в лес, и совершили длинную прогулку. К его мнению немедленно присоединились все англичане и американцы, и даже мне, человеку, над которым часто смеялись за его пристрастие к сидячей жизни, мысль о деревенском воздухе и тишине показалась неотразимо соблазнительной. По наведении справок выяснилось, что мы можем успеть на скорый поезд до Фонтенбло, если сейчас же отправимся на вокзал. Не считая одежды, у нас с собой не было никаких «личных вещей» – термин изысканный, но довольно смутный, – и кое-кто из нашей компании предложил все-таки заехать за ними домой. Но братья Стеннис принялись издеваться над нашей изнеженностью. Оказалось, что они неделю назад приехали из Лондона, захватив с собой только пальто и зубные щетки. Отсутствие багажа – вот тайна жизни. Несколько дорогостоящая, разумеется, поскольку каждый раз, когда вам нужно причесаться, приходится платить парикмахеру, и каждый раз, когда нужно сменить белье, приходится покупать новую рубашку, а старую выбрасывать; однако можно пойти на любые жертвы (доказывали братья), только бы не стать рабом чемоданов. «Человеку необходимо порвать все материальные путы; только тогда он может считать себя взрослым, – заявили они, – а пока вы чем-нибудь связаны – домом, зонтиком, саквояжем, – вы все еще не вышли из пеленок». Это теория покорила большинство из нас. Правда, оба француза, презрительно посмеиваясь, отправились пить свое пиво, а Ромни, слишком бедный, чтобы позволить себе такую поездку за собственный счет, и слишком гордый, чтобы прибегнуть к займу, незаметно стушевался. Остальная компания влезла в извозчичью карету и принялась погонять лошадь (как это обычно бывает), предложив чаевые кучеру, так что мы успели на поезд за минуту до его отхода и полчаса спустя уже вдыхали благодатный лесной воздух, направляясь по холмистой дороге из Фонтенбло в Барбизон. Те из нас, кто шагал впереди, покрыли это расстояние за пятьдесят одну с половиной минуту, установив рекорд, ставший легендарным в анналах англосаксонской колонии Латинского квартала, но вас, вероятно, не удивит, что я сильно от них отстал. Майнер, склонный к философии британец, составил мне компанию, и, пока мы медленно шли вперед, великолепный закат, лиловатые тени сумерек, упоительный аромат леса и царившая в нем торжественная тишина настроили меня на молчаливый лад. Мое душевное состояние передалось моему спутнику, и, когда он вдруг заговорил, помню, это заставило меня вздрогнуть – в такую глубокую задумчивость успел я погрузиться.
– Ваш отец, судя по всему, – очень хороший отец, – сказал он. – Почему он не приезжает навестить вас?
У меня наготове было десятка два объяснений да еще столько же в запасе, но Майнер с присущей ему проницательностью, которая всех восхищала, но и заставляла побаиваться его, неожиданно посмотрел на меня сквозь монокль и спросил:
– А вы его уговаривали приехать?
Я покраснел. Нет, я не уговаривал его приехать, я даже ни разу не попросил его навестить меня. Я гордился им, гордился его красивым. Мужественным лицом, его мягкостью и добротой, его умением радоваться чужому счастью, а также (если хотите, это была уже не гордость, а чванство) его богатством и щедростью. И все же для него не было места в моей парижской жизни, которая не пришлась бы ему по вкусу. Я боялся насмешек над его наивными высказываниями об искусстве; я внушал себе – и отчасти верил этому, – что он не хочет приезжать; мне казалось (как кажется и сейчас), что счастлив он мог быть только в Маскегоне. Короче говоря, у меня была тысяча веских и легковесных объяснений, ни одно из которых ни на йоту не меняло того факта, что он ждал только моего приглашения, чтобы приехать, – и я это знал.
– Спасибо, Майнер, – сказал я. – Вы даже лучше, чем я о вас думал. Сегодня же напишу ему.
– Ну, вы сами вовсе уж не так плохи, – возразил Майнер с более чем обычной шутливостью, но (за что я был ему очень благодарен) без обычной иронии.
Это были чудесные дни, о которых я мог бы вспоминать без конца. Чудесными были и дни, которые последовали за ними, – когда мы с Пинкертоном бродили по Парижу и предместьям и в поисках моего будущего обиталища приценивались к домам или, осыпанные пылью, возвращались из антикварных лавок, нагруженные китайскими божками и медными жаровнями. Оказалось, что Пинкертон хорошо знал местоположение этих лавок, а также цены всяческих редкостей и неплохо судил о них. Как выяснилось, он занимался скупкой картин и редкостей для перепродажи их в Штатах, и его педантичность и старательность привели к тому, что, не превратившись в настоящего ценителя, он сумел стать неплохим экспертом. Сами предметы оставляли его глубоко равнодушным, но он находил особую радость в том, что научился покупать и продавать их.
В таких занятиях время шло незаметно, и наконец наступил срок, когда я мог ожидать ответа от отца. Однако с первыми двумя почтами я не получил ничего, а с третьей пришло длинное, бессвязное письмо, полное угрызений, ободрений, утешений и отчаяния. Из этого грустного послания, которое, движимый сыновней почтительностью, я сжег, как только прочитал, выяснилось, что мыльный пузырь миллионов моего отца лопнул, что у него не осталось ни гроша, что он болен и что мне не только придется забыть о десяти тысячах долларов, которые я мог бы промотать в свое удовольствие, но даже денег, высылавшихся мне на жизнь, я больше получать не буду. Это был тяжелый удар, но у меня хватило ума и совести поступить как должно. Я продал все свои редкости – вернее, я попросил сделать это Пинкертона, а он сумел продать их не менее выгодно, чем в свое время купить, так что я на этом почти ничего не потерял. Полученная сумма вместе с оставшимися у меня деньгами составила пять тысяч франков. Пятьсот из них я оставил себе на необходимые расходы, а остальное еще до истечения недели послал отцу в Маскегон, где они были получены – как раз вовремя, чтобы оплатить его похороны.
Известие о смерти отца не удивило и почти не огорчило меня. Я не мог представить его бедняком. Слишком долго вел он жизнь богатого человека, ни в чем не отказывающего ни себе, ни другим, чтобы вынести подобную перемену. И, хотя мне было жаль себя, я радовался, что мой отец покинул битву жизни. Я говорю, что мне было жаль себя, и для этого у меня было вполне достаточно оснований: я лишился средств к существованию; все мое состояние (включая и деньги, возвращенные из Маскегона) не превышало тысячи франков, и в довершение бед подряд на статуи был передан другому лицу. У нового подрядчика был не то сын, не то племянник, и мне с деловой прямотой предложили поискать для своего товара другой рынок. Я начал с того, что съехал с квартиры, и ночевал у себя в мастерской. Так что теперь и когда я читал перед сном, и когда я просыпался, тяжеловесная и отныне бесполезная махина – Гений Маскегона – все время торчала у меня перед глазами. Бедная каменная красавица! Она предназначалась для того, чтобы торжественно восседать под огромным золоченым куполом нового капитолия, – какая судьба ждет ее теперь? Для каких низменных целей будет она разбита, словно отправленный на слом старый корабль? И что ждет ее рожденного под несчастной звездой создателя, с тысячей франков в кармане стоящего в преддверии той тяжелой жизни, которая ждет всякого никому не известного скульптора?
Эту тему мы с Пинкертоном обсуждали без конца.
По его мнению, я должен был немедленно отказаться от своей профессии. «Бросай все это, – повторял он снова и снова. – Поедем со мной в Штаты и заведем какоенибудь дело. У меня есть капитал, а у тебя – культура. „Додд и Пинкертон“ – такое название фирмы для рекламы просто находка, а ты и не представляешь себе, Лауден, какое большое значение может иметь название».
Со своей стороны, я должен был признать, что скульптору для успеха необходима одна из трех вещей: деньги, влиятельный покровитель или адская энергия.
Первых двух я лишился, а третьей у меня никогда не было, и все-таки мне не хватало трусости (а быть может, и мужества) без всякого сопротивления отказаться от выбранной мной профессии. Кроме того, как я сказал Пинкертону, хотя мои шансы преуспеть в качестве скульптора были невелики, как делец я вообще не мог ни на что рассчитывать, поскольку не имел к этому ни вкуса, ни способностей. Но в этом отношении Пинкертон ничем не отличался от моего отца: он принялся уверять меня, что я говорю так по неопытности, что всякий умный и образованный человек непременно преуспеет на этом поприще, что я наверняка унаследовал деловые качества моего отца и что я получил все необходимые для этой карьеры знания в специальном колледже.
– Пинкертон, – отвечал я, – неужели ты не можешь пенять, что все время, пока я пробыл там, я ничем не интересовался и ничему не научился? Для меня все это было смертной мукой.
– Этого не может быть, – возражал он. – Не мог же ты находиться в самой гуще подобной жизни и не почувствовать ее очарования. У тебя для этого слишком поэтичная душа! Нет, Лауден, ты меня просто бесишь. По-твоему, какая-нибудь вечерняя заря должна потрясать человека, но он не почувствует интереса к месту, где идет борьба за богатство, где состояния наживаются и теряются за один день; по-твоему, он останется равнодушным к карьере, которая требует, чтобы он изучил жизнь, как свои пять пальцев, умел выискать самую маленькую щелку, чтобы запустить в нее лапу и извлечь доллар, и стоял бы посреди всего этого вихря – одной ногой на банкротстве, а другой – на взятом взаймы долларе, – и загребал бы деньги лопатой наперекор судьбе и счастью?
Этой биржевой романтике я противопоставлял романтику (она же добродетель) искусства, напоминая ему о людях, упорно сохранявших верность музам, несмотря на все тяготы, с которыми эта верность связана, начиная от Милле и кончая нашими многочисленными приятелями и знакомыми, которые избрали именно этот приятный горный путь по жизни и теперь мужественно пробирались по скалам и колючим зарослям, без гроша в кармане, но полные надежд.
– Тебе этого не понять, Пинкертон, – говорил я. – Ты думаешь о результатах, ты хочешь получать выгоду от затраченных тобой усилий, вот почему ты не станешь художником, доживи ты хоть до тысячи лет. Результаты – это ерунда. Глаза художника обращены внутрь, его цель – внутреннее настроение. Погляди на Ромни. Вот у кого душа художника. Он беден, как церковная мышь, но предложи ему стать главнокомандующим или даже президентом Соединенных Штатов, и он откажется, – ты же знаешь, что он откажется.
– Может быть, и откажется, – кричал в ответ Пинкертон, ероша волосы обеими руками, – но я не понимаю, почему; я не понимаю, чего ему надо! Наверное, я не могу подняться до подобных взглядов. Конечно, это потому, что в юности я не получил образования. Однако, Лауден, с моей низменной точки зрения это кажется мне глупым. Дело в том, – порой добавлял он с улыбкой, – что на пустой желудок мне внутреннее настроение ни к чему, и я убежден, что первый долг всякого человека – умереть богатым, если удастся.
– А для чего? – спросил я его как-то.
– Ну, не знаю, – ответил он. – А почему человек хочет стать скульптором, если уж на то пошло? Я и сам бы не прочь лепить. Только я не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим. Это вроде как указывает на обедненную натуру.
Не знаю, научился ли он когда-нибудь понимать меня – а мне с тех пор пришлось столько пережить, что я сам себя разучился понимать, – но, во всяком случае, он скоро заметил, что я говорю совершенно серьезно, и дней через десять неожиданно прекратил споры и заявил, что он зря тратит свой капитал и должен немедленно вернуться на родину. Несомненно, ему следовало бы вернуться уже давно, и медлил он в Париже только ради нашей дружбы и из-за моих несчастий, но так уж устроен человек: тот самый факт, который должен был бы обезоружить меня, только усилил мою досаду и раздражение. Мне казалось, что, уезжая, он подло покидает меня. Вслух я этого не высказывал, но, без сомнения, выдал свои чувства. Унылый вид Пинкертона доказывал, что его и самого мучает эта же мысль. Как бы то ни было, за время, пока он готовился к отъезду, наша дружба, казалось, сильно остыла, о чем я вспоминаю теперь с немалым стыдом. В день отъезда он пригласил меня пообедать в ресторане, который, как ему было хорошо известно, я часто посещал, пока из соображений экономии не был вынужден от этого отказаться.
Он, по-видимому, чувствовал себя неловко, а я и жалел о его отъезде и злился, так что за едой мы почти не говорили.
– Вот что, Лауден, – сказал он с видимым усилием, когда был подан кофе и мы закурили трубки, – тебе никогда не понять, как я тебе благодарен и как я к тебе привязан. Ты не знаешь, какой дар судьбы – дружба с человеком, стоящим на самой вершине цивилизации; ты не можешь себе представить, как эта дружба облагородила и очистила меня, как она возвысила мой дух, и я хочу сказать тебе, что готов умереть у твоих дверей, как верная собака.
Не знаю, что бы я ему ответил, но он перебил меня.
– Позволь, я договорю! – воскликнул он. – Я преклоняюсь перед твоей преданностью искусству. Сам я не могу подняться до подобного чувства, но в моей душе есть поэтическая струнка, Лауден, которая отзывается на него. Я хочу, чтобы ты следовал своему призванию, и собираюсь помочь тебе в этом.
– Пинкертон, что это еще за чепуха? – прервал я его.
– Пожалуйста, не сердись, Лауден, – сказал он, – это простое деловое предложение – такие сделки заключаются каждый день, они даже типичны. Каким образом Гендерсон, Самнер, Лонг оказались в Париже? Все одна и та же история: с одной стороны – молодой человек, так и брызжущий гениальностью, с другой – коммерсант, не знающий, куда девать деньги.
– Брось говорить глупости – у тебя же нет ни гроша за душой, – перебил я.
– Погоди, пока я примусь как следует за дело! – воскликнул он. – Я наверняка разбогатею, и поверь, я хочу извлечь из своих денег кое-какое удовольствие. Вот твоя первая стипендия. Прими ее из рук друга; я ведь, как и ты, принадлежу к тем людям, для кого дружба священна. Это всего сто франков, и ты их будешь получать каждый месяц, а как только я расширю свое дело, мы эту сумму увеличим до приличной цифры. И тут нет никакого одолжения – если ты поручишь мне сбывать свои скульптуры в Америке, то это будет одной из выгоднейших сделок в моей жизни.
Потребовалось много времени, взаимного расшаркивания и обид, прежде чем мне удалось отклонить его предложение, согласившись взамен распить бутылку коллекционного вина. Наконец он прекратил спор, неожиданно сказав: «Ну ладно, с этим – все», – и больше уже к этой теме не возвращался, хотя мы провели вместе целый день и я проводил его до дверей зала ожидания вокзала Сен-Лазар. У меня было страшно одиноко на душе; какой-то голос говорил мне, что я отверг и мудрый совет и руку дружбы, и, когда я возвращался домой по огромному, сияющему огнями городу, в первый раз я глядел на него, как на врага.








