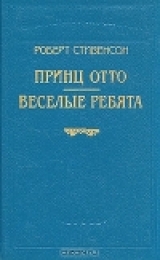
Текст книги "Веселые ребята и другие рассказы"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ГЛАВА II
Дочь пастора
Прошло несколько лет, и старики, мельник и его жена, умерли оба в одну зиму. Их приемный сын заботливо ухаживал за ними во время их старости и болезни, а после смерти долго, но спокойно оплакивал их. Люди, слыхавшие о странных фантазиях молодого Билля, полагали, что он тотчас же поспешит продать доставшееся ему от стариков имущество, и отправится искать счастья вниз по реке, в больших городах, там, на равнине. Но Билль ничем не обнаружил подобного намерения; напротив, он расширил дело, поставил свою гостиницу на более широкую ногу, нанял еще двух слуг, чтобы они помогали ему прислуживать и по хозяйству, и прочно обосновался на своем старом месте. Это был не прежний тщедушный маленький Билль, а добродушный, разговорчивый, крупный и красивый молодой человек, ростом выше шести футов, с крепким сложением и железным здоровьем, с мягким, ласковым голосом и приветливой улыбкой, но при всем том странный и непонятный, являвшийся, как и прежде, загадкой для всех окружающих. Весьма скоро он прослыл чудаком во всей своей округе; и это было не удивительно. Ведь он всегда был преисполнен всякого рода премудрости, – всегда допытывался до всего, обо всем размышлял и теперь глубокомысленно обо всем рассуждал и постоянно возражал даже против прямого здравого смысла, и неизменно оставался при своем особом мнении. Но что еще более утвердило его репутацию чудака, так это странные обстоятельства его ухаживания и сватовства и вообще его отношения к дочери пастора, Марджери. Марджери было лет девятнадцать в ту пору, когда Биллю было около тридцати; она была недурна собой и несравненно более образована и лучше воспитана, чем любая из девушек во всей этой местности, как это, конечно, и подобало ее званию и ее происхождению.
Она всегда держала голову очень высоко и отказалась от нескольких хороших партий, представлявшихся ей, с высокомерием прирожденной принцессы, что дало повод соседям и соседкам надавать ей немало нелестных прозвищ. Но несмотря на все это, она была прекраснейшая девушка и такая, которая могла бы составить счастье любого человека.
Билль не часто имел случай видеть ее, хотя церковь и стоящий подле нее церковный дом находились всего в двух милях от его дверей; тем не менее его никогда не видали у церкви, кроме воскресных дней. Случилось, однако, так, что церковный дом пришел в ветхость и потребовал основательного капитального ремонта; на это время пастор и его дочь, на месяц или около того, поселились, как говорят злые языки, за весьма умеренную плату в гостинице Билля. Благодаря этой гостинице да мельнице, да кое-каким сбережениям старого мельника, наш юный друг являлся человеком состоятельным, а кроме того, он составил себе репутацию человека добродетельного и бережливого, что также имеет большое значение в вопросе о браке. Словом, завистники и недоброжелатели пастора и его дочери открыто болтали о том, что пастор с дочерью не без задней мысли и не с закрытыми глазами избрали для своего временного местопребывания гостиницу Билля. Но Билль был самый последний человек на свете, которого можно было заманить или залучить в сети Гименея. Стоило только взглянуть в его глаза, светлые и спокойные, как вода в пруду, но в глубине которых светился какой-то мягкий внутренний свет, чтобы понять, что этот человек ведет в жизни свою линию, что у него сложились свои убеждения и что ничто и никто в мире не заставит его уклониться от намеченного им себе пути. Марджери также была не слабовольное существо и даже внешне не смотрелась хрупкой; это была спокойная решительная девушка, с уверенным и твердым взглядом и, по-видимому, могла поспорить в твердости характера и убеждений даже с Биллем, так что, в конце концов, трудно было сказать, который из них двух в супружестве оказался бы хозяином насеста, то есть хозяином положения. Однако Марджери никогда не думала об этом и последовала за своим отцом в гостиницу без всякой задней мысли, в полной невинности своей души.
Так как сезон был еще слишком ранний, то посетители у Вилли были немногочисленны и не часты; но сирень уже цвела, и воздух был до того мягок и тепл, что наше маленькое общество обедало в беседке под шум реки, под шелест леса и пение птиц, весело щебетавших кругом. Билль вскоре стал находить особое удовольствие в этих обедах. Пастор был скорее скучный, чем приятный собеседник; он имел привычку дремать за столом; но это был человек мягкий и деликатный; никогда с его уст не срывалось ни одного жесткого или грубого слова или обидного замечания; что же касается дочери пастора, то она удивительно умела приспосабливаться к окружающей обстановке и делала это с неподражаемой грацией и тактом. Все, что она говорила, было всегда так умно и так кстати, что Билль стал очень высокого мнения о ее уме, способностях и талантах. Он смотрел на ее лицо, когда она, слегка наклонившись вперед, вырисовывалась на фоне молодых подрастающих сосен; глаза ее светились тихим спокойным блеском; свет ложился вокруг головки, как головной платок; нечто похожее на слабый намек на улыбку играло на ее несколько бледном лице, и Билль не мог досыта наглядеться на нее, не мог оторвать глаз от ее лица, испытывая при этом какое-то особенно приятное чувство. Даже в минуту полного спокойствия она казалась такой совершенной, такой полной жизни до кончиков своих тоненьких пальцев, что даже складки ее одежды, что даже подол ее платья казались одухотворенными, и все живое, созданное Богом, в сравнении с ней тускнело и меркло и становилось как бы одним сплошным пятном, служившим для нее фоном. Когда Билль отводил от нее глаза и смотрел на окружающее, деревья казались ему безжизненными и бесчувственными, облака висели в небе бездушными лоскутьями, и даже сами вершины гор казались развенчанными. И вся долина со всей ее красотой не могла сравниться с чарующей прелестью внешности одной этой девушки.
Билль всегда был наблюдателен в обществе людей, но по отношению к Марджери эта наблюдательность сделалась у него болезненно острой. Он жадно ловил каждое ее слово и в то же время старался прочесть в ее глазах недосказанную мысль, и многие ее хорошие, простые искренние речи встречали отголосок в его душе. В ней он увидел и почувствовал душу, превосходно уравновешенную, свободную от всякого рода сомнений и желаний, овеянную полным умиротворением. Ее мысли являлись чем-то нераздельным с ее наружностью, как будто ее внешность была тесно связана с ее душевным состоянием; даже движение ее руки, ровный и тихий звук ее голоса, мягкий свет в глубине ее глаз и стройные, спокойные линии всей ее фигуры – все это гармонировало с серьезным и спокойным тоном ее речи, как аккомпанемент вторит голосу певца, дополняя его и сливаясь с ним в одну общую гармонию. Ее влияние было настолько неоспоримо и неизбежно, что оставалось только с благодарностью и радостью подчиняться ему. Биллю ее присутствие напоминало самые ранние мечты его детства, и мысль о ней заняла в его душе место наряду с утренней зарей, журчаньем вод и первыми ранними фиалками на лугах. Таково свойство предметов, которые мы видим в первый раз или в первый раз после долгого перерыва, как, например, первые весенние цветы, – пробуждать вновь в душе острое ощущение былых чувств, возрождать эти чувства с новой силой и вызывать впечатление чего-то мистического и таинственно непонятного, которое с годами незаметно утрачивается нами. Но вид любимого лица возрождает в душе человека все эти чувства и переживания с поразительной яркостью и, можно сказать, обновляет душу.
Однажды после обеда Билль вздумал прогуляться в сосновой роще. Им всецело овладело чувство сосредоточенного блаженства и довольства, и он все время тихо улыбался своим мыслям и окружающей природе. Река, окутанная легкой дымкой, журча, бежала среди своих высоких берегов; птичка громко заливалась где-то в лесу; вершины гор казались сегодня особенно высоки, и когда он время от времени взглядывал на них, ему казалось, что и они смотрят на него благосклонно и с большим любопытством. Так он дошел до возвышения за мельницей, откуда открывался вид на равнину; здесь он присел на камень и погрузился в глубокие, но сладостные думы. Там, далеко внизу, раскинулась равнина с ее многолюдными городами и серебристыми изгибами реки; все, казалось, уснуло, кроме громадной стаи птиц, то взлетавших высоко, то падавших низко и беспрерывно кружившихся в прозрачном голубом эфире. Билль громко произнес имя Марджери, и оно обрадовало его слух. Он сомкнул веки, и ее образ встал перед ним спокойный и лучезарный, сопутствуемый светлыми, добрыми мыслями. Пусть же река бежит, вечно стремясь вперед; пусть птицы взлетают все выше и выше, хоть до самых звезд, теперь он видел, что все это, в сущности, пустая суета и тщетные волнения, потому что он здесь, не трогаясь с места, а терпеливо ожидая в своей узкой горной долине, достиг высшего блаженства – увидел иное, новое, более яркое солнце!
На другой день Билль сделал через стол нечто вроде признания, в то время когда пастор молча и сосредоточенно набивал свою трубку.
– Мисс Марджери, – сказал он, – я еще не встречал никого в своей жизни, кто бы мне так нравился, как вы. Я вообще холодный, угрюмый человек, не потому, чтобы у меня не было сердца или благорасположения к моим ближним, но вследствие известной странности моего образа мыслей. Все люди мне кажутся далекими и чужими; Я стою совершенно обособленно, словно вокруг меня кольцом лежит какая-то преграда, не допускающая ко мне никого, кроме вас; других я будто издали вижу, слышу, как они смеются и говорят, а вы, я чувствую, что вы подошли ко мне совсем близко. Быть может, это неприятно вам? – спросил он.
Марджери ничего не ответила.
– Что же ты ничего не говоришь, дочь моя? – сказал отец.
– Нет, пусть не говорит сейчас, – возразил Билль, – я не желал бы ее неволить; у меня у самого язык прилип к гортани, а со мной это редко бывает, она же женщина, и не многим старше ребенка; если сказать по правде, где же ей сразу разобраться в этом! Но что касается меня, то, насколько я могу судить о том, что люди вообще под этим подразумевают, я думаю, что Я то, что называется «влюблен»! Возможно, конечно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что со мной дело обстоит именно так, как я говорю. Если мисс Марджери, со своей стороны, питает по отношению ко мне иные чувства, то, может быть, она будет столь добра, что согласится отрицательно покачать головой, – добавил Билль.
Но Марджери продолжала хранить молчание и ни единым знаком или движением не дала заметить, что она что-нибудь слышала.
– Как же мне это понимать? – спросил Билль, обращаясь к пастору.
– Она должна ответить, – сказал отец, отложив в сторону свою трубку. – Слышишь, Мэдж, вот наш сосед говорит, что он любит тебя. А ты? Любишь ты его или нет?
– Я думаю, что да, – чуть слышно ответила Марджери.
– Ну вот, это все, чего можно было желать! – радостно воскликнул Билль, и он через стол взял ее руку и с минуту продержал ее в своих с чувством невыразимого удовлетворения.
– Вы должны пожениться, – заметил пастор, поднося трубку ко рту.
– Вы полагаете, что это именно то, что мне следует сделать? – спросил его Билль.
– Всенепременно! Это необходимо, – сказал старик.
– Ну что ж, прекрасно! – согласился жених.
На этом разговор и кончился.
Прошло дня два или три, в продолжении которых Билль чувствовал себя все время наверху блаженства, хотя любой посторонний наблюдатель едва ли бы это заметил.
Он продолжал ежедневно обедать, сидя напротив Марджери за столом, продолжал беседовать с ней и глядеть на нее в присутствии ее отца совершенно так же, как раньше, но не делал ни малейшей попытки видеться с ней наедине и вообще ни в чем не изменил своего отношения к ней или своей манеры держаться с ней, против того, как это было с самого начала. Возможно, что девушка была этим немного разочарована и, может быть, не совсем без причины, а между тем если бы для ее удовлетворения было достаточно сознания, что она неотступно царит в его мыслях, что она придает всей его жизни иную окраску, она могла бы быть вполне довольна. Ни на одно мгновение Билль не переставал думать о ней; он подолгу сидел над рекой и следил за облаками водяной пыли и брызг над водой, за рыбой, неподвижно стоящей в воде, и за водорослями, стелющимися по течению реки, словно вытянутые струны. Он уходил один на пригорок любоваться румяным закатом, и черные дрозды целыми стаями стрекотали у него над головой и повсюду кругом, в чаще леса. Он вставал рано поутру и встречал первые лучи солнца, золотившие бледно-серое небо, которое они предварительно окрасили в бледно-розовый цвет, смотрел, как вершины гор вдруг озарялись ликующим светом, и на что бы он ни смотрел, он никак не мог надивиться всей этой красоте пробуждающейся или засыпающейся природы и спрашивал себя: да неужели же он раньше никогда не видал всего этого? Или же в самом деле случилось с ним что-то, отчего все кругом так преобразилось? Даже звук колес его мельницы и шелест ветра в верхушках деревьев смущали и очаровывали его. И самые чудные мысли, непрошенные и незваные, сами собой родились у него в мозгу. Он был до того счастлив, что не мог спать по ночам, а днем не мог усидеть на месте, разве только в ее обществе, а между тем казалось, будто он ее избегает, вместо того, чтобы искать ее присутствия. Однажды, когда Билль возвращался с такой прогулки, он застал Марджери в саду, где она срезала цветы. Поравнявшись с ней, он замедлил шаги и пошел рядом с ней.
– Вы любите цветы? – спросил он.
– О да, я их очень люблю, – ответила она, – а вы?
– Я не особенно; цветы – это хорошо так, от безделья. Когда все дело сделано, можно и ими заняться, но я вполне понимаю, что можно очень любить цветы, только не так, как вы любите.
– Не так? А как же? – спросила она, остановившись и подняв на него вопросительный, недоумевающий взгляд.
– Вы вот срываете их, – сказал он, – а им гораздо лучше на корню и на стебле; там, на своем месте, на них даже смотреть приятнее, потому что они смотрятся красивее, свежее, бодрее и веселее.
– Но я хочу, чтобы они всецело принадлежали мне, – возразила девушка, – я хочу носить их на груди, хочу держать их на столе в моей комнате, чтобы любоваться ими когда хочу и сколько хочу. Они соблазняют меня, пока я вижу их здесь, на кустах; они как будто говорят мне: поди сюда, сделай что-нибудь с нами! А когда я срежу их и принесу к себе, этот соблазн сам собой исчезает, они перестают смущать меня, и я могу спокойно смотреть на них, могу любоваться ими с легким сердцем.
– Вы, значит, желаете обладать ими, – сказал Билль, – чтобы потом уже и не думать о них; это походит на то, как один человек зарезал курицу, несущую золотые яйца, чтобы сразу завладеть всеми ее золотыми яйцами, – помните, как о том говорится в басне? А еще это напоминает мне несколько то, что я всегда хотел сделать, когда был еще маленьким мальчиком. Меня всегда прельщал вид на равнину, и я хотел непременно спуститься в нее, а там я, конечно, был бы лишен возможности любоваться видом на нее. Боже мой, Боже мой! Если бы только все люди постоянно думали об этом, то, вероятно, все поступали бы так, как я, и вы тоже, вероятно, оставили бы эти бедные цветы расти на своем месте, так, как я остался здесь, в своей горной долине… – Вдруг он остановился, не договорив свою мысль. – Клянусь Богом! Да ведь это!.. – воскликнул он и опять замолчал, а когда Марджери стала спрашивать его, что такое ему пришло в голову, он уклонился от ответа и пошел в дом, а на лице у него появилось какое-то странное выражение, удивившее девушку.
За столом он против обыкновения был молчалив, а когда стемнело, и звезды зажглись на небе, он в продолжение нескольких часов, не переставая, ходил взад и вперед по двору и саду неровными шагами, видимо, чем-то сильно взволнованный и озабоченный. Весь дом уже давно спал, но в окне комнаты, занимаемой Марджери, еще был огонь; одно небольшое, продолговатое, оранжево-красное пятно среди целого моря темно-голубоватой мглы спящей долины и серебристого трепетного света звезд в безлунной ночи. Мысли Билля очень часто возвращались к этому окну, но это были вовсе не мысли влюбленного.
– Там за окном, в комнатке, где горит свеча, там она, – думал он, – а здесь у меня над головой бесчисленные звезды, благослови, Господь, и ее, и их!
Как эта девушка, так и звезды имели на него благотворное влияние; и она, и звезды размягчали его душу, пробуждали в нем лучшие чувства и способствовали его сладостному довольству жизнью и всем окружающим миром. Чего еще больше мог он желать или ожидать от них?.. И в этот момент молодой толстяк и его мудрые наставления так живо припомнились Биллю, так ярко ожили в его памяти, что он невольно закинул голову назад, как тогда, в ту столь памятную для него ночь, и, приложив обе ладони ко рту, он громко крикнул вверх к далекому небу, усеянному мириадами звезд. Вследствие ли неудобного положения слишком закинутой головы, или же вследствие непривычного усилия от напряжения голоса, ему вдруг показалось, что в этот момент звезды внезапно дрогнули, заколебались и как будто сшиблись друг с другом и рассыпали по небу целый дождь холодных, леденящих лучей. В тот же миг один уголок занавески в окне на мгновение приподнялся, свет в окне дрогнул, и занавеска снова опустилась. Билль громко рассмеялся.
– Ха-ха-ха!.. И они, и она!.. – подумал он, – Задрожали звезды, задрожал и свет в окне! Бог свидетель, какой я великий маг и волшебник!.. Будь я глупец, как бы я теперь, голубчик, попался!.. а будь я глупцом…
И он пошел ложиться, тихонько посмеиваясь про себя.
На другой день рано утром он увидел Марджери в саду и поспешил к ней.
– Я вчера, да и все это время, много думал о женитьбе, – сказал Билль, приступая к делу без дальнейших околичностей. – Обсудив этот вопрос со всех сторон, я пришел к убеждению, что это дело не стоящее, то есть, что нам жениться положительно не стоит.
Девушка на одно мгновение подняла на него глаза, но его добродушный, сияющий вид смутил бы в данном случае даже ангела, и Марджери поспешила опустить глаза в землю, не вымолвив ни единого слова. Но он видел, что она вздрогнула.
– Я надеюсь, что вы ничего не имеете против этого, – продолжал он, несколько смущенный ее отношением к его словам, – и, конечно, не сердитесь на меня за то, что я вам сейчас высказал; право, вы не должны на это обижаться; я все это основательно обдумал и обсудил, и даю вам слово, честью заверяю вас, что мы ничего от этого брака не выиграем. Мы не станем от него ни на йоту ближе друг другу, чем теперь, и никогда не будем так счастливы, как сейчас!
– Вы напрасно тратите со мной так много слов, – сказала она, – это совершенно лишнее; я прекрасно помню, что вы сказали тогда, что не смеете утверждать с полной уверенностью, что любите меня, что, может быть, вы ошибаетесь, – и теперь, когда я вижу, что вы действительно ошибались и что вы, по-видимому, никогда не любили меня, я могу только сожалеть о том, что я была введена вами в заблуждение в этом отношении.
– Прошу извинения! Вы вовсе не так поняли смысл и значение моих слов, вы сильно заблуждаетесь на этот раз, – энергично запротестовал Билль. – Что касается того, насколько я вас любил и любил ли я вас или нет, об этом вы судить не можете, об этом луше знать другим, но, во всяком случае, мое чувство ничуть не изменилось, и вы смело можете похвалиться, что изменили всю мою жизнь и меня самого сделали совсем другим человеком, не похожим на то, чем я был раньше. Я искренне думаю все, что я вам теперь говорю, и ничего не преувеличиваю в моих словах; я не думаю, чтобы нам стоило жениться, и, право, я предпочел бы, чтобы вы продолжали жить с вашим добрым отцом, а я имел бы возможность раз или два в неделю ходить к вам, как люди ходят в церковь, а в промежутки между этими свиданиями мы оба были бы счастивы от ожидания новой встречи и нового свидания. Таково мое представление, но если вы почему-либо непременно хотите этого, то я женюсь на вас, – добавил он.
– Неужели вы не понимаете, что вы оскорбляете меня?! – воскликнула она с невольным упреком.
– Я вас оскорбляю! Нет, Марджери, нет! Как вы можете допустить, что-нибудь подобное!.. Кто хотите, только не я! Говорю вам это от всей души. Мне вас оскорблять! Мне, который предлагает вам лучшую привязанность своего сердца, самую искреннюю, самую чистую и святую любовь. Примите ее или пренебрегите ею, как хотите, но только, я так полагаю, что не в вашей власти, а также и не в моей, изменить то, что раз случилось, и вы теперь, если бы даже вы того желали, не в состоянии освободить меня от этой любви! Я женюсь на вас, если хотите, повторяю вам это, но вместе с тем еще раз говорю вам, что не стоит, что мы ровно ничего через это не выиграем и что нам гораздо лучше остаться друзьями. Хотя я тихий, нерасторопный человек, но в своей жизни я успел многое заметить, успел увидеть многое такое, чего не видят другие, и успел многому научиться; поверьте мне, Марджери, вы ничего не прогадаете, если согласитесь на мое предложение. Если же оно вам не нравится, скажите только одно слово, и я сейчас же женюсь на вас.
Наступило довольно продолжительное молчание; Билль стал чувствовать какую-то неловкость и вследствие этого начал раздражаться.
– Как я вижу, вы слишком горды и не хотите высказать мне прямо ваше мнение. Очень жаль, – сказал он. – Поверьте, куда легче живется, когда все делается начистоту! Скажите, может ли человек поступить более прямодушно, более честно и чистосердечно по отношению к женщине, чем я поступил в данном случае? Я высказал вам честно свое убеждение, а выбор и решение предоставил вам; хотите вы, чтобы я на вас женился, или предпочитаете принять мою дружбу, как я вам предлагаю, потому что считаю это за лучшее? Или, быть может, я вам просто надоел? Выскажитесь, прошу вас! Помните, что сказал ваш батюшка? Он сказал, что в таких случаях девушка должна сказать, что у нее на душе!
При этих последних словах Мэдж как будто очнулась. Не сказав ни слова, она повернулась и быстрыми шагами пошла через весь сад по направлению к дому и вскоре скрылась в нем, оставив Билля в сильном смущении и в полной неизвестности относительно ее решения. Он стал ходить взад и вперед по саду, тихонько насвистывая про себя. По временам он останавливался и смотрел на небо и на вершины гор или же шел и садился на краю обрывистого берега реки и смотрел на воду тупым, бессознательным взглядом. Все эти недоумения, сомнения, волнения были так чужды его рассудительной натуре, его привычкам и всему избранному им с твердой решимостью, спокойному и уравновешенному укладу жизни, что он начинал уже сожалеть о том, что Марджери вошла в его жизнь.
– В сущности, – думал он, – я был счастлив, как только может быть счастлив человек на земле. Чего мне недоставало? Я мог во всякое время приходить сюда и наблюдать моих рыбок по целым дням, если я хотел, и мог любоваться небом и звездами, и утренней и вечерней зарей, и никто не мог мне помешать в этом; я был и спокоен, и доволен своим положением, как вот эта моя старая мельница над рекой. Чего же мне еще было надо!..
К обеду Марджери пришла нарядная и спокойная, и едва только они все трое сели за стол, как она обратилась к своему отцу с такой речью:
– Батюшка, мы основательно переговорили обо всем с мистером Вилли и пришли к такому решению: мы видим, что оба мы ошиблись в наших чувствах, и он согласился на мою просьбу отказаться от всякой мысли о браке между нами; он согласился быть для меня не более как моим добрым другом, как раньше. Как вы видите, батюшка, – продолжала она все также спокойно, но не подымая глаз от своей тарелки, причем, однако, не проявляла никаких других признаков смущения или огорчения, – между нами нет и тени ссор или неудовольствия, и я серьезно надеюсь, что мы очень часто будем видеть его в будущем у себя, и его посещения будут мне всегда особенно приятны, и он во всякое время будет желанным гостем в нашем доме. Тебе, конечно, лучше знать, отец, как нам поступить, но мне кажется, что нам было бы лучше покинуть теперь гостеприимный кров мистера Билля, по крайней мере на некоторое время, потому что, я думаю, что после того, что произошло, мы едва ли можем быть для него приятными гостями; во всяком случае, в эти первые дни.
Билль, который с трудом сдерживал себя с самого первого момента ее речи, после этих последних слов шумно выкрикнул что-то невнятное и поднял руку, как бы энергично протестуя этим жестом против всего сказанного. При этом весь вид его выражал какое-то растерянное возмущение и досаду, по-видимому, он был готов вмешаться и протестовать, но она сразу осадила его, устремив на него строгий взгляд и вспыхнув на мгновение гневным румянцем.
– Может быть, вы будете столь любезны, что позволите мне объяснить все это дело отцу, – сказала она таким тоном, что Билль совершенно растерялся.
Он был окончательно выбит из колеи ее манерой держать себя и тоном ее голоса. Он не посмел раскрыть рта, решив, что в этой девушке есть нечто такое, что свыше его понимания, и в этом он действительно был прав.
Бедный пастор был совершенно озадачен; он всячески старался доказать, что это не более, чем маленькая ссора влюбленных, которая пройдет бесследно, еще раньше, чем на дворе успеет стемнеть; но когда ему была доказана несостоятельность этого аргумента, тогда он стал доказывать, что если не было ссоры, то нет и основания расставаться. Добряк пастор успел привыкнуть и полюбить и своего хозяина, и его приятное общество, и все условия жизни в этой гостинице. Интересно было видеть, как молодая девушка ловко справлялась с обоими мужчинами. Она говорила мало и совершенно спокойно, и тем не менее, что называется, умела обвести их вокруг своего пальчика, и незаметно для них вела их туда, куда хотела, одним своим мягким женским тактом и умением. Все шло так, как будто не она вовсе все это устроила, а обстоятельства сами собой сложились так, что Марджери и ее отец уехали в тот же день после обеда. Сев в деревенскую бричку, они направились дальше вниз по долине, где и поселились в ближайшей деревушке, в ожидании того времени, когда постройка пасторского дома будет закончена и им можно будет опять перебраться к себе на свое старое место. Билль внимательно наблюдал за молодой девушкой все время, пока они еще оставались у него в доме. От него не укрылись ее проворство и решительность во время сборов к отъезду. Когда он остался один, у него в голове было множество странных вопросов, которые ему следовало обдумать и обсудить. Прежде всего он чувствовал себя ужасно одиноким и печальным. Как будто весь интерес к жизни разом пропал у него, и теперь он мог смотреть по целым часам, по целым ночам на звезды и почему-то не находил в них, как прежде, ни успокоения, ни утешения. Теперь он как будто совершенно утратил свое обычное душевное равновесие из-за этой Марджери. Он был и удивлен, и озадачен, и раздражен в то же время ее поведением, и все же он не мог не восхищаться ею, не удивляться ей. Ему казалось, что он узнает в тихой и всегда ровной девушке, в этой, по-видимому, спокойной женской душе, черты хитрого, развратного демона, которых он до сего времени никогда не подозревал в ней; и хотя он видел, что ее влияние шло вразрез его личным вкусам и привычкам и тому искусственно созданному им для себя спокойствию, он тем не менее не мог противостоять искушению страстно желать подчинения этому влиянию. Подобно человеку, постоянно жившему в тени и сумерках и вдруг очутившемуся на ярком солнце, он был одновременно и огорчен, и восхищен; ему было и жутко, и тяжело, и в то же время страшно приятно.
По мере того, как проходил день за днем, Билль переходил от одной крайности к другой; то он кичился своей силой воли и твердостью своих решений, то презирал свое глупое малодушие и осторожность. Первый род образа мыслей, в сущности, более соответствовал его истинным взглядам на вещи и являлся, так сказать, результатом его обычных здравых рассуждений; но время от времени его с неудержимой силой внезапного порыва охватывало негодование на самого себя и возмущение против своего, как он тогда выражался, «нелепого поведения», и тогда он гнал прочь всякое благоразумие и точно человек, мучимый угрызениями совести, бродил по целым дням в саду, по дому или по лесу, не находя себе нигде покоя. Такое состояние духа было совершенно невыносимо для человека обычно столь спокойного, уравновешенного и степенного, как Билль, и он решил во что бы то ни стало положить этому конец. Итак, в одно прекрасное, теплое утро он надел свое лучшее платье, взял в руки тросточку из прута терновника и пошел вниз по долине вдоль берега реки. Как только он принял свое решение, к нему разом вернулось его обычное спокойствие, сердечное и душевное равновесие; он радовался ясному, хорошему дню, любовался разнообразием живописной местности, и все это без малейшей примеси тревоги или какого-нибудь неприятного чувства. В сущности, ему было почти безразлично, чем окончится его вторичное сватовство; какой бы оборот ни приняло в данном случае дело, он будет одинаково доволен, – так думал он. Если она на этот раз примет его предложение, то уж ему, конечно, придется жениться на ней, что, пожалуй, будет к лучшему. Если же она откажет, то у него по крайней мере будет сознание, что он сделал все, что от него зависело, и теперь может спокойно идти дальше своим путем, с совершенно спокойной совестью. В глубине души он все-таки надеялся, что она ему откажет, но затем, когда он увидел в просвете между ветвистых ив на повороте реки коричневую кровлю, под которой она жила, он был уже наполовину склонен желать обратного и был положительно пристыжен сознанием шаткости и неустойчивости своих желаний.
Марджери, по-видимому, была рада, очень рада его видеть; она протянула ему руку, ни минуты не задумываясь и без малейшей аффектации.
– Я много думал об этом браке, – начал он.
– И я тоже, – подхватила она, – и я все более и более уважаю вас, как человека умного и проницательного; вы сумели тогда лучше понять меня, чем я сама себя понимала, и теперь я совершенно уверена, что вы были правы и что нам лучше оставаться с вами в дружеских отношениях.
– А все-таки я… – попытался было возразить Билль, но она поспешила перебить его.
– Вы, должно быть, устали, – заговорила она, – садитесь, пожалуйста, и позвольте мне принести вам стаканчик вина. День сегодня такой жаркий. А я хотела бы, чтобы вы остались довольны сегодняшним вашим визитом к нам, потому что я желаю, чтобы вы часто-часто навещали нас, раз в неделю, если у вас будет время; я всегда так рада видеть своих друзей, и отец тоже.








