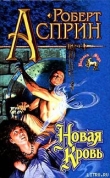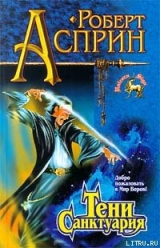
Текст книги "Тени Санктуария"
Автор книги: Роберт Линн Асприн
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
В Санктуарии не было дождя, но из ясного ночного неба вылетела молния, слегка покачнув здание, в которое попала. Выгравированное имя Вощанки вдруг исчезло с фасада здания, которое оказалось губернаторским дворцом.
«Проклятье, как же болит голова».
«Проклятье, тут дождь, и я лежу в грязи».
«Боже мой – я жив!»
Ни одна из этих мыслей не смогла заставить Ганса тотчас вскочить с места. Он открыл рот, надеясь смочить пересохшее горло, но подавился на пятой или шестой капле. Ганс медленно присел, чувствуя, что болит что-то еще, кроме головы, которая напоминала стиснутый железными обручами бочонок, вот-вот готовый треснуть. Почувствовав, что заболело еще сильнее, Ганс перекатился влево, упав на спину. Под ним, привязанные к поясу, располагались остатки красивой кожаной сумки и осколки разбитого горшка.
«Если я не умру от потери крови, то мне наверняка целую неделю придется выковыривать из спины осколки горшка!»
В ярости от подобной мысли он поднялся на ноги, не в силах отказать себе в удовольствии бросить торжествующий взгляд на слегка дымящиеся останки уничтоженного куста. Его противник выглядел очень печально и, на взгляд Шедоуспана, шансов выжить у него не имелось. Старательно обходя кусты и любую поросль размером выше обычной травы, он подошел к ближайшему окошку. Едва он осторожно просунул лезвие в дверную щель, как изнутри донесся ужасный стон, длинный, протяжный и раздирающий душу. Ганс покрылся мурашками и подумал, а не отправиться ли ему домой.
Он не сделал этого и перешел от двери обратно к окну, забрался в темную комнату, где не оказалось ни кровати, ни человека. Решив не обращать внимания на зудящую и кровоточащую спину, Ганс прошелся по комнате. Безумно болела голова, ведь его можно сказать, задушили. Или почти-задушили, вот только теперь это уже не имело значения, главное – он сумел остаться живым.
Ганс долго стоял на месте, прислушиваясь и стараясь привыкнуть к темноте. В доме стояла абсолютная тишина, и никаких стонов и криков слышно не было. Луна вернулась на небосвод и ее слабый отблеск проникал в комнату, облегчая вору дорогу.
Он нащупал стену, затем дверь. Скривившись от боли, Ганс наклонился ниже, чтобы убедиться, что за дверью тоже темно. Дверь была закрыта на обычный навесной засов. Сбросив его, Ганс медленно отжал дверь и оказался не то в коридоре, не то в небольшом зале.
Пока он раздумывал, в какую сторону пойти, ужасный стон повторился снова. На это раз к нему присоединилось какое-то бульканье, и Ганс снова почувствовал, что дрожит от озноба.
Звук шел справа. Спрятав нож, Ганс проверил другие клинки и отстегнул пояс, чтобы снять сумку и избавить себя от боли, причиняемой разбитым горшком. Вор двигал рукой предельно осторожно, памятуя о том, что осколки могут зазвенеть. Прежде, чем обернуться, Ганс осторожно выпустил сумку из онемевших пальцев.
За окном стояла прекрасная ночь. На небе светил месяц, но дождевых туч не было видно. Даже не зная о том, что дождь пролился лишь над усадьбой Керда, Ганс вздрогнул. Неужели боги и впрямь существуют? Неужели они иногда приходят на помощь?
Подняв сумку, юноша двинулся вправо по коридору. Сумка слегка зазвенела, но Ганс особенно не испугался. Всякий нормальный человек подумает, что он правша.
Когда вор прошел через зал и оказался у большой двери и еще одной слева, послышались чьи-то шаги. Боковая дверь отворилась и внутрь ударил луч света. На пороге показался низенький человечек в ночной рубашке, держащий перед собой масляную лампу.
«Здесь…» – начал было он, но Ганс, не дав ему договорить, ударил его мокрой грязной сумкой с осколками горшка. Удар пришелся мужчине в лицо, тот застонал и выпустил лампу, прижав обе руки к окровавленному лицу. Ганс выругался, наблюдая как струйки горячего масла потекли по сорочке мужчины, его обнаженным ногам и забрызгали пол и стены, начиная разгораться. В это же время из-за по-прежнему закрытой огромной двери донесся третий ужасный стон. «Хозяин, – прокричал Ганс тонким голоском, – пожар!» Толкнув теряющего сознание привратника назад, он бросил туда же лампу и захлопнул за ним дверь. Отворив другую, вор вскоре оказался в сущем аду.
На столе лежало то, что осталось от невысокого мужчины. Теперь он выглядел еще короче, лишенный обеих рук и ног, волос и части левой груди. Вздрогнув от ужаса, Ганс тем не менее сумел понять, что облегчить страдание пленника может только одно. Не обращая внимания на сверкающие острые инструменты, которыми пользовался Керд, Ганс извлек длинный, в руку длиной, клинок, который эти чудаки из Ибарских гор называют ножом, схватился за двуручную рукоятку и что было силы нанес удар. Хлынула кровь, и Ганс сжал зубы, стараясь сдержать рвоту. Он ударил еще раз, чтобы на столе наверняка остался лежать лишь торс и оперся на клинок, вздрагивая и окидывая взглядом наполненную столами палату, где в полу были специально сделаны желобки для отвода крови.
– Тейлз? – позвал Ганс.
Послышались два стона, один из которых завершился едва различимым зовом о помощи. Голос не принадлежал Тейлзу, но юноша все же направился туда.
– Он… Он… он отрезал мою правую руку и… и три пальца на моей левой руке… только… только чтобы… только чтобы… – мужчина трясся всем телом и едва мог говорить.
– Крови нет. Руки? Ноги? – Ганс только спрашивал, не будучи в силах смотреть.
– Я… я… они… они…
– Подумай, – сказал вор, тяжело вздохнув. – Я могу перерезать эти веревки на горле. Думай и выбирай. – Он отвернулся.
– Я жи-и-ивой… Я могу ходи-и-ить…
Ганс перерезал держащие его веревки.
– Я ищу Темпуса.
– Ты ищешь здесь смерть, вор! – послышался голос и палату залило светом.
Ганс не стал отвечать или поворачиваться, чтобы посмотреть, кто вошел. Вместо этого он рывком выхватил нож и с пол-оборота швырнул его в противника. Лишь после этого он взглянул на вошедшего в палату мужчину, и то после того, как за первым ножом метнул второй. Мужчина был очень худ, с бледной, обтягивающей мослы кожей. Он был одет в просторную ночную рубашку и при одном взгляде на него можно было содрогнуться. В одной его руке был арбалет, а в другой – ночная лампа. Рукав сорочки сполз, обнажив пергаментную кожу. Керд.
Он пытался вытащить нож, который не попал в него всего на несколько пядей. Яростно раскачивалась лампа, отбрасывая на потолок, пол и столы мертвенные блики. Дураку следовало бы сначала поставить лампу, подумал Ганс, вытаскивая из ножен новый клинок. С обеими руками на арбалете Керд мог бы оказаться опасным, но его рука была пришпилена к двери ножом, который пробил одежду и слегка зацепил кожу. Монстр кричал скорее от страха, нежели от боли. Арбалет упал на пол, зазвенела тетива и стрела ударила, то ли в пол, то ли в ножку стола. Ганса это нисколько не взволновало.
– Я пришел сюда за Темпусом, мясник. Стой здесь и держи лампу. Только попробуй двинуться и получишь вот это, – Ганс показал Керду третий сверкающий клинок. – Я думаю, что с двумя ножами ты будешь неплохо смотреться. – Вор пошел туда, откуда донесся третий стон. – О боги, о, о, боги, почему так произошло?
Никто из богов не взял на себя ответственность за ту пытку, которой Керд подверг Темпуса.
Высокий блондин, лишенный языка и рук, попытался ответить. Он дал Гансу понять, что пришпилен тремя стальными костылями. Шедоуспан успел вытащить их, и лишь потом его вырвало на скользкий пол этой лаборатории пыток. Повернувшись лицом к изуверу, Ганс так взглянул на него, что Керд вздрогнул и застыл, словно статуя, высоко держа лампу.
Высвободив Темпуса, Ганс помог ему сесть. Великан не истекал кровью, хотя все его тело было покрыто ранами, которые казались старыми, хотя таковыми не являлись. Он издавал ужасные утробные и горловые звуки, которые юноша понял как «я излечусь», и это было не менее ужасно. Что же это за человек?
– Ты можешь ходить?
Послышались какие-то звуки, которые повторились еще и еще раз. Ганс подумал, что понял Темпуса и посмотрел на его ноги.
– Не хватает нескольких пальцев, – пытался сообщить Темпус. На правой ноге не было трех пальцев, а на левой ноге отсутствовал средний.
– Тейлз, здесь только я и я не могу тебя нести. Сейчас я освобожу другого и он сможет нам помочь. Что мне делать?
Темпусу понадобилось много времени, чтобы попытаться донести свою мысль без языка, а Керд в это время сделал шаг. Ганс повернулся, и прямо перед его носом просвистел еще клинок. Керд замер на месте, держа лампу дрожащей рукой.
– ПРИВЯЖИ КЕРДА К СТОЛУ, – сказал Темпус. – ГДЕ СЛУГА?
Керд ответил, что в доме всего один слуга-садовник, да и тот лежит без сознания.
– Понятно, – произнес Ганс, – думаю, что ему явно хочется полежать скрученным. – Вытащив ножи из двери и рукава, он приказал Керду повесить лампу.
– Ты не можешь…
Ганс легонько ткнул его ножом:
– Могу. Беги, жалуйся Принцу-губернатору, как только сумеешь. Сейчас ты можешь умереть с позором. Я попытаюсь ударить тебя в живот так, чтобы перед смертью ты помучился несколько дней. Надеюсь, что ты умрешь от гангрены. Вешайлампу, монстр!
Керд так и поступил, подвесив ее на крюк, который оказался за дверью. Когда он повернулся, Ганс ударил его ногой в пах.
– Если у тебя там что-то осталось, – заметил вор, не глядя на мужчину, который с налитыми кровью глазами повалился на колени, раскинув руки. Ганс поспешил к садовнику, лежащему рядом с одеялом, которым его хозяин тушил пожар. Он связал коротышку так, что тот никогда не сумел бы сам освободиться.
Еще через несколько минут Ганс привязал его хозяина к одному из столов. Ему пришлось заткнуть рот кляпом, поскольку Керд перешел от угроз к самым безрассудным обещаниям. Разделавшись с ними, Ганс повернулся к Темпусу.
– Тейлз, их не развяжут даже за целый мешок золота. Теперь, во имя всякого бога, следует ли мне вынести тебя отсюда в город, друг?
Понадобилось минут пять, чтобы Ганс понял его речь.
– НЕТ, ОСТАВЬ МЕНЯ ЗДЕСЬ, Я ВЫЛЕЧУСЬ. СНАЧАЛА ПАЛЬЦЫ. ЗАВТРА Я УЖЕ СМОГУ ХОДИТЬ.
Ганс положил его обратно, принес вина, одеял и нечто вроде пудинга. Зная, что Темпус ненавидит свою беспомощность, юноша покормил его, помог выпить около литра вина, накрыл одеялом, проверил, хорошо ли привязаны Керд и его слуга, убедился, что дом закрыт и только тогда вышел.
Хирургические инструменты, сумку с деньгами и постельные принадлежности он вытащил за дверь лаборатории экспериментов над людьми. Он ни за что не ляжет в кровать монстра или на один из этих столов. Ганс решил улечься на полу в комнате садовника, но только не у Керда. Ему-ничего не нужно было от него.
Вот ценные ножи и сумка денег – другое дело.
Проснувшись на рассвете, Ганс оглядел трех спящих мужчин, вздрогнул и вышел из палаты, которая при свете дня казалась еще ужаснее, чем ночью. Вор нашел сосиску, подумал и решил ограничиться хлебом. Только боги и Керд знали, из какого мяса она сделана. В сарае Ганс отыскал тележку и мула. Изрядно попотев, он вытащил Темпуса через прорубленный в стене проход и уложил его в повозку, куда заранее подостлал соломы, прикрыв по плечи. Шрамы на теле Темпуса уже казались старыми, почти зажившими.
– Тебе не нужно от Керда несколько пальцев или нос, или еще чего-нибудь?
Темпус вздрогнул. Он попытался что-то сказать, и Ганс понял, что это слово «нет».
– Ты хочешь… оставить их на потом?
Темпус кивнул.
– «Для себя».
Вывезя Темпуса, Ганс потратил большую часть денег Керда на то, чтобы снять помещение и нанять немую и почти слепую старуху, а заодно купил легкую пищу, вино, одеяла и плащ. Он ушел, оставив Темпуса наедине со служанкой и унеся с собой лишь несколько монет да тяжелые воспоминания. За деньги он воспользовался услугами прекрасного лекаря, который не улыбнулся и не проронил ни звука, пока очищал и забинтовывал ранки, которые, по его словам, прекрасно заживут.
После этого Ганс проболел почти целую неделю. Оставшиеся три монеты принесли ему снотворное в виде хорошей выпивки.
Еще неделю юноша боялся, что может где-нибудь столкнуться с Темпусом, но этого не произошло. После того, как поползли слухи о некоем мятеже, он испугался, что может больше не увидеть Темпуса, и естественно, что он с ним повстречался. Тот был здоров и без единого шрама. Ганс повернул обратно прежде, чем тот его заметил.
Променяв кое-какие вещи на крепкое вино, он напился и пролежал так почти целый день. Ему не хотелось ни воровать, ни встречаться с Темпусом или Кадакитисом. Он мечтал, мечтал о двух богах и девушке шестнадцати лет. Об Ильсе, Шальпе и Мигнариал. И негашеной извести.
Диана Л.ПАКССОН
НОСОРОГ И ЕДИНОРОГ
– Зачем, спрашивается, ты вернулся? – ледяной прием Джиллы прервал слабые попытки Лало объяснить, почему он не ночевал дома. – Или последняя таверна в Санктуарии захлопнула перед тобой дверь? – Она уперлась кулаками в широкие бедра, мясистая плоть на плечах колыхалась под короткими рукавами.
Лало отступил назад, зацепился пяткой за ножку мольберта, и вся эта мешанина из растрескавшегося дерева и костлявых конечностей с грохотом рухнула на пол. Ребенок испуганно заплакал. Пока Лало ловил ртом воздух, Джилла одним прыжком подскочила к колыбельке и прижала ребенка к груди, укачивая и успокаивая его. Из окна доносились крики старших детей и их приятелей. Эти звуки смешивались со стуком тележных колес и зычными возгласами торговцев, расхваливающих товар на базаре.
– Вот видишь, что ты наделал? – сказала Джилла, когда малыш утих. – Разве недостаточно того, что ты не приносишь в дом хлеба? Если не можешь заработать на достойную жизнь своей живописью, занялся бы лучше воровством, как все в этой навозной куче, которую называют городом. – Ее лицо, багровое от злости и жары, плавало над ним, как маска богини-демона Дирилы на фестивале.
«По крайней мере у меня еще осталась гордость, чтобы не опуститься до этого!» Слова, чуть было не сорвавшиеся с языка, напомнили Лало времена, когда портретист мог пренебречь богатым заказом какого-нибудь купца ради хорошей компании в «Распутном Единороге». Впоследствии, когда его менее уважаемые знакомые делились с ним горстью монет, гордость молчала и не интересовалась происхождением этих денег.
Нет, не гордость заставляла его оставаться честным, горько подумал Лало, а боязнь навлечь позор на Джиллу и детей, а также быстро исчезающая вера в собственный дар художника.
Он с трудом приподнялся на локте, все еще будучи не в силах встать на ноги. Джилла засопела в отчаянии, уложила ребенка и ушла в дальний конец их единственной комнаты, которая служила им и кухней, и гостиной, и, правда теперь крайне редко, студией художника.
Трехногая табуретка застонала под тяжестью Джиллы, когда она, расчистив местечко на столе, принялась с ожесточенной тщательностью перебирать горох. Солнце, уже клонившееся к западу, проникало сквозь полуприкрытые ставни, бросая иллюзорные отблески на блеклый гобелен, возле которого обычно позировали его модели, и оставляя в темноте корзины с грязным бельем, которое жены граждан богатых и уважаемых (слова, которые в Санктуарии были синонимами) великодушно отдавали Джилле в стирку.
В былые времена Лало восхитился бы игрой света и тени или хотя бы поиронизировал по поводу взаимоотношений между иллюзией и реальностью. Неон уже слишком привык к нищете, которая пряталась в тени – убогая правда нахально выглядывала из-за всех его фантазий. Единственным местом, где он еще видел чудные образы, было дно кувшина с вином.
Он тяжело поднялся, машинально оттирая голубую краску, размазанную поверх старых пятен на его блузе. Он знал, что следовало бы и с пола соскрести краску, но кому она нужна, если никто не покупает его картин?
Завсегдатаи уже стекаются к «Распутному Единорогу». Там никто не обратит внимания на его одежду.
Когда он направился к двери, Джилла подняла голову, и солнечный свет восстановил первозданное золото ее седеющих волос. Она ничего не сказала. В былые времени она подбежала бы поцеловать мужа на прощание или постаралась бы удержать его дома. Теперь же, когда Лало спускался по лестнице, до него доносился только мерный стук гороха о дно котелка.
Лало потряс головой и сделал еще один глоток вина, очень маленький, потому что кружка была почти пуста. «Она была так красива…» – сказал он печально. – «Верите ли, она была подобна Эши, приносящей в мир весну.» Он рассеянно вглядывался сквозь сумрак «Единорога» в лицо Кантона Варры, пытаясь представить на месте сумрачных черт менестреля тот смутный образ золотоволосой девушки, за которой он ухаживал почти двадцать лет назад.
Но вспоминались ему только колючки в серых глазах Джиллы, когда она смотрела на него сверху вниз сегодня днем. Она совершенно права. Он был презренной тварью – живот раздулся от вина, рыжие волосы поредели; обещания, которые он ей когда-то давал, оказались пустыми, как его кошелек.
Каппен Варра откинул назад смуглую голову и захохотал. Лало видел блеск его белых зубов, мерцание серебряного амулета на шее, изящный силуэт его головы на фоне игры света и тени в трактире. Темные фигуры позади него обернулись на звук громкого смеха, но тут же снова вернулись к своим обычным темным-темным делишкам.
– Не хотелось бы мне спорить с коллегой-художником, – сказал Каппен Варра, – но мне твоя жена напоминает носорога! Помнишь, как тебе заплатили за оформление фойе у мастера Регли, и мы пошли отметить это дело в «Зеленый Виноград»? Я видел ее, когда она пришла за тобой… Тогда я понял, почему ты так много пьешь!
Менестрель все смеялся. Лало посмотрел на него с внезапной злостью.
– Имеешь ли ты право насмехаться надо мной? Ты еще молод. По-твоему, нет ничего страшного в том, что ты стряпаешь свои песенки по вкусу этих блох подмышкой у Империи, ибо ты хранишь истинную поэзию в сердце своем вкупе с лицами красивых женщин, для которых ты когда-то творил! Однажды ты уже заложил свою арфу за кусок хлеба. Когда достигнешь моего возраста, ты продашь ее за глоток спиртного и будешь сидеть и плакать, поскольку мечты все еще живы в твоем сердце, но слов для них у тебя уже не осталось.
Лало нащупал свою кружку, осушил ее и поставил на изрезанный стол. Каппен Варра тоже выпил, смех на мгновение исчез из его синих глаз.
– Лало, ты неподходящий компаньон для пьющего человека! – сказал наконец менестрель. – Я кончу дни столь же печально, как и ты, если застряну здесь! – Он встал, вскинул футляр с арфой на плечо и расправил складки плаща. – «Эсмеральда» вернулась в порт из Илсига – пойду-ка узнаю, какие новости она привезла. Доброй ночи, мастер Портретист, наслаждайся свой философией…
Лало остался на месте. Ему бы тоже следовало уйти, но куда? Дома ждала очередная стычка с Джиллой. Он начал рассеянно рисовать на столе, размазывая испачканным в краске пальцем винную лужицу. Его память постоянно возвращалась к прошлому, когда они с Джиллой жили ожиданием золотого дождя, который прольет на них Санктуарий. Он вспоминал, как они планировали, что станут делать с богатством, которое непременно должно было на них обрушиться, когда рэнканская аристократия признает его талант. Какие образы нездешней красоты должны были возникнуть в его воображении, когда отпадет потребность заботиться о хлебе насущном! Но вместо этого у них появился первый ребенок.
Он опустил глаза и понял, что палец его бессознательно рисует тонкий профиль той девушки, которой Джилла была в незапамятные времена. Он ударил кулаком об стол, разбрызгав рисунок из винных клякс, застонал и закрыл лицо руками.
– Твоя чаша пуста… – глубокий голос нарушил обступившую его тишину.
Лало вздохнул и посмотрел вверх.
– Так же, как и мой кошелек.
Широкие плечи закрыли от него свет висящей лампы, но когда незнакомец повел плечами и сбросил плащ, его глаза сверкнули красным отблеском, как зрачки волка, испуганного фонарями крестьян. Лало увидел, как половой лавирует между переполненными столами, торопясь к новому посетителю.
– Это ты нарисовал вывеску на этом заведении? – спросил человек. – Я постоянно меняюсь. Если ты нарисуешь мой портрет на память для девушки, я заплачу за твою выпивку…
– Да. Конечно, – ответил Лало. Половой остановился возле их стола, и посетитель заказал кувшин дешевого красного вина. Портретист достал из кармана свиток бумаги, развернул его на столе и прижал кружкой, чтобы не сворачивался. Крышка пузырька с тушью присохла, и он вспотел, открывая ее. Наконец, он взял перо.
Он быстро набросал очертания широких плеч и курчавых волос. Затем взглянул на заказчика. Черты его расплывались, и Лало заморгал, удивляясь тому, что успел так крепко напиться. Однако пустота в желудке говорила об обратном, да и половой еще только спешил к их столу с кувшином, успев быстро пригнуться под брошенным ножом и огибая начинающуюся потасовку, умудряясь при этом не пролить ни капли.
– Да повернитесь же к свету. Если я должен нарисовать вас, мне нужно хоть немного света! – пробормотал Лало. Глаза незнакомца вспыхнули под изогнутыми бровями. Портретиста пробила дрожь, но он заставил себя сосредоточиться на форме головы и заметил, как жидкие волосы обнажают выпуклые кости черепа.
Лало посмотрел на свой набросок. Что за шутки играет с ним этот тусклый свет? С чего он взял, что у парня курчавые волосы? Он заштриховал набросок, чтобы превратить его в туманный фон, и снова начал рисовать. Ему казалось, что горящие глаза прожигают его насквозь. Рука задрожала, и он быстро взглянул вверх.
Нос заказчика потерял форму, словно пьяный гончар слишком сильно надавил пальцем на глиняный выступ. Лало уставился на свою модель и бросил перо. Лицо сидящего перед ним ничуть не походило на то, что он рисовал минуту назад!
– Уходите! – сказал он враждебно. – Я не могу сделать того, о чем вы просите – я вообще ничего не могу… – Он затряс головой и не мог остановиться.
– Тебе нужно выпить, – кувшин звякнул о стол.
Лало схватил наполненную кружку и сделал глубокий глоток, не заботясь о том, сможет ли отработать эту выпивку. Он почувствовал, как вино обжигает пищевод и желудок, искрясь вливается в кровь и отгораживает его от мира.
– Теперь еще раз попробуй, – скомандовал незнакомец. – Переверни лист, посмотри на меня хорошенько, а потом рисуй, что запомнил, и как можно быстрее.
Лало долго смотрел на необычные черты человека, затем склонился над столом. Несколько минут лишь резкий скрип пера почти заглушал шум трактира. Лало должен был уловить блеск этих странных глаз, ибо он подозревал, что, когда посмотрит вновь на соседа, ничего, кроме них, не узнает.
Но какая разница? Рисунок был готов. Свободной рукой он потянулся к кружке, хлебнул еще, нанес окончательную штриховку, перебросил лист на другой конец стола и откинулся на стуле.
– Вот, вы хотели…
– Да, – губы незнакомца изогнулись. – Все замечено, вполне сносно. Насколько я понял, ты пишешь портреты, – продолжал он. – Ты мог бы взять заказ? Вот задаток… – он положил на стол сверкающую золотую монету и тут же спрятал свои бесформенные пальцы.
Не сводя с монеты изумленных глаз, Лало осторожно потянулся к ней, словно опасаясь, что она исчезнет. Нельзя было не признать, что вся эта сцена была исключительно странной. Но золото было твердым и холодным, оно тяжело легло в его ладонь. Он сжал пальцы.
Улыбка незнакомца стала жесткой. Внезапно он откинулся назад, в тень.
– Я должен идти.
– Но заказ! – закричал Лало. – Для кого, когда?
– Заказ… – теперь он с трудом выговаривал слова. – Если не боишься, иди сейчас… Ты сможешь найти дом Инаса Йорла?
Лало захлебнулся собственным смехом, но колдун не стал дожидаться ответа. Он закутался в плащ и нетвердо двинулся к двери. На этот раз то, что скрывалось под плащом, едва ли вообще можно было назвать человеческой фигурой.
Портретист Лало стоял на улице перед домом Инаса Йорла. Его била дрожь. С заходом солнца ветер из пустыни стал холодным, хотя на западе все еще брезжил зеленоватый свет. Когда-то он потратил два месяца, пытаясь запечатлеть на полотне это полупрозрачное мерцание.
Теснящиеся крыши города сейчас казались изящными силуэтами на фоне неба. Над ними возвышались забранные в леса башни Храма Саванкалы и Сабеллии. Хотя чужие храмы и оскорбляли местные предрассудки, они, по крайней мере, должны были украсить город. Лало вздохнул, пытаясь угадать, кто будет расписывать внутренние стены – возможно какой-нибудь известный художник из столицы. Он опять вздохнул. Если бы в свое время они уехали в Рэнке, этим художником мог бы стать он сам, и это было бы триумфальное возвращение в родные места.
Но тут его мысли вернулись к темному зданию, возвышающемуся перед ним, и к работе, которую ему предстояло здесь выполнить.
Страхи опутывали его мозг, как змеи. Ноги тряслись. Десятки раз, пока он шел сюда через весь город, они пытались заставить его остановиться или повернуть назад, а хмель давным-давно вышел из него с холодным потом.
Инас Йорл был одной из мрачнейших легенд Санктуария, хотя его мало кто видел воочию, что наглядно подтверждал эпизод в «Распутном Единороге». Ходили слухи, что проклятие некоего соперника обрекло его на существование в облике хамелеона. Но говорили также, что это было единственным ограничением его могущества.
Чем могло быть предложение колдуна – извращенной шуткой или частью какой-то волшебной интриги? «Я отдам золото Джилле, – подумал он, – его должно хватить на то, чтобы купить места в каком-нибудь отходящем караване…»
Но монета была лишь задатком за работу, которую он еще не выполнил, а спрятаться от колдуна было невозможно. Не было возможности и вернуть монету, не столкнувшись лицом к лицу с Инасом Йорлом. Лало охватила такая дрожь, что он с трудом взялся за дверной молоток, покрытый замысловатой резьбой.
Изнутри здание казалось просторнее, чем можно было себе представить снаружи, хотя бесцветный туман, клубившийся вокруг, не давая возможности рассмотреть хорошенько что-либо, кроме горящих красных глаз Инаса Йорла. Когда туман поредел и рассеялся, Лало увидел, что колдун восседает в резном кресле. Любой художник дорого отдал бы за возможность рассмотреть это кресло поближе, если бы в нем сидел кто-нибудь другой. Глаза чародея были устремлены на тонкую фигуру в расшитом илсигском плаще, стоявшую около огромного глобуса.
Вращая глобус, незнакомец обернулся, посмотрел на Лало, затем на Инаса Йорла.
– Ты хочешь сказать, что для твоего волшебства нужен этот пьянчужка?
Голос был женский, впрочем Лало уже разглядел тонкокостную структуру лица под жуткой дубленой кожей и клочковатыми волосами, грациозную гибкость тела в мужской одежде. Нечто подобное могло произойти с котенком из королевского зверинца, который оказался на улице и был вынужден бороться за жизнь на городских помойках.
Под взглядом женщины Лало сжался, болезненно переживая из-за своей запятнанной блузы, потрепанных штанов и щетины на подбородке.
– Зачем тебе живописец? – спросила она холодно. – Разве ты не можешь сделать это сам, используя собственное могущество? – Она дотронулась до мешочка, висящего у нее на шее, и из него вылился каскад лунного света, который оказался ниткой жемчуга, с негромким перестуком скользнувшей на каменный пол.
– Могу… – устало сказал колдун. Он бесформенной грудой скорчился в своем огромном кресле и казался совсем маленьким. – Если бы на твоем месте была другая, я бы напустил на тебя чары, которые стоят не дороже твоего ожерелья, а потом посмеялся бы над тобой, когда твой корабль окажется вне досягаемости ветров, несущих мою энергию, и красота твоя снова станет уродством. Все в природе стремится к хаосу, моя дорогая. Разрушать легко, ты это знаешь. На восстановление уходит гораздо больше сил.
– А твоя сила недостаточно велика? – в ее голосе звучала тревога.
Лало отвел глаза, когда наружность колдуна вновь начала меняться. Его бросало то в жар от смущения, то в холод от страха. В делах публичных оказаться свидетелем достаточно рискованно, а уж в делах личных это может иметь просто фатальные последствия. Какими бы ни были взаимоотношения между бесформенным колдуном и уродливой девушкой, ясно было одно – это отношения сугубо личные.
– Все имеет свою цену, – ответил Инас Йорл, когда, наконец, ему удалось стабилизироваться. – Я мог бы изменить тебя без посторонней помощи, если бы мне не приходилось при этом постоянно защищать самого себя. Жарвина, ты же не потребуешь, чтобы я отказался от этого? – его голос перешел в шепот.
Девушка покачала головой. С неожиданной покорностью она сбросила плащ на пол и села в кресло. Лало увидел перед собой мольберт – может, он и раньше здесь стоял? Он невольно шагнул вперед, разглядел набор кистей из отличного верблюжьего волоса, сосуды с краской, ровно натянутое полотно – все это было такого качества, о котором он мог только мечтать.
– Я хочу, чтобы ты ее нарисовал, – сказал Инас Йорл Лало. – Но не такой, как ты видишь сейчас, а такой, как я ее вижу всегда. Я хочу, чтобы ты изобразил душу Жарвины.
Лало уставился на него, словно был ранен в сердце, но еще не успел почувствовать боли. Он еле заметно покачал головой.
– Ты не только видишь душу женщины, но и читаешь в моем сердце… – сказал он с нелепой гордостью. – Одни только боги знают, я все отдал бы за то, чтобы уметь это делать.
Колдун улыбнулся. Он снова начал меняться, расти, и сознание Лало словно растворилось в сиянии его глаз. «Я дам зрение, а ты дашь свое мастерство»… – эти слова прозвучали в мозгу Лало, и больше он ничего не помнил.
Тишина предрассветного часа наполняла неподвижный воздух, когда Лало пришел в себя. Жарвина откинулась назад в своем кресле и, кажется, спала. У него страшно болели плечи и спина. Он вытянул руки, размял пальцы, и только тут его взгляд упал на полотно.
«Неужели я это сделал?» Он испытывал то знакомое чувство удовлетворения, когда рука и глаз работали на редкость слаженно, и ему почти удавалось уловить красоту, которую он видел. Но это – лицо с изящным носом и великолепными бровями, обрамленное волнами светящихся волос, тонкая гибкость тела, медовая кожа, на которой играли отблески рассыпанных по полу жемчужин, слегка вздернутые груди, увенчанные темно-розовыми сосками – все это была сама Красота.
Лало перевел взгляд с картины на девушку в кресле и зарыдал, ибо он смог разглядеть в ней лишь смутный намек на эту красоту, и знал, что видение прошло сквозь него как свет через оконное стекло, оставив его снова в темноте.
Жарвина пошевелилась и зевнула, открыв один глаз:
– Он закончил? Мне пора идти – «Эсмеральда» отплывает с отливом.
– Да, – ответил Инас Йорл. Его глаза сияли ярче обычного, когда он повернул к ней мольберт. – Я заколдовал эту картину. Возьми ее с собой и смотрись в нее как в зеркало. Со временем она превратится в зеркало, и все увидят твою красоту, как я вижу ее сейчас…