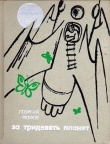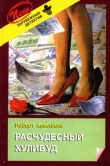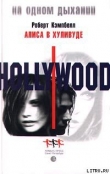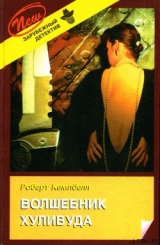
Текст книги "Волшебник Хуливуда"
Автор книги: Роберт Кемпбелл
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Я ведь только так, к сведению.
– Ладно, расскажи нам лучше, чего ради ты решил навестить в больнице незнакомого человека, – сказал Свистун, пытаясь отвлечь Риальто от обуявшего его ужаса и, действительно заинтересовавшись тем, что тот совершил столь несвойственный ему альтруистический поступок.
Риальто изложил последовательность событий, приведшую его к постели умирающего как раз в то мгновенье, когда тому приспичило умереть. И тут замешкался, начал неуверенно поглядывать то на одного собеседника, то на другого, а потом подался поближе к ним (а они, в свою очередь, подались навстречу ему), явно собираясь открыть роковую тайну (и они тоже это почувствовали).
– Айзека Канаана тут ведь сейчас нет, верно? – вполголоса пробормотал Риальто.
– А ты что, его видишь? – удивился Свистун.
– Может, отлить пошел или закемарил где-нибудь в глубине зала. А может, возьмет, да и войдет со стороны кухни как раз, пока мы здесь разговариваем. У него нюх-то как у собаки, а слух как у лисы. Кое-кто говорит: мало того, что он никогда не спит, так он еще и чужие мысли читает.
– Только не сходи с ума, Майк. Лучше погляди. – Свистун ткнул пальцем в стекло витрины. -Вот и он.
Боско и Риальто тут же посмотрели в окно.
Айзек Канаан стоял на бульваре, разговаривая с троицей истинных ветеранок панели – с Сучкой Су, с Ди-Ди и с Милашкой из Майями, известными также как три Металлистки. В кожаных юбочках супермини, в отливающих алюминием париках они целовали старого Айзека, сержанта полиции нравов, специализирующегося по сексуальным преступлениям против несовершеннолетних, в обе щеки.
– Значит, новости этого Кении Гоча касаются Айзека? – спросил Боско.
– И самым опасным образом. Это связано с делом, из-за которого он не спит уже столько лет, – по-прежнему вполголоса произнес Риальто; неужели он и впрямь думал, будто Канаан – с такого расстояния и сквозь толстое стекло витрины – расслышит его слова?
Свистун сразу же побледнел, облизал губы, как будто борясь с внезапным приступом тошноты.
– У Кении Гоча информация насчет Сары? – едва слышно спросил он.
– Он сказал своему родственнику – и моему приятелю – Эбу Форстмену, что знает человека, который ее похитил.
– А не сказал ли он, что присутствовал при всем, что предшествовало ее убийству?
– Об этом я ничего не знаю. У меня не было шанса спросить у него. Когда я вошел в палату, он спал. Я поговорил с ним, надеясь, что это его разбудит. Затем решил малость растормошить его, а он перекатился на спину и блеванул мне в рожу.
– Значит, тебе он вообще ничего не сказал? А только твоему приятелю Эбу, не так ли? – Свистун начал раскладывать информацию по полочкам. – Вообще ничего?
Риальто покачал головой.
– Значит, если бы ты и собирался рассказать что-нибудь Айзеку, рассказать тебе было бы все равно нечего?
И вот все трое расслабились, откинувшись на спинки кресел, словно кто-то принял за них важное решение. Если тебе нечего сказать, то и говорить незачем.
И вновь все трое посмотрели в окно. Канаан уже переходил через улицу, поворачиваясь то налево, то направо, заговаривая то с тем, то с другим, хотя сидящим в кафе его слов, разумеется, слышно не было. Он был в рубашке с длинными рукавами и в жилете, куртка, по случаю хорошей погоды, была переброшена через плечо, а шляпа, которую он никогда не снимал и под которой скрывалась еврейская кипа, конечно же, красовалась на голове.
– Рассказать ему то, что сообщил мне Эб, или нет? – спросил Риальто.
– Он и без того с ума сходит, – ответил Свистун. – Советую тебе просто-напросто забыть обо всей этой истории. Забудь о признании Кении Гоча, тем более, что и слышал ты его только с чужих слов. Я сам ничего не скажу Айзеку. Можешь быть уверен.
А Канаан уже поднялся на тротуар. Через несколько секунд он окажется в кофейне.
– Ничего не говорить Айзеку про что?
– Про все, – ответил Свистун. – Просто хотел проверить твой пресловутый слух, – объяснил он уже подошедшему к столику и задавшему последний вопрос Канаану.
Канаан самым тщательным образом скрывал от окружающих одно обстоятельство: уже несколько лет назад он утратил слух и заставил себя научиться читать по губам, из-за чего и пошла молва о том, что его слух обладает сверхъестественной остротой. Никто не замечал, что порой, отвернувшись или забывшись, он не отвечал на заданный в упор элементарный вопрос.
– Муха, пролетая над грузовиком, пукнет – я и то услышу, – сказал Канаан. -Так что нечего меня дурачить. Кто такой Кении Гоч и в чем именно он признался?
– Господи, ну и типчик, – в сердцах воскликнул Боско. – Хочешь кофе?
– Только что сваренного и в чистой чашке.
– Чего-нибудь съешь?
– Гамбургер с бобами.
– Гамбургер под бобовым соусом?
– Гамбургер и бобы под бобовым соусом. – Канаан смерил Риальто холодным взглядом. – Сбежал из сумасшедшего дома, выдаешь себя за доктора или это у вас, у сутенеров, теперь такая униформа?
– Не надо разговаривать со мной в таком тоне, сержант Канаан, – ответил Риальто. – У меня было скверное утро, а если меня будут оскорблять, то настроение от этого не улучшится.
– Ну-ка, давай прикинем, что именно из сказанного мной было для тебя оскорбительно?
– Мне пора. Я неважно себя чувствую. – Риальто встал из-за столика. – Садись на мое место и смейся на здоровье.
Он вышел из кофейни и поплелся по бульвару в сторону автостоянки.
– Сговорились? – Канаан аккуратно сложил куртку и повесил ее на ручку кресла. – Так что же все-таки вы решили утаить от меня? – Он сел, сложил руки на коленях, подался вперед. – Итак, Кении Гоч?
– А вы были с ним знакомы?
– Имя я смутно припоминаю.
– А такое имя, как Гарриэт Ларю?
– Педерастик в красном платье и в сандалиях из крокодиловой кожи?
– Я и вообще принимал его за особу женского пола, пока Майк Риальто не сообщил мне о том, что он умер, – сказал Свистун.
– Неужели?
– И Боско тоже держал его за девочку.
– Что ж, могу понять, – сказал Канаан. – Лицо у него было приятное, ноги хорошие. Он даже как-то признался мне в том, что не бреет их, только время от времени обесцвечивает волосики.
– Так или иначе, он умер.
Канаан крякнул, словно пропустив на ринге не слишком сильный удар.
– В лос-анджелесском хосписе, – продолжил Свистун.
– А вы как узнали?
– Майк Риальто знаком с его дядюшкой или старшим кузеном, что-то в таком роде. И заглянул туда по просьбе последнего. У парня был СПИД и его практически никто не навещал.
– И Риальто действительно это сделал? – изумился Канаан. – Навестил в больнице совершенно незнакомого человека по просьбе приятеля?
– А что тут такого? У Майка доброе сердце, – сказал вернувшийся с полным кофейником Боско.
– А я и не спорю, – ответил Канаан. – Но все же такое для него, по-моему, чересчур.
– А вот и гамбургер.
Боско подсел за столик.
– И вы не хотели рассказать мне о смерти этого педерастика? – удивился Канаан.
– Редкая погода, – заметил Свистун. – Стоит ли в такие деньки толковать о неприятностях? Нам не хотелось тебя расстраивать – как-никак, это один из твоих подопечных.
При упоминании о погоде Канаан отвернулся к окну и смотрел сейчас на панель, по которой фланировал всегдашний люд, подставив лица лучам утреннего солнца. Выглядело это со стороны Канаа-на так, словно на хорошую погоду он до сих пор не успел обратить внимания. Еще раз хмыкнув, он повернулся к друзьям. Он собирался задать им новый вопрос – их ответы или отговорки никак не могли его устроить, но в этот момент Ширли Хай-тауэр – заступившая на работу, пока они трепались за столиком, – принесла ему гамбургер, бобы и вновь отвлекла его от загадочной для него темы.
– Такая погода, – сказал он, словно внезапно вспомнив о том, что и сам знавал лучшие дни и, возможно, не утратил надежды на их возвращение, – все равно что стакан хорошего вина.
И все с изумлением уставились на Канаана. Из его скорбных уст никто такого услышать и не чаял.
Глава пятая
В одиннадцать утра Честер Вальц приступил к работе над двумя новыми трупами, дожидающимися его с самого начала смены в морге лос-анджелесского хосписа.
Он был нервным человеком, пальцы которого вечно дергались точно на ниточках. Когда его рукам не находилось другого занятия, одна из них ласкала другую, пальцы то сплетались, то расплетались. Эта привычка, равно как и манера, склонив голову на бок, резко мотать ею из стороны в сторону, не говоря уж о больнично-зеленой спецодежде и зеленых калошах поверх башмаков, придавали ему сходство с крупной обезьяной из зоопарка перед началом кормежки.
Каким именно образом он попал на работу в "просторное царство" – а именно так он называл свое место службы, пытаясь произвести впечатление на Какую-нибудь шлюшку из бара бесстрашным цинизмом человека, привычного к мертвецам и к смерти, – оставалось загадкой для самого Вальца. Сперва он был школьником, который подрабатывал рассыльным в местной аптеке, потом, учась на медицинском, дежурил ночами в университетском морге, куда доставляли свежие трупы для нужд анатомического театра, а затем оказался на службе в морге хосписа и вынужден был иметь дело с самыми заразными трупами во всем городе.
Он посмотрел на каталки с носилками. Старуха, умершая от рака печени, не требовала никакой обработки, кроме быстрого обмыва; вскрытия не будет, потому что хирурги успели пошуровать у нее во внутренностях уже при жизни и насмотрелись на все, на что там можно было насмотреться. И все же Вальц решил причесать ее и немного подрумянить щеки на случай, если с похоронных дел мастерами появится и кто-то из родственников, угодив которым хорошим обращением с матушкой, тетушкой или бабушкой, можно рассчитывать на чаевые.
Другое тело – молодого человека – было залито кровью, которую он выхаркнул из легких. Это была классическая саркома, форсированная СПИДом, синдром Карпова, – здесь надо будет поработать в перчатках, в полной плексиглазовой маске, да и приняв другие меры предосторожности, чтобы ни капля крови или какой-нибудь другой телесной жидкости не попала на кожу самому Вальцу, хоть и не было у него ни порезов, ни царапин.
Сперва он решил было одеть покойника в трупный комбинезон и отправить его в морг округа, где протоколируются все жертвы СПИДа – и обрабатываются при этом куда лучше, чем удалось бы ему самому. Затем он решил, что надо хотя бы обмыть тело, оказав тем самым экспертам любезность – и чтобы они это запомнили. Никогда ведь не знаешь, от кого и когда может понадобиться ответная услуга.
Он видел, что кровью залиты главным образом подбородок, горло и грудь. Особенно ясной стала эта картина после того, как он снял брошенное кем-то на грудь покойнику полотенце. Выглядело все так, словно мертвеца выкрасили в красный цвет крупной кистью.
Вальц направил на тело струю воды под точно и тщательно выверенным углом – чтобы она не разбрызгалась. Он так и не заметил, что в горло Кении Гочу впился стальной крючок.
Глава шестая
Есть города, полные обещаний, обольщений, соблазнов: грифельные доски, по много раз исписываемые письменами надежды, которые затем затирают или попросту стирают, в результате чего над всей доской стоит пыль раскрошившегося мелка, лишь мало кому из нас удается прочесть на этой доске давным-давно стертые с нее письмена; слишком уж озабочен каждый собственным повседневным существованием, которое, как ему искренне кажется, затянется еще на тысячу лет.
Боско Силверлейк знал и помнил все стертые с доски истории и он понимал, что происходит, когда пересказываешь их заново и, в особенности, когда над ними задумываешься.
Однажды, давным-давно, он был влюблен в малолетнюю проститутку и потерял руку под пулей, выпущенной ее сутенером. Но в подлинного калеку превратило его вовсе не это увечье. Тот факт, что его возлюбленная разрыдалась над трупом своего сутенера (которого Боско сумел достать и убить целой рукой), разорвал ему сердце. Поэтому, когда у него – а такое изредка случалось – спрашивали, при каких обстоятельствах он лишился руки, Боско отвечал по-разному: то будто он потерял ее во Вьетнаме, то в автоаварии, то в пьяной драке в малайском борделе… Истинную историю он предпочитал держать при себе.
И если кому-нибудь вздумалось бы спросить у него совета, он посоветовал бы принимать вещи такими, каковы они есть, а скверные истории – забывать или, во всяком случае, не припоминать в присутствии посторонних.
Канаан управился с гамбургером и с бобами, запил все это тремя чашками кофе и вновь отправился на улицу – в поисках информации, а главным образом, заблудших душ, которые следовало спасти.
Боско заметил, как мрачно Свистун поглядывает в окно, и ему стало ясно, что погожий денек потерял для его друга все свое очарование.
– Больше никогда, – пробормотал Свистун. -Больше никогда.
Боско поспешил к нему с кофейником. Он прекрасно понял слова Свистуна: больше никогда не заставлять страдать Канаана, больше никогда не терзаться страданиями самому.
– Нельзя ворошить все это по-новому, – сказал Боско. – Да и нет тут ничего: незначительное замечание умирающего, брошенное дальнему родственнику, который, к тому же, мог не расслышать или неправильно понять, – а ты уже с ума сходишь. А ввяжешься – и начнешь терзаться круглыми сутками. И жизнь станет не мила. Превратишься в живой призрак вроде нашего старого Канаана.
Свистун ничего не ответил, просто уставился на собеседника, словно недоумевая, из какого источника черпает Боско свой иммунитет к мерзости мира, в котором мы все живем.
– Говорю тебе, ничего хорошего из этого не получится.
– И, конечно, собираешься сказать, что малютку Сару этим все равно не воскресишь?
– Таких глупостей или, если угодно, таких ум-ностей я себе высказывать не позволяю, – возразил Боско. – Если бы мне казалось, будто столько лет спустя ты в состоянии найти этого мерзавца, я бы первый сказал – начинай розыск. Если бы мне казалось, будто ты сможешь найти его, руководствуясь замечанием умирающего, – найти и полностью удостовериться в том, что это именно он, я бы подержал твою куртку, пока ты изрубил бы ублюдка в кровавый фарш, даже не пропустив через мясорубку. Я не из тех, кто проповедует непротивление злу насилием. Я всего лишь говорю тебе, что у тебя ровным счетом ничего нет. Говорю, что прошло десять лет. Говорю, что тебе следует воспользоваться советом, который ты сам дал Риальто, – и забыть обо всей этой истории.
– Сару похитили и убили, – с нажимом на каждое слово, как будто он высекал их на камне, ответил Свистун.
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, и представляю себе, какие чувства ты испытываешь. Вспомнить о том, что сотворили с малюткой еще при жизни!
– От подобных чувств трудно избавиться, – сказал Свистун.
– Это я понимаю. И это-то и есть самое худшее. Человек может сделать с другим человеком нечто пострашнее убийства, потому что смерть означает конец воспоминаниям и мучениям.
Свистун отодвинул от себя по столу чашку, давая понять, что намерен уйти.
– Куда-то собрался? – спросил Боско.
– Просто пройтись. Или, может, проехаться.
– Куда, например?
– Может, вдоль по Сансет до Приморского хайвея. А может, и куда-нибудь на север.
– А там-то что интересного?
– Может, в Гриффит-парк покататься на лошади.
– Только нарвешься на неприятности. Кто-нибудь вспугнет лошадь и ты грохнешься.
– А может, на кладбище в Форест-лаун.
– Что ж, посидеть и успокоиться тебе и впрямь не помешало бы, – не без определенного сомнения заметил Боско.
У Дженни Миллхолм были беспокойные руки и она то и дело поправляла прядку волос, падающую на правый глаз. Ей было под пятьдесят и хотя она оставалась стройной, на шее и на руках кожа стала практически пергаментной. Красавицей она не была и в молодости, но мужчины часто ошибочно принимали ее общую нервозность за сексуальную притягательность и с легкостью клевали на эту наживку.
Мужчина, сидящий напротив нее, выглядел лет на двадцать моложе, пока не попадал под безжалостные лучи утреннего солнца, а тогда оказывалось, что под глазами у него сеть морщин, а губы в склеротических пятнышках, выглядящих как маленькие шрамы.
Это был красивый мужчина с темной ухоженной бородой, четко обрамляющей лицо и подчеркивающей его белизну, усиливая эффект мнимой молодости или, скорее, вневозрастности. Черные волосы были зачесаны назад и стянуты лентой, что придавало ему сходство со святым великомучеником. В черных глазах мелькали забавные янтарные искорки, взгляд его из-за этого казался насмешливым. Можно только удивляться тому, сколь немногие догадывались, что этот эффект обусловлен корректирующими зрение контактными линзами. Одевался он тоже в черное, подчеркивая стройность собственной фигуры и усиливая исходящую от него ауру тайны. Жестикуляция его была изящной и плавной, что представляло собой разительный контраст с размашисто-нервными манерами его собеседницы.
Звали его Раймондом Радецки. Его остроносый и широкоскулый дед, выходец из Черногории, приехал в Америку как раз вовремя, чтобы его сын, отец Раймонда, успел обзавестись мужским потомством призывного возраста аккурат в начале бойни во Вьетнаме. А обосновалась семья в Дейтоне, штат Огайо.
Это была всем войнам война. Война, принесшая выгоду разве что торговцам наркотиками. Война, на которой восемьдесят тысяч заведомых неудачников торчали в джунглях, именуемых передовой, тогда как четыреста пятьдесят тысяч служащих вспомогательных войск трахали косоглазых аборигенок, торговали сигаретами, наркотиками и шоколадом и жаловались разве на то, что фильмы, присылаемые им из Хуливуда, постоянно оказывались далеко не первой свежести.
Вьетнамская война породила множество безумцев с синдромом отложенного стресса – странным и сложным душевным расстройством, с которым не шли ни в какое сравнение ни так называемый бомбовый шок первой мировой, ни пресловутый "комплекс усталости", выявленный в ходе второй мировой и вновь обнаруженный на корейской. Вьетнамская война породила множество наркоманов и дезертиров, контрабандистов и воров, насильников, садистов и убийц. Она породила разумоненавистни-ков, женоненавистников и, главным образом, человеконенавистников.
Самооправдание всегда и во всем стало единственной религией, которую исповедовал Радецки, оно стало для него стилем жизни, тогда как самое жизнь он считал всего лишь мрачной шуткой и не ставил ни в грош.
И от имени Раймонд Радецки он отказался.
Возле кресла, в котором он сидел, стоял черный «дипломат», на котором золотыми буквами было выведено его нынешнее имя: "Бенну Рааб".
Имя Бенну было взято из древнеегипетского вероучения. Так египтяне называли душу верховного бога Ра, бывшую вожатой для остальных божеств в подземном царстве и идентифицируемую с Фениксом – символом бессмертия. Рааб же был бесноватым чудовищем, драконом тьмы, змием, которого создала рука самого Творца, как об этом сказано в "Книге Иова".
Разумеется, это был всего лишь псевдоним – может быть, даже артистический псевдоним, какими в Хуливуде щеголяет едва ли не каждый.
Между Раймондом Радецки из Дейтона, и Бен-ну Раабом из Голливуда, пролегла дистанция огромного размера: полдюжины других имен, полдюжины стран, сотня хитроумных замыслов и поступков, все что угодно – начиная от шантажа, вымогательства, похищения детей и кражи со взломом и заканчивая заказными убийствами.
Они сидели в студии у Дженни Миллхолм, – это было залитое солнечным светом и заставленное всем, чему положено находиться в мастерской у художника, помещение.
На кофейном столике, разделявшем собеседников, красовались мумифицированная обезьянья лапа и тщательно расписанный человеческий череп.
Повсюду были разбросаны фотографии мальчика лет шести-семи – и в серебряных рамочках, и в кожаных, и в фанерных.
На стенах висели броские картины, на которых были изображены женщины, оплетаемые и терзаемые змеями, экзотические животные и плотоядно ухмыляющиеся демоны, сжимающие в руках и в лапах вздыбленные подобно копьям мужские члены, маленькие дети, улетающие, бессильно простирая ручонки, в охваченную вихрем бездну. Стен на все картины не хватило и часть из них лежала стопками на полу.
Дженни смотрела то на картины, то на фотографии мальчика, то на Рааба.
А он раскладывал перед художницей ее собственные фотопортреты размером четыре на пять дюймов.
– Это для меня очень важно, – сказала она. -Тот снимок, который я выберу, будет помещен в брошюре, рекламирующей мое персональное шоу.
– Это понятно. Вот, посмотрите-ка. Смахнув прядку волос со лба, она всмотрелась в фотографии, прядка тут же упала, и она вновь смахнула ее; осмотр фотографий занял немало времени.
– А вы их ретушировали? – спросила она.
– Я бы мог их отретушировать, если вам угодно, но большинству заказчиков это не нравится. Ведь зритель сразу соображает, что здесь что-то не так.
– А лупу вы прихватили?
Он достал футляр, положил его на стол, раскрыл, достал лупу. В футляре находились также телеобъективы, радиотелефон и тому подобное.
Подавшись вперед, она прикоснулась пальцем к набору миниатюрных инструментов, включая ножи.
– Прошу вас, не надо. Она отдернула руку.
– А что это такое?
– Инструменты для мелкой починки камеры. Он выхватил из футляра ювелирскую лупу и подал ей.
Она вновь смахнула прядку, поднесла лупу к глазу и всмотрелась в первый из снимков. А он невозмутимо уставился на ее макушку.
Оторвавшись от фотографии, она пристально посмотрела ему в глаза.
– Но этот снимок вы уже отретушировали, не так ли?
– Что вы хотите сказать?
– Кто-то его разрисовал. Рот слишком грустный, а в глазах застыл ужас.
Выдержав ее взгляд, он затем принял у нее лупу, поднес к глазу и склонился над фотографией. Он просидел с лупой долгое время, хотя на самом деле его ничуть не интересовало то, на что он смотрел.
– Это ваши глаза и ваш рот, точь-в-точь такие Же, как в жизни. Да и с какой стати мне было бы разрисовывать вашу фотографию?
– Может быть, не вы, а кто-то еще. Вы сами проявляете негативы?
– Нет, как правило, отдаю в лабораторию.
– Ну вот, – сказала она таким тоном, словно он только что подтвердил ее подозрения.
– Но с какой стати кому-нибудь в фотолаборатории пришло в голову ретушировать ваши снимки?
– Это-то и есть самое интересное, не правда ли?
Совсем тетка спятила, подумал он.
– Можно повторить съемку, – предложил он.
– За дополнительную плату?
– Но не такую большую, как в первый раз, хотя да, конечно же. Ведь у меня расходы. Материалы и мое время.
– Кроме того, даже если мне это только почудилось, рот все равно слишком грустный, а глаза слишком испуганные.
– Я ведь просил вас улыбнуться, но вы не захотели.
Она шлепнула себя по лбу, словно ее разозлила мысль о том, что ответственность за неудачный фотопортрет он перекладывает на нее.
Так в чем же тут дело, подумал он. В обыкновенном тщеславии? Снимки не нравятся ей, потому что она не прочь выглядеть моложе, свежее и краше, чем на самом деле.
– На следующем сеансе я постараюсь улыбнуться, – сказала она. – И я попросила бы вас после этого проявить и отпечатать фотографии собственноручно.
Он ответил не сразу.
– Ну, если вам так угодно.
– Да уж, попрошу вас. Мне действительно хочется, чтобы вы занялись этим сами.
– Но почему же?
– Мне бы не понравилось, если бы мои фотографии появились у кого-нибудь без моего ведома.
Он уже хотел было спросить у нее, с какой стати могут понадобиться ее фотографии технику из фотолаборатории, но в последний момент раздумал. Манию преследования в свободном, переходящем в бесконечность полете он умел идентифицировать там, где с нею сталкивался. И умел зарабатывать на ней лишние деньжата, – имел в этом плане немалый опыт.
– Вам кажется, будто я чрезмерно мнительна? – спросила она.
Он пожал плечами.
– Уже не в первый раз кто-то пытается обзавестись моими фотографиями.
– Значит, такое бывало?
– Что да, то да. Люди умеют использовать чужие снимки в своих интересах.
– И как же, конкретно?
Внезапно она улыбнулась, словно весь этот разговор был не более чем безобидной светской беседой.
Вам известно, что некоторые мексиканские и центрально-американские племена верят, что, фотографируя человека, у него крадешь душу? Что вы на это скажете?
– Это понятно.
Он накрыл ее руку своей.
Она резко отдернула руку и шлепнула себя по виску с такой яростью, словно влепила ему тем самым символическую пощечину.
– Не надо, – сказала она. – Я не имел в виду ничего дурного.
Он откинулся в кресле.
– Я не собираюсь расплачиваться с вами немедленно. Я рассчитаюсь с вами, когда ваша работа меня удовлетворит. Понятно?
Если уж это нельзя назвать кокетством, то что же еще?
– Понятно, – бесстрастно произнес он, после чего улыбнулся.
– Да вы ведь на это и не рассчитывали, верно?
– Нет, конечно. Не рассчитывал.
Она встала из-за столика, подошла к высокому шкафчику, почти сплошь завешенному фотографиями мальчика. Она встала так, что ее голова оказалась рядом с одной ее фотографией, висящей на стене.
Ему показалось, будто она ждет от него какой-то реакции.
– А кто этот мальчик?
– Он был моим сыном.
– Был?
– Он умер.
Прядка опять упала ей на лоб, но на этот раз она не смахнула ее. Она стояла, глядя на него во все глаза.
– Прошу прощения, – пробормотал он. – Расскажите мне про разрисованный череп.
Он решил сменить тему разговора, чтобы не причинять ей ненужных страданий.
– Он достался мне в Мексике, – сказала Дженни. – Вы были в Мексике?
Он подобрался, заморгал – она могла бы поклясться, что заморгал, – но этот человек умел быть спокойным и невозмутимым, – и в этом она могла поклясться тоже, – поэтому он сразу же взял себя в руки, так ничего и не выдав никому, кто бы ни глядел на него с тою же пристальностью, что и она.
Только в пограничных городах. Тихуана, Но-галес.
– А в глубь страны никогда не забирались? Скажем, в Чихуахуа?
– А вы именно там и жили?
– Нет. Просто это был ближайший город, который более или менее можно было назвать городом. Дважды в год я ездила туда за покупками. Мы жили, то есть мы с сыном, выше в горах. Жили среди индейцев. Они и преподнесли мне голову.
Они пристально глядели друг на друга, осознавая, что за внешне непринужденной беседой имеется скрытый подтекст, подобно тому, как люди, готовящиеся вступить в любовный акт или убить друг друга, разговаривают на нескольких уровнях одновременно.
– Я расписала череп оленя, который нашла, – пояснила она. – После этого индейцы начали носить мне черепа животных, чтобы я их расписывала. Олени, ягуары, дикие кошки, и так далее. Просили расписывать их соответствующими символами. Они, знаете ли, верят в духов.
– Понятно, – улыбнулся он.
Теперь ему и впрямь стал чуть более понятен ее страх перед фотографированием и перед тем, что ее снимки могут попасть в чужие руки.
– А потом они стали дарить мне черепа, которые я расписывала и продавала в туристических лавках в Чихуахуа.
– Я не совсем понимаю. Вы говорите то о черепах, то о головах, – тихо полуспросил он. Однако в его голосе чувствовалась некая серьезность, словно он был профессором, требующим от студентки на экзамене максимально четких формулировок.
– Через какое-то время они начали таскать мне только что отрубленные головы. Я соскабливала с них мясо и бросала в ведерко с горючей известью.
– А голова? Человеческая голова, о которой вы упомянули? Ее вам тоже принесли только что отрубленной?
Она надолго замолчала, отвернулась от него, хотя и продолжала следить за ним краешком глаза.
– Это была голова человека, совершившего чудовищное злодеяние. Его казнили жители деревни.
– Казнили без суда?
Она улыбнулась, продолжая искоса поглядывать на него.
– Сомнений в его вине не было.
– А в чем она заключалась?
Она помедлила, затем, окончательно отвернувшись от него, шлепнула себя по виску.
– Он похищал детей. Похищал детей, переправлял через границу и продавал. И мне принесли его голову. У меня не было права отказаться. Это был многозначительный и великодушный жест, потому что моего сына тоже похитили.
– А вы сказали, что он умер.
– Тела детей нашли на обочине дороги. Похитители убили детей и бросили их. Возможно, когда они поняли, что индейцы пустились в погоню, шансов на то, чтобы уйти с детьми у них уже не было. Когда тела нашли, их уже объели хищные звери.
– А похитителей было несколько? И индейцы настигли и обезглавили лишь одного из них?
– Непосредственных похитителей было несколько. А заказчика похищения там никто не видел.
– А властям заявили?
– Чего ради? Да и что предприняли бы власти? Похитители крали детей из индейских селений в горах. Услышав об этом, представители властей просто-напросто пожали бы плечами. И, кроме того…
– Да?
– Индейцы уже убили одного из похитителей. И боялись, что власти возьмутся за них самих. Они там, как вы можете себе представить, люди темные. Они различают добро и зло, различают справедливость и несправедливость, но суд, прения, разбирательство, – все это не про них.
Он убрал лупу, закрыл футляр, поднялся с места.
– Жаль, что так вышло со снимками. Давайте еще разок попробуем.
Он сделал несколько шагов по направлению к двери, затем остановился.
– А живя среди индейцев, вы сами верили в духов? – спросил он. – Верили в колдовство?
Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. У нее перехватило дыхание.
– На вашем месте, – сказал он, – я бы сжигал каждую волосинку, остающуюся на гребешке. Сжигал бы обрезки ногтей и зеркала занавешивал бы.
Он насмешливо улыбнулся, излагая ей азы противодействия силам черной магии.
И вдруг из его «дипломата» раздался звон, сперва напугав, а затем рассмешив их обоих.
– Мой радиотелефон, – сказал он. – Возьму трубку уже на улице.
После его ухода ее начало трясти. Она не знала, не слишком ли себя выдала, подстроив ему ловушку в расчете на какое-нибудь неосторожное высказывание с его стороны. И она по-прежнему далеко не была уверена в том, что теперь, по истечении десяти лет, нашла именно того человека, на которого охотилась. Был, правда, способ на все сто процентов убедиться в том, что заказчиком тогдашнего похищения детей является именно он. Похититель, которому позднее отрубили голову индейцы, успел сказать им, что на ягодице у заказчика родимое пятно в форме паука.
Свистун не поехал ни на побережье, ни в Гриффит-парк, ни на кладбище Форест-лаун.
В своем видавшем виды «шевроле» он отправился в лос-анджелесский хоспис. Припарковал машину на стоянке, прошел в здание и очутился у стойки, к которой подходят все, кому хочется посетить умирающих.
Придвинул поближе к стойке пластиковое кресло, уселся в него. Долгое время никто не обращал на него никакого внимания. А потом пожилая женщина, сидевшая через два кресла от него, подавшись вперед, затеребила его за рукав.
– Раньше я вас здесь не видела.