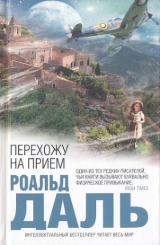
Текст книги "Перехожу на прием"
Автор книги: Роальд Даль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Киль умолк. Никто не шелохнулся и не произнес ни слова за все то время, что он говорил. Теперь заговорил Шеф. Он переступил с ноги на ногу, повернулся к окну и тихо, почти шепотом, произнес:
– Черт знает что.
И мы все продолжили снимать комбинезоны и складывать их в углу на пол, все, кроме Старика, этого приземистого коротышки. Он стоял и смотрел, как Киль медленно идет в угол, чтобы сложить там свою одежду.
После рассказа Киля жизнь в эскадрилье снова вошла в норму. Исчезло напряжение, которое мы испытывали больше недели. На аэродроме всем было занятие. Но никто больше не вспоминал о путешествии Киля. Мы никогда больше об этом не говорили, даже когда пили по вечерам в «Эксельсиоре» в Хайфе.
Сирийская кампания подходила к концу. Всем было ясно, что скоро она должна закончиться, хотя французы и сражались отчаянно южнее Бейрута. Мы продолжали летать. Мы много летали над судами, с которых обстреливали берег, ибо наша работа состояла в том, чтобы защищать их от «Юнкерсов-88», прилетавших с Родоса. Во время последнего полета над судами Киль и погиб.
Мы летели высоко над кораблями, когда нас атаковали крупными силами Ю-88, и все завертелось. У нас в воздухе было только шесть «харрикейнов»; «юнкерсов» налетело много, и битва была серьезная. Не очень хорошо помню, как тогда все происходило, да это и не запомнишь. Но помню, что сражение было сумасшедшим, с преследованиями, «юнкерсы» с ходу атаковали корабли, с кораблей отстреливались чем только можно, так что небо было полно белых цветов, которые быстро расцветали, вырастали на глазах и уносились с ветром. Помню, как немец взорвался в воздухе. Это произошло быстро, вспыхнуло что-то белое, и там, где только что был бомбардировщик, ничего не осталось, только крошечные железные обломки медленно посыпались вниз. Помню еще одного, у которого отстрелили заднюю турель, и та летела вместе со стрелком, который уцепился за хвост стропами, пытаясь снова взобраться в машину. Помню одного смельчака, который оставался вверху, чтобы биться с нами, пока другие заходили на бомбометание. Помню, мы его сбили, и помню, как он медленно перевернулся на спину, бледно-зеленым животом вверх, как дохлая рыба, а потом штопором ринулся вниз.
И помню Киля.
Я был рядом с ним, когда его самолет загорелся. Я видел, как пламя вырывается из носа его машины и пляшет на капоте двигателя. Из выхлопных патрубков его «харрикейна» потянулся черный дым.
Я подлетел ближе и стал вызывать его по радио:
– Алло, Киль. Тебе надо прыгать.
Я услышал его голос. Он говорил спокойно и медленно:
– Это не так-то просто.
– Прыгай, – кричал я, – прыгай быстрее!
Я видел его под стеклянной крышей кабины. Он посмотрел в мою сторону и покачал головой.
– Это не так-то просто, – ответил он. – Я ранен. У меня прострелены руки, и я не могу расстегнуть замок привязных ремней.
– Выпрыгивай, – кричал я. – Ради бога, прыгай же!
Но он не отвечал. Какое-то время его самолет продолжал лететь прямо, а потом мягко, словно умирающий орел, опустил одно крыло и устремился к морю. Я смотрел ему вслед; в небе осталась тонкая полоска черного дыма. И тут я снова услышал голос Киля, который отчетливо и медленно произнес: «Ну и повезло же мне, подлецу. Как же мне повезло».
Осторожно, злая собака
Внизу нескончаемым морем простирались волнистые облака. Сверху светило солнце. Оно было белым, как и облака, потому что солнце никогда не бывает желтым, когда на него смотришь, находясь высоко в небе.
Он продолжал лететь на «спитфайре». Его правая рука была на штурвале, а руль направления он контролировал одной левой ногой. Это было очень просто. Машина летела хорошо. Он знал, что делает.
Все идет отлично, думал он. Все в порядке. Со мной все нормально. Дорогу домой я знаю. Буду там через полчаса. Когда приземлюсь, вырулю на стоянку, выключу двигатель и скажу: «Ну-ка, помогите мне выбраться». Постараюсь, чтобы голос мой звучал как обычно и естественно, никто ничего и не заметит. Потом я скажу: «Да помогите же кто-нибудь выбраться. Самому мне никак, я ведь ногу потерял». Они все рассмеются и подумают, что я шучу, и тогда я скажу: «Хорошо, идите и сами посмотрите, мерзавцы неверующие». Тогда Йорки заберется на крыло и заглянет внутрь кабины. Его, наверное, стошнит, столько там кровавого месива. А я рассмеюсь и скажу: «Ради бога, да помогите же мне выбраться».
Он снова взглянул на свою правую ногу. От нее мало что осталось. Осколок угодил ему в бедро, чуть выше колена, и теперь там была лишь кровавая мешанина. Но боли не было. Когда он смотрел на свою ногу, ему казалось, будто он смотрит на что-то чужое. То, на что он смотрел, не имело к нему отношения. Просто в кабине оказалось какое-то месиво, и это странно, необычно и довольно занятно. Это все равно что найти на диване мертвого кота.
Он и вправду чувствовал себя отлично, немного разве что был взвинчен, но страха не испытывал.
И не буду я выходить на связь, чтобы приготовили санитарную машину, думал он. К чему это? А когда приземлюсь, из кабины вылезать в этот раз сам не буду, но скажу: «Эй, ребята, кто там есть. Идите сюда, помогите-ка мне вылезти, я ведь ногу потерял». Вот будет смеху. Я и сам хохотну, когда скажу это; я произнесу это спокойно и медленно, а они подумают, будто я шучу. Когда Йорки залезет на крыло и его стошнит, я скажу: «Йорки, старый ты сукин сын, ты приготовил мою машину?» Потом, когда выберусь, напишу рапорт. А уже потом полечу в Лондон. Возьму полбутылки виски и зайду к Голубке. Сядем у нее в комнате и будем пить. Воду я наберу из крана в ванной. Много я говорить не буду, но, когда придет время идти спать, я скажу: «Слушай, Голубка, а у меня для тебя сюрприз. Сегодня я потерял ногу. Но мне все равно, если и ты не против. Мне даже не больно. В машине мы куда угодно съездим. Пешком ходить я никогда не любил, если не считать прогулок по улицам медников в Багдаде, но я могу передвигаться на рикше. Могу поехать домой и рубить там дрова, правда, обух то и дело соскакивает с топорища. Надо бы его в горячую воду опустить; положить в ванну, пусть разбухает. В прошлый раз я нарубил дома много дров, а потом положил топорище в ванну…»
Тут он увидел, как солнце сверкает на капоте двигателя его машины. Он видел, как солнце сверкает на заклепках в металле, и тогда вспомнил о самолете и о том, где он находится. Он уже не чувствовал себя хорошо: его тошнило и кружилась голова. Голова то и дело падала на грудь, потому что у него уже не было сил держать ее. Но он знал, что летит на «спитфайре». Пальцами правой руки он чувствовал ручку управления.
«Сейчас я потеряю сознание, подумал он. В любой момент могу отключиться».
Он бросил взгляд на высотомер. Двадцать одна тысяча. Чтобы испытать себя, он попробовал сосредоточиться на сотнях и тысячах. Двадцать одна тысяча и сколько? Показания высотомера размылись. Он и стрелки не видел. Тут до него дошло, что надо прыгать с парашютом, нельзя терять ни секунды, иначе он потеряет сознание. Быстро, лихорадочно он попытался отодвинуть фонарь левой рукой, но сил не было. Он на секунду убрал правую руку с ручки управления, и двумя руками ему удалось отодвинуть крышку. Поток воздуха, казалось, освежил его. На минуту к нему вернулось ясное сознание. Его действия стали правильными и точными. Вот как это бывает с хорошими летчиками. Он сделал несколько быстрых и глубоких глотков из кислородной маски, а потом повернул голову и посмотрел вниз. Там было лишь обширное белое море из облаков, и он понял, что не знает, где находится.
«Наверное, это Ла-Манш. Точно, упаду в Ла-Манш».
Он стянул шлем, расстегнул привязные ремни и рывком поставил ручку управления в левое положение. «Спитфайр» мягко перевернулся через крыло брюхом кверху, и летчик резко отдал ручку от себя. Его выбросило из самолета.
Падая, он открыл глаза, потому что знал: ему нельзя терять сознание, прежде чем он дернет за кольцо парашюта. С одной стороны он видел солнце, с другой – белизну облаков, и, падая и переворачиваясь в воздухе, он видел, как облака бегут за солнцем, а солнце преследует облака. Так и бегали друг за другом по маленькому кругу; они бежали все быстрее и быстрее, солнце за облаками, облака – за солнцем, облака подбегали все ближе, и вдруг солнце исчезло и осталась одна лишь обширная белизна. Весь мир стал белым, и в нем ничего не было. Мир был таким белым, что иногда казался черным, а потом становился то белым, то черным, но больше белым. Он смотрел, как мир из белого становится черным, а потом опять белым, и белым он был долгое время, а черным – лишь несколько секунд. В эти белые периоды он засыпал, но просыпался, едва мир становился черным. Однако черным тот был недолго – так, сверкнет иногда черной молнией. Белый мир тянулся долго, и тогда он засыпал.
Однажды, когда мир был белым, он протянул руку и дотронулся до чего-то. Он стал разминать это пальцами. Какое-то время он лежал и раскатывал пальцами то, что оказалось под рукой. Потом медленно открыл глаза, посмотрел на свою руку и увидел, что держит в руке нечто белое. Это был край простыни. Он знал, что это простыня, потому что видел фактуру ткани и строчку на кромке. Он сощурил глаза и тотчас снова открыл их. На этот раз он увидел комнату. Он увидел кровать, на которой лежал; он увидел серые стены, дверь, зеленые занавески на окнах. На столике возле кровати стояли розы.
Потом он увидел миску на столике рядом с розами. Миска была эмалированная, белая, а рядом стояла мензурка.
«Это госпиталь, – подумал он. – Я в госпитале». Но он ничего не помнил. Он откинулся на подушке, глядя в потолок и стараясь вспомнить, что же произошло. Он смотрел на ровный серый потолок, который был таким чистым и серым, и вдруг увидел, что по потолку ползет муха. При виде этой мухи, этой маленькой черной точки, неожиданно появившейся на сером море, пелена спала с его сознания, и он тотчас, в долю секунды, все вспомнил. Он вспомнил «спитфайр», вспомнил высотомер, показывающий двадцать одну тысячу футов. Вспомнил, как сдвигает назад фонарь кабины обеими руками и выпрыгивает с парашютом. Он вспомнил про свою ногу.
Теперь, кажется, с ним все в порядке. Он посмотрел на другой конец кровати, но ничего определенного сказать не смог. Тогда просунул руку под одеяло и ощупал колена. Одно из них он обнаружил сразу, но когда стал нащупывать другое, его рука коснулась чего-то мягкого, перебинтованного.
В эту минуту открылась дверь и вошла сестра.
– Привет, – сказала она. – Проснулся наконец.
Несимпатичная, но большая и чистая. Лет тридцати – сорока, белокурая. Больше он ничего не сумел разглядеть.
– Где я?
– Тебе повезло. Ты упал в лес у берега. Ты в Брайтоне. Тебя привезли два дня назад, теперь с тобой все в порядке. Выглядишь ты отлично.
– Я потерял ногу.
– Это ничего. Мы тебе другую найдем. А теперь спи. Доктор придет через час.
Она взяла миску и мензурку и вышла.
Но он не мог уснуть. Ему хотелось лежать с открытыми глазами, потому что он боялся, что если снова закроет их, то все кончится. Он лежал и смотрел в потолок. Муха была все там же. Она вела себя очень энергично. Пробежит несколько дюймов, остановится. Еще пробежит, остановится, потом опять побежит, и при этом она то и дело взлетала и с жужжанием кружилась. Садилась она на одно и то же место на потолке, после чего опять бежала и останавливалась. Он так долго наблюдал за ней, что спустя какое-то время ему стало казаться, будто это и не муха вовсе, а всего лишь черное пятнышко на сером море. Он продолжал следить за мухой, когда сестра открыла дверь. Она отступила в сторону, уступая дорогу врачу. Это был военный врач, на кителе у него были ленточки с прошлой войны. Он был лысый, небольшого роста, но у него было приветливое лицо и добрые глаза.
– Так-так, – сказал он. – Значит, решили все-таки проснуться. Как вы себя чувствуете?
– Хорошо.
– Вот и отлично. Мы вас быстренько поправим.
Врач взял его запястье, чтобы послушать пульс.
– Кстати, – сказал он, – звонили парни из вашей эскадрильи и спрашивали насчет вас. Хотят навестить, но я им сказал, чтобы подождали пару дней. Еще сказал, что с вами все в порядке и они могут заглянуть чуть попозже. Так что лежите спокойно и ни о чем не тревожьтесь. У вас есть что-нибудь почитать?
Он бросил взгляд в сторону столика, на котором стояли розы.
– Нет? Ничего, сестра об этом позаботится. Она в вашем полном распоряжении.
И с этими словами он махнул рукой и вышел, сопровождаемый сестрой.
Когда они ушли, он вытянулся на кровати и снова стал смотреть в потолок. Муха была все еще там. Пока он рассматривал ее, где-то вдалеке послышался шум самолета. Он прислушался к гулу двигателей. Шум был очень далеко. «Интересно, что это за самолет, – подумал он. – Попробую определить тип». Неожиданно он резко дернул головой. Всякий, кто попадал под бомбежку, узнает по звуку «Юнкерс-88». По шуму можно вычислить и другие немецкие самолеты, однако «Юнкерс-88» издает особый звук. Он низко, басовито вибрирует, но к этому голосу примешивается высокий тенор. Именно тенор и отличает «Юнкерс-88», так что ошибиться невозможно.
Прислушиваясь к звуку, он решил: он точно знает, какой это самолет. Но где же сирены и орудия? Этот немецкий летчик большой смельчак, если отважился оказаться около Брайтона средь бела дня.
Самолет гудел где-то вдали, и скоро звук пропал. Потом появился другой звук, на этот раз тоже где-то вдалеке, но опять же – глубокий вибрирующий бас смешался с высоким колеблющимся тенором, так что ошибиться невозможно. Он слышал такие звуки каждый день во время битвы за Британию.
Он был озадачен. На столике рядом с кроватью стоял колокольчик. Он протянул руку и позвонил в него. В коридоре раздались шаги. Вошла сестра.
– Сестра, что это были за самолеты?
– Вот уж не знаю. Я их не слышала. Наверное, истребители или бомбардировщики. Думаю, они возвращаются из Франции. А в чем дело?
– Это были «ю-восемьдесят-восемь». Уверен, что это «ю-восемьдесят-восемь». Я знаю, как звучат их двигатели. Их было два. Что они здесь делали?
Сестра подошла к кровати, разгладила простыню и подоткнула ее под матрас.
– О господи, да что ты там себе выдумываешь. Не нужно тебе ни о чем таком думать. Хочешь, принесу что-нибудь почитать?
– Нет, спасибо.
Она взбила подушку и убрала волосы с его лба.
– Днем они больше не прилетают. Да ты и сам это знаешь. Это, наверное, «ланкастеры» или «летающие крепости».
– Сестра.
– Да?
– Можете дать мне сигарету?
– Ну конечно же.
Она вышла и почти тотчас вернулась с пачкой «плейере» и спичками. Она дала ему сигарету и, когда он вставил ее в рот, зажгла спичку, и он закурил.
– Если понадоблюсь, – сказала она, – просто позвони в колокольчик.
И она вышла.
Вечером он еще раз услышал звук самолета, уже другого. Тот летел где-то далеко, но, несмотря на это, он определил, что машина одномоторная. Она летела быстро; это было ясно. Что за тип, трудно сказать. Не «спит» и не «харрикейн». Да и на американский двигатель не похоже. Те шумнее. Он не знал, что это за самолет, и это не давало ему покоя. «Наверное, я очень болен, – подумал он. – Наверное, мне все чудится. Быть может, я в бреду. Просто не знаю, что и думать».
В этот вечер сестра принесла миску с горячей водой и начала его обмывать.
– Ну так как, – спросила она, – надеюсь, тебе больше не кажется, что нас бомбят?
Она сняла с него верхнюю часть пижамы и стала фланелью намыливать ему руку. Он не отвечал.
Она смочила фланель в воде, еще раз намылила ее и стала мыть ему грудь.
– Ты отлично выглядишь сегодня, – сказала она. – Тебе сделали операцию, как только доставили. Отличная была работа. С тобой все будет в порядке. У меня брат в военно-воздушных войсках, – прибавила она. – Летает на бомбардировщиках.
– Я ходил в школу в Брайтоне, – сказал он.
Она быстро взглянула на него.
– Что ж, это хорошо, – сказала она. – Наверное, у тебя в городе есть знакомые.
– Да, – ответил он. – Я здесь многих знаю.
Она вымыла ему грудь и руки, после чего отдернула одеяло в том месте, где была его левая нога, притом она сделала это так, что перевязанный обрубок остался под одеялом. Развязав тесемку на пижамных брюках, сняла и их. Это было нетрудно сделать, потому что правую штанину отрезали, чтобы она не мешала перевязке. Она стала мыть его левую ногу и остальное тело. Его впервые мыли в кровати, и ему стало неловко. Она подложила полотенце ему под ступню и стала мыть ногу фланелью.
– Проклятое мыло совсем не мылится. Вода здесь такая. Жесткая, как железо, – сказала она.
– Сейчас вообще нет хорошего мыла, а если еще и вода жесткая, тогда, конечно, совсем дело плохо, – сказал он.
Тут воспоминания нахлынули на него. Он вспомнил ванны в брайтонской школе. В длинной ванной комнате с каменным полом стояли в ряд четыре ванны. Он вспомнил – вода была такая мягкая, что потом приходилось принимать душ, чтобы смыть с тела все мыло, и еще он вспомнил, как пена плавала на поверхности воды, так что ног под водой не было видно. Еще он вспомнил, что иногда им давали таблетки кальция: школьный врач говорил, что мягкая вода вредна для зубов.
– В Брайтоне, – заговорил он, – вода не…
Но не закончил фразу. Ему кое-что пришло в голову, нечто настолько фантастическое и нелепое, что он даже задумался – а не рассказать ли об этом сестре, чтобы вместе с ней посмеяться.
Она посмотрела на него.
– И что там с водой? – спросила она.
– Да так, ничего, – ответил он. – Просто вспомнилось.
Она сполоснула фланельку в миске, стерла мыло с его ноги и вытерла его полотенцем.
– Хорошо, когда тебя вымоют, – сказал он. – Мне стало лучше.
Он провел рукой по лицу.
– Побриться бы.
– Оставим на завтра, – сказала она. – Это ты и сам сделаешь.
В эту ночь он не мог уснуть. Он лежал и думал о «Юнкерсах-88» и о жесткой воде. Ни о чем другом он думать не мог. «Это были «ю-восемьдесят-восемь», – сказал он про себя. Точно знаю. Однако этого не может быть, ведь не могут же они летать здесь так низко средь бела дня. Знаю, что это «юнкерсы», и знаю, что этого не может быть. Наверное, я болен. Наверное, я веду себя как идиот и не знаю, что говорю и что делаю. Может, я брежу». Он долго лежал и думал обо всем этом, а раз даже приподнялся в кровати и громко произнес:
– Я докажу, что не сумасшедший. Я произнесу небольшую речь о чем-нибудь важном и умном. Буду говорить о том, как поступить с Германией после войны.
Но не успел он начать, как уже спал.
Он проснулся, когда из-за занавешенных окон пробивался дневной свет. В комнате было еще темно, но он видел, как свет за окном разгоняет тьму. Он лежал и смотрел на серый свет, который пробивался сквозь щель между занавесками, и тут вспомнил вчерашний день. Он вспомнил «Юнкерсы-88» и жесткую воду. Он вспомнил приветливую сестру и доброго врача, а потом зернышко сомнения зародилось в его мозгу и начало расти.
Он оглядел палату. Розы сестра вынесла накануне вечером. На столике были лишь пачка сигарет, коробок спичек и пепельница. Палата была голая. Она больше не казалась теплой и приветливой. И уж тем более удобной. Она была холодная и пустая, и в ней было очень тихо.
Зерно сомнения медленно росло, а вместе с ним пришел страх, легкий пляшущий страх; он скорее предупреждал о чем-то, нежели внушал ужас. Такой страх появляется у человека не потому, что он боится, а потому, что чувствует: что-то не так. Сомнение и страх росли так быстро, что он занервничал и рассердился, а когда дотронулся до лба рукой, обнаружил, что лоб мокрый от пота. Надо что-то предпринимать, решил он, нужно как-то доказать самому себе, что он либо прав, либо не прав. Он снова увидел перед собой окно и зеленые занавески. Окно находилось прямо перед его кроватью, однако в целых десяти ярдах от него. Надо бы каким-то образом добраться до окна и выглянуть наружу. Эта мысль полностью захватила его, и теперь он не мог думать ни о чем другом, кроме как об окне. Но как же быть с ногой? Он просунул руку под одеяло и нащупал толстый перебинтованный обрубок – все, что осталось с правой стороны. Казалось, там все в порядке. Боли нет. Но вот тут-то и может возникнуть проблема.
Он сел на кровати. Потом откинул в сторону одеяло и спустил левую ногу на пол. Действуя медленно и осторожно, он сполз с кровати на ковер и оперся обеими руками о пол. Стоя в таком положении, посмотрел на обрубок – очень короткий и толстый, весь перевязанный. Тут появилась боль и запульсировала кровь. Ему захотелось рухнуть на пол и ничего не делать, но он знал, что надо двигаться дальше.
Руками он как можно дальше подтягивал себя вперед, потом слегка подпрыгивал и волочил левую ногу. Каждый раз он стонал от боли, но продолжал ползти по полу на руках и ноге. Приблизившись к окну, он ухватился руками за подоконник, сначала одной, потом другой, и медленно встал на одну ногу, потом быстро отдернул занавески и выглянул наружу.
Он увидел маленький домик с серой черепичной крышей. Дом стоял в одиночестве близ узкой аллеи, а за ним начиналось вспаханное поле. Перед домиком был неухоженный сад. От аллеи сад отделяла зеленая изгородь. На изгороди он увидел табличку. Это была обыкновенная дощечка, прибитая к короткой жерди, а поскольку изгородь давно не приводили в порядок, ветки обвили табличку, так что казалось, будто ее установили посреди изгороди. На дощечке что-то было написано белой краской. Он уткнулся в оконное стекло, пытаясь прочитать надпись. Первая буква была «G», это он четко видел, вторая – «а», а третья – «r». Ему удалось разобрать буквы одну за одной. Всего было три слова, и он медленно их прочитал по буквам: «G-a-r-d-е а-u c-h-i-e-n». [28]28
«Осторожно, злая собака» (фр.).
[Закрыть]Только это и было там написано.
Он нетвердо стоял на одной ноге, крепко ухватившись руками за подоконник, и смотрел на табличку и на буквы, выведенные белой краской. Какое-то время ни о чем другом он и думать не мог. Он смотрел на табличку и повторял про себя написанные на ней слова. Неожиданно до него дошло. Он еще раз посмотрел на домик и на вспаханное поле. Потом посмотрел на фруктовый сад слева от домика и окинул взглядом всю местность, покрытую зеленью.
– Значит, я во Франции, – произнес он. – Я во Франции.
Кровь сильно пульсировала в правом бедре. Казалось, кто-то стучит по обрубку молотком, и вдруг боль стала такой сильной, что у него в голове помутилось. Ему показалось, что он сейчас упадет. Он снова быстро опустился на пол, подполз к кровати и взобрался на нее, после чего в изнеможении откинулся на подушку и натянул на себя одеяло. Он по-прежнему не мог думать ни о чем другом, кроме как о табличке на изгороди, о вспаханном поле и фруктовом саде. Слова на табличке не выходили у него из головы.
Спустя какое-то время пришла сестра. Она принесла миску с горячей водой.
– Доброе утро, как ты себя сегодня чувствуешь? – сказала она.
Боль под перевязкой была все еще сильная, но ему не хотелось ей ничего говорить. Он смотрел, как она возится с тем, что принесла с собой. Теперь он рассмотрел ее внимательнее. У нее были очень светлые волосы. Женщина она была высокая, крупная, с приятным лицом. Но в глазах ее была какая-то тревога. Глаза все время бегали, не задерживаясь ни на чем более мгновения, и быстро перебегали с одного предмета на другой. Да и в движениях было что-то особенное. Движения ее были чересчур резкие и нервные, что никак не сочеталось с тем небрежным тоном, каким она разговаривала.
Она поставила миску, сняла верхнюю часть его пижамы и стала обмывать его торс.
– Ты хорошо спал?
– Да.
– Вот и отлично, – сказала она.
Она мыла ему руки и грудь.
– Кажется, после завтрака кто-то из воздушного ведомства собирается навестить тебя, – продолжала она. – Им нужен отчет, или как там это у вас называется. Да ты лучше знаешь. Как тебя сбили и все такое. Я не дам им засиживаться, так что не беспокойся.
Он не отвечал. Она обмыла его и дала ему зубную щетку и порошок. Он почистил зубы, сполоснул рот и выплюнул воду в миску.
Потом она принесла ему завтрак на подносе, но есть он не хотел. Он по-прежнему ощущал слабость, его подташнивало. Ему хотелось лежать не двигаясь и думать о том, что произошло. А из головы у него не выходила фраза. Эту фразу Джонни, офицер разведки из его эскадрильи, каждый день повторял летчикам перед вылетом. У него и сейчас Джонни стоял перед глазами. Вот он стоит с трубкой в руке, прислонившись к летному домику на запасном аэродроме, и говорит: «Если вас собьют, называйте только свое имя, звание и личный номер. Больше ничего. Ради бога, не говорите больше ничего».
– Ну вот, – сказала она и поставила поднос ему на колени. – Съешь-ка яйцо. Сам справишься?
– Да.
Она стояла возле его кровати.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Да.
– Вот и отлично. Если яйца мало, то, думаю, смогу принести еще одно.
– Нет, хватит.
– Ну ладно, позвони в колокольчик, если захочешь чего-нибудь еще.
И она вышла из палаты.
Он как раз доедал то, что сестра принесла, когда она возвратилась.
– Пришел Роберте, командир авиакрыла. Я ему сказала, что он может находиться здесь только несколько минут.
Она сделала знак рукой, и вошел командир авиакрыла.
– Извините за беспокойство, – сказал он.
Это был офицер ВВС Великобритании в видавшей виды форме. Его китель украшали «крылья» [29]29
Нагрудный знак летчиков.
[Закрыть]и крест «За летные боевые заслуги». Он был довольно высок и худощав, с большой копной черных волос. Изо рта у него торчали неровные, неплотно примыкающие друг к другу зубы, хотя он и старался сжимать губы покрепче. Он достал бланк и карандаш и, придвинув к кровати стул, уселся.
– Как вы себя чувствуете?
Ответа не последовало.
– Не повезло вам с ногой. Знаю, каково вам. Слышал, какой концерт вы им устроили, прежде чем они вас сбили.
Человек на кровати лежал совершенно неподвижно, глядя на другого человека, который сидел на стуле.
Человек, сидевший на стуле, сказал:
– Давайте покончим с этим побыстрее. Боюсь, вам придется ответить на несколько вопросов, а я заполню боевое донесение. Итак, для начала, из какой вы эскадрильи?
Человек, лежавший на кровати, не шелохнулся. Он смотрел прямо в глаза командиру авиакрыла.
– Меня зовут Питер Уильямсон. Я ведущий эскадрильи, мой номер девять-семь-два-четыре-пять-семь.







