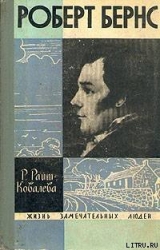
Текст книги "Роберт Бернс"
Автор книги: Рита Райт-Ковалева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
5
Те два с половиной года, что Бернс прожил в Эллисленде, были, смело можно сказать, лучшими годами его жизни. И не с внешней, материальной стороны: ему и в Эллисленде было так же трудно, так же хлопотно, так же утомительно, как и раньше – в Лохли, в Моссгиле. Ферма оказалась невыгодной, урожаи были плохие, тощая земля прожорливо глотала остатки денег, полученных от Крича, по акцизным делам приходилось объезжать десять приходов в неделю – около двухсот миль. Бернс нуждался, Бернс болел, Бернс никак не мог свести концы с концами. И все-таки, несмотря на нужду, болезни, тяжкий труд, Бернс был счастлив: он писал стихи, он не мог нарадоваться на своих ребят. Осенью 1789 года Джин родила ему еще одного черноглазого мальчишку – он чувствовал себя «патриархом», окруженным чадами и домочадцами.
Он жил такой напряженной, такой полной умственной жизнью, что многие его письма читаются как философский трактат, как комментарии к учению великого француза Жан Жака Руссо и английских просветителей – так глубоко он усвоил основные принципы века Просвещения, так органически слились онис его жизненным опытом, с опытом народа, из глубин которого он вышел.
Часто Бернс пишет о религии, часто он задумывается над тем. во что и как должен верить человек. И если пренебречь условной терминологией XVIII века, когда даже вольнодумцы еще говорят о боге, то мы найдем у Бернса настоящую, неподдельную веру в то, что человек добр, что будущее его светло, что настанет день, когда придет конец «бесчеловечности человека к человеку».
И чем больше крепнет эта вера, тем дальше Бернс уходит от церкви. Теперь это уже не молодой бунт мохлинских дней, когда писались «Святая ярмарка» и «Молитва святоши Вилли», не зрелое возмущение тираническим ханжеством кальвинизма, выливавшееся в письмах к Кларинде. Теперь он просто отметает церковную рутину и создает для себя собственную религию – религию Сердца и Разума, столь знакомую каждому, кто читал Руссо.
«Я настолько перестал быть пресвитерианцем, – пишет он миссис Дэнлоп утром, в день нового, 1789 года, – что одобряю, когда человек сам для себя намечает дни и времена года для более благоговейной сосредоточенности, чем обычно...
Новогоднее утро... Первое воскресенье в мае, ветреный, при синем небе, полдень в начале осени или утро в изморози и ясный солнечный день в конце ее – сколько раз с незапамятных времен они были для меня настоящими праздниками. Они не похожи на унылую чиновничью обрядность кильмарнокского причащения. Можно смеяться или плакать, быть веселым или задумчивым, мыслить о добродетели или благоговеть в соответствии со своим настроением и с характером Природы.
...Мы ничего или почти ничего не знаем о сущности и строении нашей Души, потому и не можем разобраться в этих кажущихся прихотях ее. Почему одному особенно приятны одни явления или поразительны другие, тогда как на умы иного склада они никакого особого впечатления не производят? У меня есть свои любимые цветы весной, среди них – горная ромашка,колокольчик, наперстянка, дикий шиповник, распускающиеся березы и седой терн, которыми я любуюсь с неустанным восхищением. Стоит мне услышать одинокий посвист пеночки в летний полдень или дикое, с перебоями, курлыканье журавлиной стаи осенним утром, как душу мою наполняет возвышенное вдохновение, похожее на молитву или стихи...»
В феврале Бернсу пришлось съездить в Эдинбург – надо было уладить дела с Кричем. До сих пор тот не желал окончательно рассчитаться с Бернсом, а деньги были нужны неотложно: подходила весна, надо было готовиться к севу, покупать семена, сильно подорожавшие в том году.
«Я так несчастлив здесь, как никогда раньше в Эдинбурге не бывал... Я плохой делец, а тут надо обделывать весьма серьезные дела, я люблю развлекаться, но вполне умеренно, а здесь меня заставляют слишком часто служить Бахусу, а главное, я вдали от дома...» – пишет он миссис Дэнлоп, а в письме к Джин сообщает: «Наконец, к своему удовлетворению, уладил дела с мистером Кричем. Он, конечно, не таков, каким он должен быть, и не заплатил мне то, что следовало, но все же вышло лучше, чем я ожидал. До свидания! Очень хочу тебя видеть! Благослови тебя бог!»
Скорее вернуться домой... Кларинда в Эдинбурге, но она предупредила Бернса письмом, что не хочет с ним встречаться и не подойдет к окну, чтобы случайно его не увидеть. Впрочем, если он согласен признать, что он «злодей и обманщик», он может ей написать.
Бернс написал ей, только вернувшись домой, – и то через неделю:
«Сударыня! Письмо, которое вы прислали мне в гостиницу, заключало в себе и ответ: вы запретили мне писать, если я не соглашусь признать себя виновным в прегрешениях, которые вам угодно было приписать мне. Будучи убежден в своей невинности, хотя и сознавая свою чрезвычайную опрометчивостьи безумство, я все же могу, положа руку на грудь, утверждать, что там бьется честное сердце. Простите же меня, если даже вам в угоду я не приму наименования „злодей“ и не соглашусь с вашим мнением обо мне, как бы я ни уважал ваше суждение и как бы высоко я вас ни ценил. Я уже говорил вам, и я еще раз повторю, что в то время, на которое Вы намекаете, у меня не было ни малейших моральных обязательств перед миссис Бернс, и я не знал, да и не мог знать всех решающих обстоятельств, которые суровая действительность мне готовила. Если вы припомните все, что происходило между нами, вы увидите, как вел себя честный человек, успешно борясь с искушениями, сильнее которых не знало человечество, и как он сохранял незапятнанной свою честь в таких обстоятельствах, когда суровейшая добродетель простила бы грехопадение... Неужто я виновен, что стал жертвой Красоты, к которой ни один смертный не мог приблизиться безнаказанно? Если бы я имел хоть самую смутную надежду, что она может стать моей, если бы железная необходимость... Но все это пустые слова...
Когда я восстановлюсь в вашем добром мнении, я, может быть, осмелюсь просить о вашей дружбе. Но, будь что будет, знайте, что прекраснейшая из всех женщин, каких я встречал, всегда останется для меня предметом самых искренних пожеланий всего наилучшего».
Кларинда пришла в такую ярость, что тут же написала Сильвандеру, что прочла его письмо «с презрительной улыбкой» и вообще готова все его письма показать свету.
На это Бернс ничего не ответил: еще одна иллюзия разбилась, еще один эпизод из блестящей эдинбургской жизни закончился...
Зимой Роберт и Джин проводили в «большой свет» младшего брата Роберта, Вильяма. Приехав из Эдинбурга, Бернс застал письмо от Вильяма – «одно из лучших писем, какое мог написать молодой рабочий». Старший брат восхищен этим письмом, рад, что Вильям спрашивает у него советов.
«Прежде всего учись сдержанности и молчаливости, – советует он. – Будь ты мудрым, как Ньютон, и остроумным, как Свифт, – болтливость всегда принизит тебя в глазах окружающих... С этим же посыльным ты получишь от меня две плотные и одну тонкую рубашку, шейный платок и бархатный жилет. Напишу тебе еще на будущей неделе».
Вильям уехал в Лондон – учиться ремеслу шорника. Там его ждут чужие люди и множество искушений. Роберт не только пишет ему о том, как надо напрямик завоевывать девушку, в которую влюблен, но и о том, что при всех обстоятельствах надо избегать «дурных женщин»: в те годы в Лондоне было около семидесяти тысяч зарегистрированных проституток, и по сравнению с относительно тихой и благопристойной жизнью Шотландии Лондон казался настоящим вертепом – для этого достаточно прочесть хотя бы «Лондонский дневник» того же Бозвелла.
«Душа человека – его королевство, – пишет Бернс в другом письме брату. – Сейчас в твоем возрасте закладываются черты характера – этого не избежать при всем желании. И эти черты останутся в тебе до самого конца. Правда, позднее в жизни, даже в таком сравнительно раннем возрасте, как мой, человек может зорким глазом видеть все присущие ему недостатки, но искоренить или даже исправить их – дело совсем другое. Приобретенные случайно, они постепенно входят в привычку и со временем становятся как бы неотъемлемой частью нашего существования».
6
В этом году Бернсу исполнилось тридцать лет, В газете «Эдинбургский обозреватель» писали, что «эйрширский Бард сейчас наслаждается сладостным уединением на своей ферме» и что Бернс, уйдя от света, поступил мудро.
И дальше газета предостерегающе рассказывает о злой судьбе «поэта-жнеца», некоего Стивена Дака, которого «неразумные покровители» заставили сделаться пастором, и он, бедняга, выбившись из привычной колеи, не выдержал и в припадке безумия покончил с собой. «Бернс, как ему и подобало, вернулся к цепу, но, мы надеемся, не бросил перо». Бернс читал эту статью, он читал письма миссис Дэнлоп о Дженни Литтл – поэтессе-молочнице – и с тоской пробегал бездарные, безжизненные строчки стихов, которые ему со всех концов Шотландии посылали поэты-кузнецы, поэты-портные, поэты-чиновники – словом, все графоманы, которых ободрил успех «поэта-пахаря».
«Под влиянием моих успехов на свет божий выползло такое количество недоношенных уродов, именующих себя „шотландскими поэтами“, что само название „шотландская поэзия“ сейчас звучит издевательски», – жалуется Бернс.
В другом письме, рассказывая о себе, о своих планах, он говорит:
«Имя и профессия Поэта раньше доставляли мне удовольствие, но теперь я горжусь ими. Знаю, что недавней моей славой я был обязан необычности моего положения и искреннему пристрастию шотландцев, но все же, как я говорил в предисловии к моей книге, я верю в то, что имею право, по самой своей природе, на звание Поэта. Ничуть не сомневаюсь, что талант, способность изучить ремесло муз есть дар того, кто „склонность тайную в душе рождает“, но так же твердо я верю, что Совершенство в этой профессии есть плод усердия, труда, вдумчивости и поисков, – во всяком случае, я решил проверить эту свою доктрину на опыте... Хуже всего, что к тому времени, как закончишь стихи, их так часто проверяешь и пересматриваешь мысленным взором, что в значительной мере теряешь способность критически их оценить. Тут лучший их судья – Друг, не только обладающий способностью судить, но и достаточно снисходительный, как мудрый учитель к юному ученику, – такой друг, который иногда похвалит больше, чем надо, чтобы это тонкокожее животное – Поэт – не впало в самую тяжкую из поэтических болезней – неверие в себя. Посылаю вам один свой опыт в совершенно новой для меня поэтической области...»
И он прилагает «Послание к мистеру Грэйму» – одно из интереснейших стихотворных своих посланий.
В нем Бернс снова говорит о судьбе поэта.
Раньше в посланиях к друзьям-поэтам он писал о поэзии как о любимом развлечении, о легком песенном даре:
Сейчас я в творческом припадке,
Башка варит, и все в порядке,
Строчу стихи, как в лихорадке,
А ты, мой друг,
Прочти их бегло, если краткий
Найдешь досуг.
Одни рифмуют из расчета,
Другие, чтоб задеть кого-то,
А третьи тщетно ждут почета
И громкой славы,
Но мне писать пришла охота
Так, для забавы.
Я обойден судьбой суровой.
Кафтан достался мне дешевый,
Убогий дом, доход грошовый,
Я весь в долгу,
Зато игрой ума простого
Блеснуть могу.
Поставил ставку я задорно,
На четкий, черный шрифт наборный,
Но разум мне твердит упорно:
– Куда спешишь?
Ты этой страстью стихотворной
Всех насмешишь!..
И в другом послании он пишет:
Пусть ветер, воя, точно зверь,
Завалит снегом нашу дверь, —
Я, сидя перед печью,
Примусь, чтоб время провести,
Стихи досужие плести
На дедовском наречье...
Стихи сами приходят к нему, когда он думает о любимой:
Назвал я Джин – и вот ко мне
Несутся строчки в тишине,
Жужжат, сбегаясь в строй,
Как будто Феб и девять муз,
Со мной вступившие в союз,
Ведут их за собой.
И пусть хромает мой Пегас,
Слегка его пришпорь —
Пойдет он рысью, вскачь и в пляс,
Забыв и лень и хворь.
Легкие, шутливые эти строчки и впрямь «несутся вскачь», играя, как резвый жеребенок. Позже, в «Ответе на письмо» хозяйке поместья Уочеп-хауз, которая прислала Бернсу очень милые, непритязательныестихи и красивый плед, он написал знаменитые строки о том, как он щадил татарник – эмблему шотландской воли, и о том, что он хочет сделать для родины:
Одной мечтой с тех пор я жил:
Служить стране по мере сил
(Пускай они и слабы!),
Народу пользу принести —
Ну, что-нибудь изобрести
Иль песню спеть хотя бы!..
Рифмовать для забавы, спеть песню, блеснуть «игрой ума простого» – таким Бернсу казался поэтический труд в ранней молодости. И только позднее он написал о том, что такое миссия поэта в мире, о том, какие «тонкокожие животные» эти поэты и как им трудно приходится в обыденной жизни.
Роберт Грэйм был всего на десять лет старше Бернса, однако в первые месяцы знакомства между ними лежала пропасть: Бернс был подчиненным, Грэйм – начальством. Но постепенно их переписка становится все прямее и откровеннее. Жена Грэйма, образованная и приветливая женщина, попросила Бернса переписать для нее все лучшие стихи, не вошедшие в сборники, и все песни, которые еще не вышли в свет, а сам Грэйм, человек очень сдержанный и немногословный, отвечал на письма Бернса короткими, но ласковыми записками и в трудные минуты всегда помогал поэту. Грэйм, будучи одним из главных инспекторов государственного акцизного управления Шотландии, делал для Бернса все что мог, и не его вина, если продвижение Бернса по службе шло сравнительно медленно.
Но не как начальство Бернса остался в истории литературы Роберт Грэйм, а как адресат нескольких писем и посланий в стихах, по которым видно, о чем в те годы думал Бернс.
В одном из посланий к Грэйму Бернс рассказывает, как Природа создала род человеческий (именно Природа, а не бог!).
Сначала она сделала самых полезных людей: крестьян и фермеров – «сынов земли», потом ремесленников и торговцев, потом «механиков», затем титулованную знать, духовенство, философов и, наконец, из северного сияния создала блистательные женские души.
Радуясь своей законченной работе, Природа вдруг в шутку решила испробовать свое искусство еще на одном творении. Из пены и огня, – а их ведь может развеять малейшее дуновение ветра! – она создала Нечто и окрестила Поэтом.
И вышло у нее существо хотя и подверженное заботам и горестям, но забывающее их при малейшем проблеске счастья, существо, созданное для забавы своих серьезных собратий, которые восхищаются им, хвалят его, – но и только! А он, этот нелепый каприз природы, непригоден для охоты за фортуной, и судьба часто шутит над ним. Он умеет наслаждаться всеми благами жизни, но ему часто даже не на что жить. Он хотел бы отереть каждую слезу, утешить каждого в горе, но его собственных стонов никто и слушать не хочет...
Бороться с несправедливостью и злом, облегчить людям жизнь – вот новая миссия поэта, о которой в первый, но далеко не в последний раз говорит Бернс.
Другое послание Грэйму написано гораздо позже, когда Бернсу приходилось особенно трудно.
И снова речь идет о Природе, столь несправедливо поступившей со своим нелепым созданием – Поэтом.
«О Природа! Пристрастная Природа! Горько сетую над твоей материнской блажью! Ты позаботилась и о льве и о буйволе: один сотрясает рыком лес, другой роет копытами землю. Осел толстокож, улитка может спрятаться в раковину, ядовитое жало осы охраняет ее гнездо. Твои любимцы защищают королей, правят государством, пожирают других – ты дала им могущество, власть, силу. Лисы и министры умеют хитрить, обыватели и вонючки пахнут так, что к ним не подступиться. У жаб есть яд, у врачей —лекарства, священник и еж одеты в надежные облачения. Даже глупая женщина владеет военным искусством: язык и глаза – вот ее копье и стрелы!
Но какая ты злая, жестокая мачеха своему бедному, беззащитному голому детенышу – Поэту! Нет у него ни опыта, ни сноровки в жизни, он глупец, он беспомощнее любого безумца. Ты не дала ему быстрых ног – как ускакать от своры кредиторов? Нет у него когтей – нечем вырыть яму, чтобы скрыться от их зубов. Нет и рогов, кроме тех, что уготованы неудачнику Гименеем, а их – увы! – не назовешь рогом изобилия! Его обнаженные нервы, его болезненная гордость дрожат под напором неумолимых ветров, вампиры-книготорговцы сосут из него кровь; скорпионы-критики отравляют неизлечимым ядом. О критики! Как страшно произносить это слово! Бандиты-головорезы на большой дороге Славы, кровавые прозекторы, которые хуже, чем десяток Монро[18]18
Монро – знаменитый анатом, преподаватель Эдинбургского университета.
[Закрыть]: тот вскрывает трупы, чтобы учить студентов, а эти потрошат живого человека.
Незаслуженные обиды ранят душу, наглые болваны сводят с ума, тупицы, недостойные носить даже веточку лавра, срывают с Поэта честно заслуженный венок, который ему дороже жизни. И бредет по свету Поэт, исполосованный ударами, окровавленный, замученный неравной борьбой, пока не отлетит последняя надежда, согревавшая сердце, и последняя Муза, когда-то вдохновлявшая его...»
«Этот отрывок, – писал Бернс, – должен был стать частью большой поэмы – „Путь поэта“.
Но поэма написана не была: в это время другие события затмили размышления о личной судьбе: 14 июля 1789 года под ударами народных толп пал оплот сильнейшей монархии в Европе – французского королевства – тюрьма Бастилия.
Началась Великая французская революция.
Напрасно мы будем искать у Бернса прямой отклик на падение Бастилии. Мы не знаем, что он об этом писал. Большинство писем того лета сожжено, если не самими корреспондентами Бернса, то их наследниками.
Так сгорела почти вся переписка Бернса с Вильямом Смелли. Биографы последнего откровенно писали: «Многие письма Бернса, адресованные мистеру Смелли и оставшиеся в его бумагах, одни – будучи совершенно неподходящими для опубликования, а другие – из-за резкой критики весьма уважаемых персон, здравствующих и поныне, были сожжены».
По предположению некоторых биографов Бернса, так была сожжена и переписка Бернса с Мэри Уолстонкрафт – известной английской писательницей и общественной деятельницей, женой писателя Вильяма Годвина и другом знаменитого поэта Вильяма Блэйка.
А может быть, эти письма еще найдут, как нашли многие документы той эпохи.
В первые годы самые широкие круги Англии и особенно Шотландии сочувствовали французской революции. Казалось, что Свобода, Равенство и Братство придут мирным путем из-за моря, что в Великобритании падет правительство Питта – представителя реакционной партии тори – и на смену ему придет правительство Фокса – представителя либеральной партии вигов. А тогда и Шотландия получит больше прав. И хотя множество шотландских граждан, в том числе и Бернс, из-за строгого имущественного ценза не могли участвовать даже в выборах муниципалитета своего города, не говоря уже о парламентских выборах, политическая жизнь Шотландии оживилась. В общество «Друзей народа», как называли себя сторонники прогрессивных реформ, вступили не только представители демократических слоев, но даже многие аристократы.
К сожалению, именно с этого года «шотландский бард» стал акцизным чиновником, то есть служащим того самого «слабоумного Джорди» – короляГеорга Третьего и того реакционного правительства Вильяма Питта, против которого он так откровенно высказывался.
Откровенность и правдивость – отличные качества. Но недаром народ говорит: «Язык мой – враг мой», и недаром сам Бернс в письме к брату настоятельно советовал тому «научиться молчать». Именно не лгать, не лицемерить, а вовремя держать язык за зубами.
Бернс никогда не умел молчать, никогда не любил молчать, и все горести, которые ему пришлось пережить в эти годы, происходили оттого, что по должности он должен был вести себя как образцовый служащий его величества, а по натуре был настоящим бунтарем, вольнодумцем, свободолюбцем.
Как-то он написал, что основные черты его характера – Гордость и Страсть. За все, что он в жизни делал, он брался с огромным пылом, не жалея себя, часто не думая о последствиях, не обращая внимания на то, что скажут соседи, церковь и власти.
И с гордостью, с уверенностью в том, что он одарен чудесным даром – творить стихи и призван дать народу новые песни, Бернс говорит о своем призвании, о высоком имени и о заслуженных лаврах «его поэтической светлости» – шотландского барда.
Но лавровый венок надо снять, лиру отложить и ездить на Пегасе не в гости к музам, а на ярмарки – следить, не продают ли там беспошлинный эль или контрабандный шелк.
И о том, что думаешь о мировых событиях, тоже лучше помалкивать.
А если от этого унижения щемит твое гордое сердце – дай себе волю в крамольной песне, которую до поры до времени никто не увидит.
В осень и зиму 1789/90 года Роберт Бернс еще теснее сошелся с капитаном Ридделом. Почти все вечера он проводил в его имении, и даже Элизабет Риддел, белокурая, хрупкая и болезненная женщина, несмотря на свою чопорность и светскость, привыкла к необычному другу своего мужа и часто в ожидании капитана поила Бернса чаем в своей гостиной.
Миссис Риддел очень любила читать и охотно приняла участие в организации передвижной библиотеки, которую затеял Бернс. Правда, она и ее знакомые дамы часто просили Бернса заказывать в Эдинбурге всякую макулатуру, как писал Бернс своему главному поставщику Питеру Хиллу, но вместе с тем благодаря этой библиотеке Бернс мог следить за текущей прессой и читать все новинки.
Для себя он выписывал стихи, драмы, серьезные труды по истории, философии, экономике. И хотя он продолжал писать песни для Джонсона, но в эту зиму его очень занимали и политические дела Дамфризского графства.
Сейчас уже трудно разобраться в сложной борьбе интересов, которая шла в ту зиму вокруг кандидатов вигов и тори. Бернс откровенно писал миссис Дэнлоп, что «вся эта возня ничуть не лучше грызни двух охотничьих щенков» и что «большой человек (то есть местный член палаты лордов, бывший тори, ставший вигом), как все ренегаты, – пламенный приверженец другой партии». Выборные баллады Бернса по большей части либо шутливы, либо неинтересны и напыщенны. Они только тем и примечательны, что мы видим, с какой горячностью, с каким неподдельным интересом Бернс вмешивался во все, что касалось политической жизни страны, считая, что все силы надо направить на благо народа.
Он так и пишет Грэйму (9 декабря 1789 года), что, несмотря на свои недостатки, «большой человек» делает «отчаянные попытки завоевать репутацию благодетеля народа» и в двух-трех случаях предложил такие мероприятия, которые действительно «пойдут на пользу его соотечественникам».
Этого для Бернса достаточно: он будет поддерживать кандидата партии вигов – может быть, в парламенте один лишний голос присоединится к сторонникам реформ.
Этим летом в гости к Ридделамприехал удивительный человек – капитан Фрэнсис Гроуз.
Тот, кто видел капитана Гроуза впервые, невольно начинал улыбаться: такой неотразимо комический вид был у этого великана с огромным животом, на котором едва сходились коротенькие пухлые ручки. Но стоило присмотреться – и над складками трех подбородков вырисовывались красивый твердый рот, орлиный нос, большие вдумчивые глаза и высокий лоб мыслителя и художника. Фрэнсис Гроуз был одним из самых образованных и талантливых археологов и антикваров своего времени. Восемь томов исследования «Английская и уэльская старина» были украшены сотнями рисунков самого Гроуза, изображавших не только старинные замки и аббатства, но и пейзажи Англии и Уэльса.
Гроузу было пятьдесят девять лет, когда он познакомился с Бернсом. Он объезжал Шотландию, подготавливая новый дом «Шотландской старины», и с первой же встречи понял, что Бернс будет для него бесценным помощником.
Бернс был восхищен Гроузом, его неистощимым остроумием, его глубочайшими знаниями и подлинной артистичностью. Целыми вечерами они просиживали в гостиной у Ридделов или в дамфризской таверне «Глобус». Хозяин таверны Вильям Хислоп и его жена были люди гостеприимные и неглупые. Старая миссис Хислоп относилась к Бернсу с материнской нежностью и часто, в плохую погоду, не отпускала его домой. Наверху, в квартире Хислопов, была просторная уютная комната, которую хозяева отвели Бернсу. Там стояли стол и широкая удобная кровать. И когда экипаж Гроуза поздно ночью увозил толстого капитана в имение Ридделов, Роберт Бернс оставался ночевать в «Глобусе» и допоздна переписывал для Гроуза старинные песни и баллады из своего собрания.
Бернсу очень хотелось, чтобы Гроуз увековечил развалины церкви в Аллоуэе и старое кладбище, где был похоронен отец поэта. Гроуз съездил в Аллоуэй, зарисовал церковь – от нее уже и тогда осталисьтолько стены серого камня, – узнал, порывшись в старых книгах, что она была построена в 1516 году и уже за три года до рождения Бернса, в 1756 году, закрыта. Гроуз сказал Бернсу, что хорошо бы найти какую-нибудь интересную легенду, связанную с церковью, – тогда стоит о ней написать.
В любой работе важно чувствовать, что кто-то знает о ней и не тебе одному она интересна и нужна. Для Роберта Бернса, оторванного от той среды, где его понимали, каждая встреча с творчески близким ему человеком была подарком судьбы. Ему нужен был умный читатель, советчик, друг, ему нужен был вдохновитель – или вдохновительница! – и соратник по работе. Он был бесконечно благодарен Гамильтону, Эйкену, доктору Макензи – всем, кто помогал ему выпускать первый, кильмарнокский томик. Он навсегда сохранил дружбу с Питером Хиллом, Смелли и чудаком Тайтлером, принимавшими такое горячее участие в эдинбургском издании. Он любил медлительного Джонсона, рассеянного, ленивого органиста Кларка, с которым он делал «Музыкальный музей», – вспомним его письмо, в котором он обещал Джонсону «бессмертие и благодарность потомков», совершенно забыв о себе – истинном составителе, редакторе и главном авторе этих сборников.
Капитан Фрэнсис Гроуз навсегда будет памятен всем, кто любит Бернса, потому что он вдохновил поэта на одну из лучших его поэм – «Тэм О'Шентер».
Бернс добросовестно записал для Гроуза три старинные легенды, связанные с церковью в Аллоуэе. В стене, обращенной к дороге и увенчанной маленькой колокольней, сохранилось высоко прорезанное готическое окно с каменным переплетом. Если ехать верхом, можно заглянуть в это окно. Ночью в церкви страшно, там летают совы и мечутся летучие мыши, и легенда говорит, что ведьмы собираются там на шабаш.
...В море есть миллионы перламутровых раковин. И только в одной на миллион вдруг вырастает жемчужина неописуемой прелести.
В мире есть тысячи прекрасных легенд и сказок. И только из одной на тысячу в руках поэта вырастает несказанной красоты поэма или песня.
Бернс записал для Гроуза легенду о том, как в церкви шел шабаш ведьм и как темной ночью некий подвыпивший фермер (похожий на эйрширского пьяницу Дугласа Грэйма), возвращаясь верхом домой, заглянул в окно церкви и увидел там бог знает что.
Он еще записал комический рассказ о придурковатом батраке, который летал на метле во Францию и очнулся утром в рыбачьем поселке в Бретани.
Он записал и третью легенду – о ведьме и черте.
Но первый рассказ запал в его душу, должно быть, из-за живописных подробностей встречи пьяненького фермера с нечистой силой, а может быть, и потому, что тут, в Эллисленде, он вспомнил старый Эйр, крутой каменный мост через реку, увитые густым плющом стены церкви, узкую оконницу и четыре круглые балясины маленькой колокольни, чудом уцелевшей на треугольной вышке.
...В тот день он рано вернулся из поездки по округе и, позавтракав, ушел на свою любимую дорожку у реки. Осеннее солнце еще грело стволы сосен, под которыми стояла скамья, весело блестела река.
Прошел час, другой, третий...
Джин взяла на руки маленького Фрэнка и, кликнув Бобби, пошла к реке – посмотреть, почему Роберт не идет пить чай. Выйдя из-за кустов, она увидела, что он стоит посреди дорожки и читает вслух какие-то стихи. Она хотела подойти поближе, но вдруг заметила, что у него по щекам катятся безудержные слезы, а он, не замечая ничего, бормочет стихи, дыша прерывисто и часто, как будто ему не хватает воздуха.
Он увидел Джин, бросился к ней, усадил на скамью и, даже не сказав: «Слушай!», начал читать:
Когда на город ляжет тень
И кончится базарный день,
И продавцы бегут, задвинув
Засовом двери магазинов,
И нас кивком сосед зовет
Стряхнуть ярмо дневных забот, —
Тогда у полной бочки эля,
Вполне счастливые от хмеля,
Мы не считаем верст, канав,
Мостков, опасных переправ
До нашего родного крова,
Где ждет жена, храня сурово
Свой гнев, как пламя очага,
Чтоб мужа встретить как врага.
Об этом думал Тэм О'Шентер,
Когда во тьме покинул центр
Излюбленного городка,
Где он наклюкался слегка.
А город, где он нализался —
Старинный Эйр, – ему казался
Гораздо выше всех столиц
По красоте своих девиц.
О Тэм! Забыл ты о совете
Своей супруги – мудрой Кэтти,
А ведь она была права...
Припомни, Тэм, ее слова:
«Бездельник, шут, пропойца старый,
Не пропускаешь ты базара,
Чтобы не плюхнуться под стол.
Ты пропил с мельником помол.
Чтоб ногу подковать кобыле,
Вы с кузнецом две ночи пили.
Ты в праздник ходишь в божий дом,
Чтобы потом за полной кружкой
Ночь посидеть с церковным служкой
Или нарезаться с дьячком!
Смотри же: в полночь ненароком
Утонешь в омуте глубоком
Иль попадешь в гнездо чертей
У старой церкви Аллоуэй!»
Бернс давно не знал такой радости творчества, такой полной власти над словом. Он работал над своим «Тэм О'Шентером» день и ночь, отделывая и оттачивая каждую строку.
Иногда стихи так ладно, так верно ложились в строфы, что почти ничего не приходилось переделывать:
Трещало в очаге полено.
Над кружками клубилась пена...
То дождь, то снег хлестал в окно,
Но пьяным было все равно!
Заботы в кружках потонули,
Минута каждая плыла,
Как пролетающая в улей
Перегруженная пчела...
Через несколько дней Бернс читал «Тэма» капитану Гроузу и Ридделам.
Сначала шло описание бурной ночи, когда Тэм выехал из Эйра домой:
Дул ветер из последних сил,
И град хлестал, и ливень лил,
И вспышки молний тьма глотала,
И небо долго грохотало...
В такую ночь, как эта ночь,
Сам дьявол погулять не прочь...
Скачет Тэм на своей верной кобыле Мэг, скачет по страшным, зловещим местам:
Здесь, у прибрежных этих скал,
Пропойца голову сломал.
Там – под поникшею ракитой —
Младенец найден был зарытый,
А дальше – тот засохший дуб,
Где женщины качался труп...
Тэму надо бы ехать поскорее домой, но любопытство погнало его к самой церкви.
О боже! Что творилось там!..
Толпясь, как продавцы на рынке,
Под трубы, дудки и волынки
Водили адский хоровод
Колдуньи, ведьмы всех пород...
Тэм онемел. Тэм, не отрываясь, смотрел в окно на страшных пляшущих ведьм, похожих на «живые жерди и ходули».
Но Тэм нежданно разглядел
Среди толпы костлявых тел,
Обтянутых гусиной кожей,
Одну бабенку помоложе.
Как видно, на бесовский пляс
Она явилась в первый раз...
Она была в рубашке тонкой,
Которую еще девчонкой
Носила, и давно была
Рубашка ветхая мала...
Но музу должен я прервать.
Ей эта песня не под стать,
Не передаст она, как ловко
Плясала верткая чертовка,
Как на кобыле бедный Тэм
Сидел недвижен, глух и нем,
А дьявол, потеряв рассудок,
Свирепо дул в десяток дудок.
Но вот прыжок, еще прыжок —
И удержаться Тэм не мог.
Он прохрипел, вздыхая тяжко:
«Ах ты, Короткая Рубашка!..»
И в тот же миг прервался пляс,
И замер крик, и свет погас...
Но только тронул Тэм поводья,
Завыло адское отродье...
И пошла погоня за Тэмом – вот-вот настигнет его нечистая сила, хоть верная Мэг и несется во весь опор.







