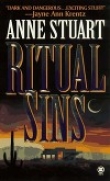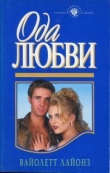Текст книги "После войны"
Автор книги: Ридиан Брук
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
На платформу гамбургского вокзала Даммтор стекались британские военные. Почти все встречали жен, для некоторых прибытие поезда из Куксхафена означало конец долгой разлуки, длившейся многие месяцы, а то и годы.
Семнадцать месяцев назад они провели вместе три дня в Лондоне; тогда он в последний раз видел Рэйчел, вдыхал ее запах, слушал, как она играет на пианино. Полагаться на фотографию, сделанную в тот июльский день на пляже в Пемброкшире и лежавшую с тех пор за эластичной тесемкой в портсигаре, не приходилось. На снимке и сама Рэйчел как будто переживала разгар своего собственного лета – свободное платье в цветочек, голова чуть склонена, румянец, угадываемый даже на черно-белой фотографии. Льюис не отличался богатой фантазией, но за время разлуки ему удавалось извлекать из этой фотокарточки такие образы и воспоминания, что порой сам поражался. Фантазии его мало походили на стилизованные, постановочные картинки из романтических фильмов – туда бы их попросту не пропустила цензура. Чаще всего он возвращался к тому дню, когда в первый раз представил Рэйчел своей семье – сестра Кейт, изумленная «уловом» брата, мгновенно одобрила выбор – и когда они ночью купались голышом в Кармартенбэй и бархатистые щупальца водорослей ласкали их тела.
Скорое появление живого оригинала его фантазий грозило уничтожить их. Стоя на перроне, Льюис курил и думал о женщине, что вот-вот сойдет с поезда. Какой будет настоящая Рэйчел в сравнении с другой, с фотографии, улыбавшейся ему всю войну, в любую погоду и в любых обстоятельствах?
Льюис убрал карточку в портсигар, закрыв ею другой снимок, Майкла, и защелкнул крышку. Затянулся в последний раз и бросил окурок на рельсы. Под высокой крышей возились птицы. Снизу раздался радостный возглас, и Льюис посмотрел на рельсы. Там стоял немолодой тщедушный человечек и с благоговением разглядывал еще дымящийся окурок, бормоча как заведенный «danke, danke, danke». В обычные времена столь восторженная благодарность, явно несоразмерная крохотной милости, прозвучала бы издевкой, но в Stunde Null брошенный окурок был манной небесной. Жалость и отвращение схватились в душе Льюиса, и, как всегда, верх взяла жалость. Он снова достал свой серебряный портсигар, извлек из него три сигареты, наклонился и протянул их человечку. Тот потрясенно уставился на них, не смея взять, страшась, что это только мираж.
– Nehm Sie! Schnell![13]13
Возьми! Быстрее!
[Закрыть] – поторопил Льюис, понимая, что собравшиеся здесь сослуживцы могут по-разному расценить его щедрость.
Немец схватил сигареты, зажал в ладони и быстро сунул руку под пальто.
Распрямившись, Льюис увидел, что к нему по платформе направляются двое военных. Одним из них был капитан Уилкинс, заметно взволнованный предстоящей встречей с женой, которую он без малейшего стеснения именовал «моим лепесточком». Льюис, с трудом находивший слова, чтобы выразить свои чувства к Рэйчел, втайне восхищался капитаном. Уилкинс делился интимными подробностями с откровенностью влюбленного юнца, не способного удержать в себе бьющие через край эмоции. Одним из откровений стало стихотворение «К моему лепесточку» с такой, в частности, строчкой: «Я орошать тебя буду, цветок мой чудесный, я затоплю тебя любовью своей».
Компанию капитану составлял незнакомый Льюису майор. Выглядел он довольно экзотично: черные шелковистые волосы, выразительные, цепкие глаза. Льюис невольно подобрался, инстинктивно почувствовав, что в его присутствии нужно быть осторожным.
– Сэр, это майор Бернэм из разведки. Прибыл отсортировать черных от серых, белых и прочего.
Бернэм не стал отдавать честь старшему по званию и вместо этого протянул руку. В службе разведки существовала собственная иерархия, и ее сотрудники быстро привыкали не выказывать почтения армейским, которые, по их мнению, не обладали качествами, требующимися для перестройки разгромленного государства. Отступление от формального этикета Льюиса ничуть не задело, но деловитость и сосредоточенность майора указывали на то, что человек этот здесь не из праздного любопытства.
Бернэм бросил недовольный взгляд на топчущегося внизу попрошайку.
– Мы только вчера нашли для майора дом, – быстро сказал Уилкинс. – Рядом с вами, сэр. На Эльб-шоссе. – Капитан уже усвоил, что взгляды и поступки полковника зачастую расходятся с общепринятыми, а памятуя о его манере выражаться без экивоков, опасался стычки. – Вы почти соседи, сэр.
Бернэм все наблюдал за немцем, который уже вскарабкался на платформу и теперь стоял неподалеку с протянутой рукой, видимо рассчитывая, что друзья полковника будут столь же щедры.
– Уходите – или я прикажу вас арестовать, – сказал майор на безукоризненном немецком.
Старик сжался, попятился, кланяясь, развернулся и нетвердой походкой заковылял прочь.
Бернэм поморщился:
– Ну и вонь же от них.
– Это от истощения, такое происходит, если человек долгое время получает менее девятисот калорий в день, – сказал Льюис.
– По крайней мере, от голодных меньше неприятностей. – Бернэм сухо улыбнулся.
– Верно подмечено, – сказал Уилкинс, пытаясь разрядить сгущающуюся атмосферу.
Бернэм кивнул и бросил на Льюиса взгляд профессионального дознавателя. Протяжный гудок приближающегося поезда избавил полковника от необходимости объяснять майору, что он ошибается. Очень сильно ошибается.
– Почему эти дети бегут за нами? – высунувшись из полуоткрытого окна, спросил Эдмунд.
Орава немецких детей бежали рядом с останавливающимся поездом. Многие из них выкрикивали имена святой троицы – «шоко, циггиз, сэндвич», – но пассажиры еще не были знакомы с установленным ритуалом раздачи пайков, а потому дары из окон никто не бросал.
– Может, хотят посмотреть, как мы выглядим, – предположила Рэйчел. – Мы приехали.
– Так это немцы?
– Да. И все, хватит. Надевай пальто.
– Они не похожи на немцев.
Рэйчел поправила сыну галстук, лизнула палец и стерла пятнышко сажи с его щеки и пригладила волосы.
– Посмотри на себя – как ты выглядишь. Что подумает отец?
Носильщики, числом превосходящие пассажиров, принимали багаж, предоставляя приехавшим возможность отыскать мужей и отцов. Передав чемодан энергичному седоволосому старику, Рэйчел вышла из вагона и окунулась в реку из твидовых костюмов, шляп, пудры и губной помады, устремившуюся к встречающим мужчинам. В потоке уже обнимались воссоединившиеся пары. Жена майора, как и обещала, наверстывала упущенное. Бросившись к мужу, миссис Бернэм сжала ладонями его лицо и поцеловала прямо в губы. Это было так дерзко, так бесстыдно, что Рэйчел отвернулась. Сама она никогда бы не поцеловала Льюиса вот так на публике, даже в пору самых пылких их отношений, – это же непристойно.
Мужа Рэйчел увидела первой. Льюис стоял чуть в стороне от толпы, с выражением немного испуганным и беззащитным, – и с ней случилось именно то, что описывается в рассказах из женского журнала: сердце застучало, на горле запульсировала жилка, дыхание участилось. Это острое, пронзительное ощущение длилось секунду или две, но схлынуло, как только он увидел ее, – его глаза расширились, но в следующий миг он уже улыбался кинувшемуся к отцу Эдмунду. Льюис взъерошил сыну только что приглаженные волосы:
– Надо же, как ты вырос.
– Привет, папа!
Несколько секунд Льюис неотрывно смотрел на Эдмунда, отмечая перемены, всегда удивительные для взрослых и незаметные самим детям, и лишь когда использовать сына как прикрытие стало уже невозможно, повернулся к Рэйчел и ткнулся в ее лицо поцелуем, угодившим куда-то в уголок губ.
– Хорошо добрались?
– Немного качало.
– Тогда надо выпить чаю. Если повезет, угостимся штруделем.
– Немцы не умеют заваривать чай, – сказал Эдмунд.
Льюис рассмеялся. Одно из немногих клише о немцах, соответствовавших действительности.
– Теперь у них лучше получается.
Эдмунд с любопытством озирался, вбирая каждую деталь, он оживился, углядев что-то интересное на мосту над железнодорожными путями.
– Что они там делают?
– О боже, – прошептала Рэйчел.
Двое детей держали за ноги мальчишку, свесившегося с моста перед идущим внизу поездом. В руках мальчик держал клюшку для гольфа, и в какой-то миг показалось, что поезд ударит его, но трубы паровоза пролетели в каких-то дюймах от головы мальчика, а затем он замахал клюшкой, скидывая с платформы куски угля, которые ловили в подолы стоявшие внизу женщины.
– Им это разрешают? – замерев в восхищении, спросил Эдмунд.
– Официально – нет, – ответил Льюис.
– И ты их не остановишь?
Льюис заговорщически подмигнул сыну.
– Не вижу кораблей[14]14
Фраза, произнесенная адмиралом Нельсоном при сражении за Копенгаген в 1801 г. Получив приказ об отступлении, он поднес подзорную трубу к незрячему глазу и заявил, что не видит кораблей.
[Закрыть], – сказал он, спеша направить семью к выходу из вокзала, пока не посыпались другие трудные вопросы.
Самый роскошный гамбургский отель, «Атлантик», пережил войну и теперь являл оазис расточительности в пустыне бережливости. Это впечатление усиливал крытый дворик с пальмами в кадках, примыкавший к большой гостиной, где сидевшие меж пальмами музыканты играли для пьющих чай англичан, которые на час забывали тяжкие, серые годы и представляли, как это будет выглядеть на открытке. Пообтрепавшаяся роскошь, чай, позвякивание ложечек, толстые ковры – это, по мысли Льюиса, создавало атмосферу комфорта и уверенности, необходимую для объявления принятого им решения. Но музыка его не устраивала. Обычно здесь наигрывали бодрые мелодии, популярные у англичан, но сегодняшние исполнители – пианист и певица – буквально вынимали душу мелодичной меланхолией немецких песен. Невеселые новости требовали веселого фона, и эта тоскливая музыка не годилась.
Рэйчел узнала мелодию с первых тактов – это была шубертовская «Песня» – и сразу же отдалась ее глубокому течению. Штрудель остался нетронутым, ей доставало музыки, которую она, единственная в этом зале, слушала с напряженным вниманием и полной концентрацией. Сидевший рядом Эдмунд жадно поглощал пирог, одновременно засыпая отца вопросами. Вопросов было много, накопилось за целую войну, и все требовали незамедлительных ответов. Льюис курил, отвечал сыну и ждал подходящего момента, чтобы попросить музыкантов сменить репертуар.
– Германия теперь как колония?
– Не совсем так. Со временем мы вернем ее им… когда все здесь поправим.
– Мы получили самую лучшую зону?
– Здесь говорят, что американцы получили виды, французы – вино, а мы – руины.
– Но это несправедливо!
– Ну, руины сотворили мы сами.
– А русские?
– Русские? Им достались фермы. Но это уже другая история. Как штрудель, дорогая?
Льюис увидел, как жена украдкой вытерла глаза и, чтобы отвлечь внимание, ткнула вилкой в пирог. Но было уже поздно.
– Мама снова плачет.
Этой фразой Эдмунд как будто бросил на стол сигнальную ракету и осветил их последние семнадцать месяцев. И Льюис увидел куда больше того, что хотел бы увидеть, больше того, с чем был готов столкнуться. Версия Рэйчел, которую она излагала в письмах, оказалась лишь самым краем той воронки, что, как он надеялся, сумеют сгладить время и расстояние.
– Не говори глупости, Эд, – сказала Рэйчел. – Это просто музыка. Ты же знаешь, я всегда плачу от грустной музыки.
Певица закончила, аплодисментов не последовало, и Льюис поспешил воспользоваться представившейся возможностью и разогнать уныние. Едва он поднялся, чтобы обратиться к музыкантам с просьбой, как Рэйчел угадала намерения мужа.
– Пожалуйста, не надо…
– Нам нужно что-нибудь пободрее, не думаешь?
Рэйчел пожала плечами, уступая, и, когда Льюис ушел, повернулась к Эдмунду:
– Пожалуйста, не рассказывай папе таких вещей обо мне. Они его только расстраивают.
– Прости.
Пока Льюис шепотом излагал свою просьбу, Рэйчел обратила внимание на улыбку исполнительницы, натянутую, через силу. Может, это певица международного калибра, осколок разгромленного оркестра, вынужденная теперь угождать обывательским вкусам. Льюис еще не вернулся к столу, а пианист уже сыграл вступление к «Беги, кролик, беги», и певица, не сбившись ни на такт, выплыла из глубин экзистенциальной германской тоски на мелководье английского легкомыслия.
– Так-то лучше, – сказал Льюис. – Этой стране нужны новые песни.
Бойкая мелодия задала соответствующий тон настроению, и Льюис решил закрыть вопрос сейчас, не откладывая его еще на одну сигарету. Не будучи по натуре торговцем, он полагался обычно на прилагательные в превосходной степени, вроде «замечательнейший» и «чудеснейший».
– Давайте я расскажу вам о нашем новом доме. Это действительно чудеснейшее место. Дом намного больше, чем в Амершаме. Больше даже, чем у тети Клары. Есть бильярдная. Рояль. – Короткая пауза, выразительный взгляд на Рэйчел. – Великолепный вид на Эльбу. В доме полно интереснейших картин – думаю, весьма известных художников. Что еще? Есть «немой официант»[15]15
«Немой официант» (dumb waiter) – кухонный лифт для подачи блюд с одного этажа на другой.
[Закрыть].
– Официант? – поразился Эдмунд.
– Прислуга. Горничная, кухарка и садовник.
– И они все немые?
Льюис невольно рассмеялся. И даже Рэйчел улыбнулась.
– Скоро увидишь.
– А по-английски они говорят? – спросила Рэйчел.
– Большинство немцев знают несколько английских слов. А ты наверняка быстро выучишь необходимые немецкие.
Льюис помолчал. Этот момент он репетировал мысленно несколько раз. Сыграть на жалости, пробудить сочувствие к Любертам? Рассказать, какие они, показать, что они такие же люди? Или просто изложить факты – с упором на то, что в доме вполне может разместиться двадцать человек и выгонять хозяев нет никакой нужды?
– Владелец дома – герр Люберт. Он архитектор. Человек образованный, культурный. Жена умерла во время войны. У него есть дочь, чуть постарше тебя, Эд. Зовут, кажется, Фрида. В общем, дом… он огромный. Там и двадцать человек поместятся. Верхний этаж полностью отдельный…
Рэйчел тяжело вздохнула.
– Дом достаточно велик для всех нас. Они будут жить на верхнем этаже, а мы займем все остальное.
Рэйчел подумала, что ослышалась.
– Мы будем жить с немцами? – недоверчиво спросила она.
– Мы и не заметим, что они там. Их ведь только двое. Они могут пользоваться отдельным входом, жить сами по себе. Все, что надо, у них есть.
– Мы будем жить с немцами? – тоже спросил Эдмунд.
– Не совсем. Вместе, но раздельно. Как в многоквартирном доме.
Чувствуя, что должна что-то сделать, Рэйчел взяла чайник, чтобы налить себе чаю. Рукавом она зацепила молочник, и Льюис засуетился, обрадованный возможностью заняться чем-то, отвлечься.
– Не понимаю, – сказала Рэйчел. – Другие семьи тоже живут с немцами?
– Ни у кого больше нет такого дома. У всех все по-разному.
Рэйчел не желала жить с немцами, она просто не могла. И неважно, насколько велик дом и сколько в нем комнат, какие в нем картины и как звучит рояль, даже если это дворец с крыльями и пристройками, – места для немцев в нем нет. Она достала сигареты и поискала в сумочке спички, чтобы не обращаться за огнем к Льюису, но тот уже щелкнул своей американской зажигалкой, и она наклонилась, а он укрыл огонек чуть подрагивающей рукой.
– Подожди, пока не увидишь сама. Чудесный дом.
План Льюиса предполагал нанесение двойного удара. Если мягкий подход не сработает, если убедить Рэйчел не удастся, он нанесет удар покрепче и предложит сравнить дома, устроив экскурсию по худшим из предлагаемых Гамбургом вариантам. Шредеру было дано указание следовать в загруженном багажом «остине 16» за «мерседесом», даже если тот совершит небольшой крюк через руины, чтобы «Frau и Sohn смогли лучше понять ситуацию».
С преувеличенной осторожностью Льюис объезжал попадавшиеся на дороге воронки, но поначалу, пока Эдмунд восторгался «мерседесом», от комментариев воздерживался. Сидевший между родителями сын не жалел эпитетов в адрес автомобиля, являвшего, по его мнению, вершину инженерного мастерства. После невероятного открытия, что Бах, оказывается, был немцем, абсолютная красота механического зверя окончательно стерла в Эдмунде чувство превосходства.
– Дает до двухсот.
– Это километры в час.
– А можно попробовать?
– На этих дорогах вряд ли. – И тут Льюис привел первый из убийственных статистических доводов: – Ты знаешь, что мы за один уик-энд сбросили на Гамбург больше бомб, чем немцы на Лондон за всю войну?
Он обращался к сыну, но слова его были адресованы Рэйчел. И тут же, как будто откликаясь на его сигнал, Гамбург повернулся к ним своими зияющими ранами. Поначалу картина напоминала виды Лондона, Ковентри и Бристоля, но масштаб разрушений возрастал с каждым ярдом. Ни одного целого здания, только мусор и вереницы людей, бредущих по обочинам.
– Но ведь они сами начали, так, папа?
Льюис кивнул. Конечно. Начали они. Начали, когда ловкий фокусник смешал в котле старые обиды и недовольства; начали со вскинутой руки и повязки на локте, с митингов и построенных дорог, с аплодисментов каждому изречению, с разгромленных магазинов, с взлетающих самолетов и сброшенных бомб. Начали они. Но где они теперь? Где та раса сверхлюдей, что пожирала континенты? Не эти же жалкие оборванцы, измученные доходяги, ковыляющие вдоль разбитых дорог?
– Они не похожи на немцев, папа.
– Не похожи.
Рэйчел молчала.
– Видишь те черные кресты? Они обозначают места, где в руинах погребены люди. Более миллиона немцев, гражданских, а не военных, считаются пропавшими без вести.
Льюис посмотрел на Рэйчел, но ее лицо оставалось бесстрастным.
Ладно, молчи, подумал он. Скоро сама увидишь.
Они обогнали семью, еще одну, скарб их умещался в садовой тачке.
– Куда они идут? – спросил Эд.
– Это беженцы, возвращаются в город. Или люди, которых выгнали из дома, чтобы там поселились такие, как мы.
– Мама говорит, что они живут в лагерях.
– Так и есть. Но места для всех не хватает. Каждый месяц мы строим новый лагерь.
Надо бы как-нибудь показать им, что представляет собой лагерь для перемещенных лиц.
– Это такие лагеря, как в «Иллюстрированных новостях»?
– Нет, не такие.
– Но ведь они это заслужили, разве нет? За все, что сделали?
Льюис едва сдержал раздражение. Перевел дыхание. Сыну лучше не знать.
– Папа?
Бредущие мимо люди думали только о самом насущном, о том, как выжить, как не умереть с голоду, о том, что, возможно, самое худшее еще впереди, но помочь им Льюис ничем не мог. Справедливость…
– Да, Эд. Некоторые заслужили.
– Конечно, заслужили, – сказала Рэйчел, впервые подав голос с того момента, как села в машину.
Странная пара – приземистый работяга «остин» и изящный аристократ «мерседес» – прошуршала по гравийной дорожке. Стефан Люберт посмотрел на часы и спустился по лестнице, чтобы встретить новых жильцов. Поправив пиджак, он постарался придать себе вид, полный достоинства и одновременно смирения – комбинация маловероятная сама по себе, а уж для человека его темперамента тем более. Чуть в стороне стояли Хайке и Грета, готовые предложить британской семье свои услуги. Обе заметно нервничали и тихонько перешептывались.
– Они не такие уродливые, как другие англичане.
– Одеты хорошо.
– Бедный хозяин, пытается бодриться.
– А госпожа хорошенькая…
– Но не такая, как наша.
Грета хранила верность памяти своей хозяйки, но Клаудиа никогда не была хорошенькой. Красивой, элегантной, обаятельной – безусловно, но не хорошенькой. А вот фрау Морган, как верно подметила Хайке, именно что хорошенькая, и даже выражение ледяной неприязни не могло скрыть ее привлекательности. Темно-каштановые волосы, широко расставленные, чуточку миндалевидные глаза, маленький рот с пухлыми губами, изящная, но крепкая фигура, оливковая кожа. Откуда она? Наверняка не англичанка. Должно быть, ирландка. Или даже испанка.
– Довольной она не выглядит.
– Наверное, привыкла жить в замке.
Полковник тепло поздоровался с Любертом за руку.
– Фрида хотела вас встретить, но не очень хорошо себя чувствует. Надеюсь, вы извините ее.
– Конечно. – Льюис оглянулся на Рэйчел: – Это моя жена, фрау Морган.
Люберт протянул руку, но Рэйчел словно не заметила.
– Здравствуйте. – Рука Люберта описала полукруг, указав на женщин, стоявших поодаль: – Моя прислуга. Хайке и Грета. Рихарда вы видели у ворот. Я рекомендую их вам.
Хайке сделала глубокий реверанс, Грета обошлась сдержанным поклоном.
Рэйчел пока не произнесла ни слова. Точно впала в ступор, пока они ехали через город.
– И Эдмунд. – Льюис повернулся и окликнул сына. – Эд!
Пока они разговаривали, Эд свернул на лужайку и теперь носился по ней, разведя руки, как самолет, и изображая рев мотора. Мальчик не понимает, что делает, подумал Люберт и, показывая, что он вовсе не против, рассмеялся. Рэйчел же заметно смутилась.
– Эд! Прекрати! Подойди и поздоровайся.
Она разговаривает, удивился Люберт.
Эдмунд подбежал к ним.
Хайке захихикала.
– Привет. – Мальчик остановился перед Любертом.
– Добро пожаловать в твой новый дом. Надеюсь, тебе здесь понравится.
А ведь Льюис не преувеличивал, подумала Рэйчел, дом действительно чудесный. Он понял это, возможно даже толком не сознавая, в чем особенность дома, просто потому, что чувствовал себя неуютно в этом великолепии. Льюис был свободен и от социальных амбиций, и от материального интереса, которые были движущей силой для большинства его коллег, и бескорыстие мужа прежде очень нравилось Рэйчел, но сейчас эта черта раздражала ее безмерно. Во время устроенной герром Любертом экскурсии Рэйчел оказалась в сложном положении: с одной стороны, нужно показать немцу, что она понимает и ценит культуру, а с другой – каким-то образом обозначить свое недовольство нынешним положением дел. Переходя из комнаты в комнату, давая пояснения, герр Люберт лишь усиливал ее ощущение собственной чужеродности в этом доме. Что бы он ни говорил, она слышала только одно: «Вас здесь принимают, но дом принадлежит мне». Когда они вышли на террасу с видом на реку, Рэйчел поняла, что с нее хватит. Люберт предложил осмотреть верхний этаж, но она ответила, что на сегодня достаточно, и сослалась на усталость после путешествия. На самом деле усталость давно отступила, вытесненная потрясением от увиденных картин разрухи, но у нее не осталось сил и дальше терпеть компанию этого вежливого и – может, ей так только показалось? – дерзкого немца, в совершенстве, с безошибочным произношением изъяснявшегося на английском. Рэйчел надеялась, что языковой барьер упростит общение и разделительные линии возникнут сами собой, но этот Люберт разрушил ее надежды, так что ей самой придется установить границы, четко и ясно.
Зайдя вечером к сыну, Льюис застал его лежащим на полу. Эдмунд поставил кукольный домик посредине комнаты и уже кое-что поменял в нем: мебель перекочевала наверх, туда, где жила теперь немецкая семья, а куклы – каждая размером с палец – заняли соответствующие места. Две куклы обозначали Люберта с дочерью и три – самого Эдмунда, Льюиса и Рэйчел.
– Пора спать, Эд.
Эдмунд встал и послушно забрался на кровать.
Льюис давно не укладывал сына и не очень хорошо представлял, как это делается. Что от него требуется? Почитать перед сном? Что-то сказать? Помолиться? В конце концов он просто подоткнул одеяло, укрыв и сына, и его тряпичного солдата, Катберта. Ему хотелось погладить сына по щеке, отвести закрывающую глаза челку, но он не решился и ограничился тем, что потрепал куклу.
– Ну, как тебе здесь?
– Дом такой большой.
– Думаешь, тебе тут понравится?
Эд кивнул.
– А почему девочка не пришла поздороваться?
– По-моему, она немного нездорова. Ты скоро с ней познакомишься. Может, вы даже будете играть вместе.
– А это разрешено?
– Конечно. Раз уж мы здесь живем…
Эдмунд хотел сказать что-то еще, но отец погасил лампу:
– Спокойной ночи, сынок.
– Спокойной ночи, папа.
Льюис вышел из комнаты, а Эдмунд подумал, что, может, и правильно сделал, не рассказав о встрече, случившейся час назад, когда он крадучись поднимался на верхний этаж, где жили Люберты.
Он хотел только глянуть одним глазком, ничего больше. Оказавшись на первой площадке, он собрался повернуть на следующий лестничный пролет и тут увидел перед собой девочку со светлыми волосами, собранными в хвост. Упершись руками в стены, она зависла над ступенями, вытянув перед собой ноги, как будто выполняла упражнение на гимнастическом коне.
– Привет. – Эдмунд заинтригованно уставился на незнакомку. Может, это и есть Фрида? Если так, то выглядела она абсолютно здоровой. – Ты Фрида?
Девочка не ответила. Несколько секунд она смотрела на него, затем медленно развела ноги в стороны, так что ему открылись трусики. Словно зачарованный, Эдмунд не мог отвести глаз. Он не знал, сколько так простоял, – ему показалось, несколько минут, – молча таращась на девочку, но она вдруг зашипела, точно кошка, и он попятился и быстро стал спускаться, не сводя с нее глаз – а вдруг набросится?
Проснувшись, Люберт обнаружил, что находится в незнакомой комнате, в доме, который отныне не принадлежит ему. В первые путаные секунды после пробуждения, еще не придя полностью в себя, он пытался понять, что это за место, и сознание, перебирая ключи, плутая в памяти, перескакивая в пространстве и времени, привело его на узкую кровать в летнем домике бабушки на острове Зильт, ту самую кровать, на которой он когда-то занимался любовью с Клаудией, пока сестры на кухне готовили к ужину лобстера и крабов. Он вспомнил, как ловко они с Клаудией подстроились под треск ломаемых панцирей, пряча за ним скрип кровати и сдавленные стоны.
Люберт открыл глаза, и свет, сочащийся между неплотно сведенными шторами, развеял иллюзию. Это не дачный домик и не его кровать (на ней сейчас лежит другой мужчина со своей женщиной), он в спальне их бывшего шофера Фридриха. С началом войны штат прислуги пришлось сократить, и Клаудиа присоединила комнату к своей вечно переполненной гардеробной. Он в своем доме, которому он уже не хозяин, а хозяйки у дома нет уже давно – выветрился ее запах, забылись ее прикосновения. Но она все еще была с ним, он жил памятью о ней. Шелковое стеганое одеяло, под которым он лежал, привезли из летнего домика на Зильте после того, как на островке устроили базу люфтваффе; оно хранило запах моря.
Люберт натянул одеяло на лицо, глубоко вдохнул и перенесся в тот далекий день. Вместе со своей раскрасневшейся невестой он спустился к столу, на котором уже ждало приготовленное сестрами угощение. Травянистый, солено-рыбный запах Клаудии на костяшках пальцев смешивался с запахом тушенной в вине рыбы, и Клаудиа улыбалась ему через стол, когда он украдкой нюхал пальцы, вдыхая подтверждение ее страсти. Отдавшись воспоминанию, Люберт уловил запах собственного вожделения, рвущегося из-под одеяла, зовущего повторить ту сцену.
Потом Люберт просто лежал, ничего не стыдясь, лишь сожалея, что отныне ему только это и осталось – воспоминания, отредактированные и смонтированные для достижения быстрого, механического эффекта. Он сел, чувствуя холодную влажность внизу живота. Семя, растраченное впустую. Бесполезное семя. Потерянное. Именно об этом наследстве войны Люберт чаще всего сожалел, размышляя о том, что стряслось с ними со всеми, – не о руинах, разрухе, зверствах, а о всеобщей потерянности, сковавшей миллионы людей, что лишились любимых, родных, дома, вынужденных начинать заново. Конечно, для некоторых эта потерянность оказалась кстати – для тех, кто был несчастен в браке или тяготился своей жизнью. Рабочие на заводах посмеивались, что им-то только на руку сокращение мужского поголовья в Германии. Выбирай любую женщину. Но Люберт не хотел выбирать и не хотел, чтобы его выбирали. Он уже выбрал однажды, и она его выбрала, и пусть ее больше нет, она значит для него намного больше всех живых.
Он вытер руку о ночную рубашку, поднялся и пробрался к окну. Комнату загромождали вещи, в спешке перенесенные сюда из главной спальни, а после неожиданного предложения полковника еще и из кабинета. На верхний этаж перекочевало то, что, как Люберту представлялось, он спас бы в первую очередь в случае пожара, – стол с письменными принадлежностями, засушенный свадебный букетик и две самые ценные картины: автопортрет Леже и обнаженная служанка работы фон Карольсфельда. Странно, но он вовсе не переживал из-за того, что уступил дом, напротив, его переполняло неожиданное и приятное возбуждение, как будто, освободившись от имущества, он обрел легкость путника, которому открыты все пути.
Лужайку за окном заливал призрачный свет. Люберт посмотрел на небо, в чистой синеватой черноте висел тонкий месяц, лужайку освещал не он, свет лился из окна главной спальни, где этот добрый и честный британский офицер и его прелестная, но колючая супруга, несомненно, заново открывали друг друга после долгой разлуки. Люберт постарался не думать об этом, но картина лишь обрела четкость: они в постели, свет оставлен, чтобы вспомнить забытое, а может, перед любовью они разговаривали или, наоборот, сначала любили друг друга, а сейчас беседуют. Лежат ли, как, бывало, они с Клаудией, раскидав простыни, не стесняясь наготы, или же укрылись в пещере из простыней?
Свет погас. Терраса, сад и деревья погрузились во тьму, и звездный полог проступил яснее. Решив, что нынешние обитатели его кровати завершили ритуал воссоединения, Люберт вернулся под свое пахнущее морем и прошлым стеганое одеяло.
Рэйчел расчесывала волосы за своим новым туалетным столиком в своей новой спальне. Этажом выше, прямо над ней, герр Люберт, наверное, готовится отойти ко сну, насмехаясь над невежеством этой англичанки, не сумевшей узнать автора одной из картин в бильярдной, на которую он обратил ее внимание. Как его там зовут? Леже? Никогда о таком не слышала.
Вставать с мягкой овальной банкетки не хотелось. Презрение мужчины, что находился сейчас наверху, уравновешивалось одобрением того, что был у нее за спиной. В уголке зеркала она видела Льюиса: облаченный в пижаму, он сидел на высокой узкой кровати и наблюдал за ней – она это чувствовала – с нетерпением и вожделением. Льюиса никак не назвать неблагодарным, так что его молчание она расценивала как ожидание. Рэйчел отложила расческу: ни к чему посылать неверные сигналы. Миг физического воссоединения был совсем рядом, но она не чувствовала себя готовой.
– Тебе не понравился дом? – спросил Льюис. И хотя тон был мягкий, она уловила напряжение в голосе.
– Я бы предпочла, чтобы владелец жил где-то еще.
Льюис потянулся за портсигаром, достал сигарету, закурил. Солдатский рефлекс: впереди опасная полоса, так что сначала перекур.
– Ты могла бы подружелюбнее быть.
Справедливое замечание, она и впрямь вела себя невежливо, но его слова лишь раззадорили ее. Рэйчел рассмеялась. Получилось чуть громче, чем хотелось бы, чуть истеричнее, зато слова она подобрала тщательно. Спор очень кстати, из-за него секс отодвинется до другого раза.
– Что? Притвориться, будто мы лучшие друзья? Что мы на одной стороне?
– Так и есть, теперь мы на одной стороне.
Рэйчел поднялась, прошла через комнату к узкой кровати, стянула сорочку на груди. Взбила подушки, чтобы сесть повыше. Книга – «Свидание со смертью» Агаты Кристи – уже лежала на прикроватном столике: ее отходной маршрут, если муж станет упорствовать.