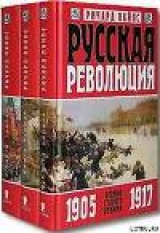
Текст книги "Русская революция. Россия под большевиками. 1918-1924"
Автор книги: Ричард Пайпс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 52 страниц)
Одним из первых иностранных посетителей Советской России был Уильям Буллит, прибывший в марте 1919 г. по заданию президента Вильсона с конфиденциальной миссией. Приехавший всего на неделю и не говорящий по-русски, Буллит вынужден был ограничиваться официальной информацией. Это не помешало ему, однако, вернувшись домой, делать самые поразительные обобщения относительно страны и ее правительства126. В том же году он подвел итог своим наблюдениям: «Разрушительная фаза революции закончилась, вся энергия правительства направлена на созидательную работу». ЧК не занималась больше террором: она лишь проверяла подозреваемых в контрреволюционной деятельности. Народ, судя по всему, в массе поддерживал власти и компартию и «всю вину за разруху возлагал на блокаду и осуществляющие ее правительства»127. Россию следует оставить в покое, и тогда внутренние силы вызовут желательные перемены.
Подобные оценки – критические в частностях, безусловно сочувственные в заключениях – характерны для западных либералов 1920-х. Независимо от того, что делали большевики – нарушали ли демократические предписания социал-демократии, подвергали ли гонениям собратьев-социалистов, – для европейских социалистов они продолжали оставаться «товарищами». Подобная слепота была вызвана убеждением, что любое движение, провозглашающее социалистические идеалы, является и на деле социалистическим: лозунги заслоняли собою действительность. Октябрьская революция стала для них явлением величественным: по словам Карла Каутского, строжайшего из критиков Ленина среди социалистов, этого архи-«ренегата», «впервые в мировой истории она поставила социалистическую партию во главе великой державы»128. С точки зрения австрийского социалиста Отто Бауэра, «диктатура пролетариата в России была не подавлением демократии, но фазой развития в сторону демократии»129. Подобно их соратникам в России в 1917-м, демократы-социалисты воспринимали все антибольшевистское как антисоциалистическое, а потому прежде всего чувствовали в нем враждебность по отношению к себе. Исходя из таких посылок только им, социалистам, чьи помыслы были чисты, дано было моральное право критиковать коммунистов.
Двойственное отношение европейских социалистов к коммунизму нашло отражение в сбивчивом разъяснении политики лейбористской партии, данном в 1919 г. Рамсеем Макдональдом, ставшим через пять лет после того главой первого в истории Британии лейбористского кабинета: «То, что мы поддерживаем русскую революцию, вовсе не означает, будто мы принимаем чью-то сторону, за или против Советов или большевиков. Мы признаем, что во время революции якобинство должно иметь место, однако, если якобинство становится злостным, способ бороться с ним – помочь стране устроиться, революции привиться»130. Разъяснение это, если в нем вообще можно усматривать хоть какой-то смысл, могло значить только одно: до тех пор, пока народ Советской России не подчинится большевистской диктатуре, осуществляемый большевиками террор является и неизбежным, и законным.
Прокоммунистическая идеология, которой придерживались либералы и социалисты, в значительной мере, а иногда и решающим образом определялась соображениями внутриполитического порядка – то есть, желанием использовать Советскую Россию как козырь в борьбе с консерваторами у себя в стране. Даже отказавшись принять коммунистов в свои ряды, британские лейбористы объединились с ними в негласном союзе против общего врага, партии тори. Они выступали против интервенции в Россию не только потому, что она, по их мнению, была направлена против социализма, но и по другой причине: подобная кампания позволяла им продемонстрировать воинствующую антилейбористскую позицию британского правительства. В начале 1920-х лейбористская партия последовательно поддерживала взятый Россией внешнеполитический курс, даже когда он наносил урон национальным интересам Британии, как это было в случае подписания Рапалльского договора с Германией. Основополагающий принцип был прост: «Противник лейбористской партии оказался также и врагом русских; разумно поэтому самой партии стать другом России»131. С этой точки зрения, то, что происходило в стране Советов, было делом второстепенной важности.
Эксплуатация российского коммунизма в целях решения внутриполитических проблем была свойственна не только либералам. В Соединенных Штатах изоляционисты вроде сенаторов Бора и Лафолетта превратились в апологетов Советского Союза по аналогичной причине: «Группа американцев защищала Советский Союз не потому, что придерживалась той же идеологии, а оттого, что была враждебно настроена по отношению к мотивам и действиям Америки. В течение следующего десятилетия [1920-х] эти изоляционисты занимали ту же кажущуюся аномальной позицию, призывая к терпимости и дипломатическому признанию большевистского режима»132. По мнению, высказанному в периодическом издании «The New Republic», «антиимпериалисты» (как левого, так и правого толка) «любили Россию из-за ее врагов»133. Ни одно американское издание не требовало более настойчиво признания Соединенными Штатами России и помощи советскому правительству, чем консервативная пресса Херста: в этом случае основанием для подобного поведения служила не симпатия к коммунистическому режиму, а нелюбовь к Европе, особенно Великобритании, и ненависть к Вашингтону. [В редакционной статье в нью-йоркском «American» за 1 марта 1918 г. подписавший ее Уильям Р.Херст отозвался о ленинском режиме как о «самой подлинной демократии в Европе, самой подлинной демократии в мире в настоящий момент». Этих взглядов он придерживался вплоть до начала 30-х годов, когда его симпатии переключились на гитлеровскую Германию (WershbaJ.// The Antioch Review. 1955. Vol. 1. P. 131-147)].
Далекие от коммунизма и даже антикоммунистически настроенные друзья такого рода оказались бесценным сокровищем для Москвы. Г.Д.Уэллс оказался совершенно прав, когда сообщил Петроградскому Совету: «Не к социалистической революции на Западе следует обращаться русским в поисках мира и помощи в нужде, но к либеральным убеждениям умеренного большинства народов Запада»134.
* * *
Иные мотивы, нежели у апологетов либерализма и социализма, были у «попутчиков». Термин этот, взятый Троцким из словаря российских социалистов и применяемый им для обозначения русских писателей, сотрудничавших с коммунистами, но не присоединявшихся к ним, стал распространяться впоследствии и на сочувствующих за рубежом. По мере того как о методах, применявшихся Коминтерном, узнавали все лучше и выяснилось, что все западные коммунисты действуют по указке Москвы, их начали воспринимать как советских агентов. Вследствие этого уменьшилось и доверие к ним, и их возможность оказывать влияние на общественное мнение. Попутчиков данное предубеждение не касалось – они действовали, или, по крайней мере, мнилось, что это так, – не из послушания иностранной державе, но по выбору собственной совести. Таким положением в глазах общественности пользовались, в частности и по преимуществу, видные западные интеллектуалы, чья литературная репутация, казалось, служила надежным гарантом порядочности и неподкупности. Просоветские высказывания таких известных романистов, как Ромен Роллан, Анатоль Франс, Арнольд Цвейг и Лион Фейхтвангер, а также видных ученых – Сидни и Беатрис Уэбб, Харольда Ласки – оказывали большое влияние на образованную западную публику. Несмотря на то что феномен «попутчиков» стал массовым явлением только в 1930-е, уже после наступления Великой депрессии и победы нацистов в Германии, первые его проявления относятся к началу 1920-х, когда Советская Россия впервые открыла двери перед симпатизирующими ей посетителями. Москва усердно культивировала попутчиков в среде зарубежных интеллектуалов, оказывала им знаки внимания и уважения, каких у себя дома они не удостаивались.
Со своей стороны, попутчики представляли коммунистическую Россию любознательному, но невежественному Западу как страну, где намеревались, несмотря на невообразимо тяжелые обстоятельства, построить первое истинно демократическое и эгалитарное государство в истории. Роль партии и службы безопасности при этом замалчивалась; Россия живописалась в виде общества, где политические решения демократически принимаются Советами, эдаким российским эквивалентом американских собраний избирателей для вынесения решений по городским делам. [По мнению М.Филлипса Прайса, русского корреспондента «Manchester Guardian» в 1920-е, «никто в то время не сознавал... что настоящим центром власти в России должно было стать не правительственное управление, но коммунистическая партия. Ленин в тот момент уже начал внедрять потихоньку партийных функционеров во все важные государственные органы, превращая партию таким образом в единственный источник власти» (Survey. 1962. № 41. Р. 22). Примечательным исключением явилась книга: Bach L. Le Droit et les Institutions de la Russie Sovietique, опубликованная в Париже в 1923. В США роль коммунистической партии в управлении Советской Россией, а также роль Коминтерна, впервые были подвергнуты публичному анализу сенатором Генри Доджем в январе 1924 г. на основании материалов, предоставленных Государственным департаментом (см.: Lasch С. The American Liberals and the Russian Revolution. New York-London, 1962. P. 216-217).]. Многое якобы было достигнуто в области социального, расового и полового равноправия, простым людям предоставлены уникальные возможности по освоению культуры и знаний. Для придания этим фантастическим картинам некоторого правдоподобия говорилось об отдельных недостатках, однако вина за них возлагалась на трудности, неизбежные при «попытке строительства Нового Иерусалима»135. Когда же миф о практически идеальной всенародной демократии уже невозможно оказалось поддерживать – а это случилось, когда на Запад просочилось больше сведений относительно истинного положения в Советской России, – все пороки системы и неудачи режима в отношении данных им обещаний свалили на наследие царизма. По словам московского корреспондента «New York Times» Уолтера Дюранти, являвшегося непосредственным источником всей необходимой американским попутчикам аргументации, какого совершенства можно было ожидать от страны, которая только что «избавилась от мрачнейшей тирании»136? Положим, в Советской России действительно диктатура, но ведь демократии не выучишься за один день, – в такой аргументации имелась бы известная доля правды, если бы страна на самом деле стремилась стать демократической.
Побудительные мотивы попутчиков оказывались разными, как и личности тех, кто совершал паломничество в Москву: «тревожные еретиканствующие профессора, атеисты в поисках религии, старые девы, ищущие компенсации в революционной деятельности, радикалы, жаждущие укрепить поколебленную веру»137. Анжелика Балабанова, служившая секретарем Коминтерна и знавшая процедуру досконально, вспоминает, что по приезде в страну все гости распределялись по четырем категориям: «поверхностный, наивный, честолюбивый, продажный»138. В действительности, разумеется, мало кто идеально соответствовал какой-либо одной категории. «Наивный» идеалист часто обнаруживал, что ему легче придерживаться веры, если наградой за это становится слава; «продажный» визитер получал большее удовольствие от своей прибыли, когда ей подыскивалось идеалистическое оправдание (например, «торговля способствует укреплению мира» или «торговля цивилизует»). Отец и сын Хаммеры, добившиеся наибольшего успеха в Москве в 1920-х американские предприниматели, «совмещали», по словам Юджина Льонса, «дело личного обогащения с удовольствием помогать России»139.
Материальная заинтересованность, причем не только в узкокоммерческом смысле, поставляла коммунистам все новые и новые жертвы. Готовность преданно следовать всем изгибам линии партии гарантировала писателю и художнику щедрую поддержку со стороны эффективной и хорошо финансируемой партийной пропаганды: с ее помощью многие литераторы средней руки становились известными, даже знаменитостями, а их книги издавались огромными тиражами. Можно привести в пример Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера, Элтона Синклера, Линкольна Стеффенса, Говарда Фаста, сочинения которых с течением времени впали во вполне заслуженное забвение. Английские писатели-попутчики получали доступ в Левый книжный клуб Виктора Голланца, который только в середине 1939 г., на пике своей известности, разослал просоветскую популярную литературу пятидесяти тысячам подписчиков. Произведения подобной ориентации, выпущенные издательством «Пингвин», раскупались стотысячными тиражами140. Это происходило в то время, когда «Слепящую тьму» разуверившегося коммуниста Артура Кестлера, со временем признанную классическим произведением, отпечатали в Англии первым тиражом в тысячу экземпляров, а затем в течение года продали только четыре тысячи141. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла отвергли четырнадцать издателей, поскольку она показалась им слишком антисоветской142. Западные журналисты приобретали имя, получив аккредитацию в Москве, а стиль их жизни здесь выходил далеко за пределы того, на что могли рассчитывать их коллеги дома; для этого требовалось писать только то, что одобряло советское руководство: в противном случае их ожидало лишение аккредитации и изгнание из страны. И, конечно же, готовым рисковать и симпатизирующим режиму предпринимателям предоставлялась возможность заработать денег на торговле и концессиях. С точки зрения Москвы, «продажные» симпатизирующие являлись самыми надежными, поскольку, не имея идеалов, они оказывались нечувствительны и к разочарованиям.
Большая часть попутчиков относилась, вероятно, к категории «наивных». Они искренне верили всему, что читали и слышали, поскольку страстно желали избавить мир от войн и нужды, и игнорировали неблагоприятные сведения о советском режиме. Они верили, что человека и общество можно довести до состояния совершенства, а поскольку знакомый им мир был далек от него, эти люди с готовностью принимали рекламируемые им идеалы за коммунистическую реальность. Капитализм вызывал у них отвращение, он допускал нищету посреди изобилия, его внутренние противоречия порождали милитаризм и войны. Эстетов возмущала вульгарность современной им массовой культуры, а следовательно, не могло не привлекать декларированное коммунистами намерение нести «высокую» культуру в массы. Основоположник «Баухауса» Вальтер Гропиус писал в своеобразной непоследовательной манере: «Поскольку в настоящий момент у нас совсем нет культуры, а есть цивилизация, я уверен, что большевизм, несмотря на все отвратительные побочные продукты его деятельности, является единственным путем заложить в обозримом будущем фундамент новой культуры». [Цитируется по кн.: von Gleichen H. Der Bolschewismus und die deutschen intellektuellen.Leipzig, 1920.S.50.Ненависть к вульгарности современной коммерческой культуры могла, разумеется, принимать и иные формы, например англомании (ср., напр., Генри Джеймс и Т.С.Элиот).].
Истинным идеалистам трудно оказывалось приспосабливать свое восприятие к тому, чтобы неблагоприятная информация не доходила до их собственного сознания: им приходилось прибегать к разного рода психологическим уверткам, позволявшим не думать об очевидных, но не вписывающихся в общую картину отрицательных моментах. Возвращаясь к пережитому, многочисленные разочарованные коммунисты и попутчики оставили нам воспоминания о том, как происходил этот процесс. Артур Кестлер, живший в Советской России в начале 1930-х, во время массового голода и абсолютного попрания гражданских прав, выработал у себя привычку рационализировать все, что он видел и слышал, воспринимая советскую действительность как нечто не вполне реальное, так, что «дрожащая мембрана натянулась между прошлым и будущим»: «Я научился автоматически относить все, что шокировало меня, к "наследию прошлого", а все, что мне нравилось, – к "росткам будущего". Установив в голове подобный сортировочный автомат, в 1932 г. европеец все еще мог жить в России и тем не менее оставаться коммунистом»143.
Труднее всего идеалистам-попутчикам оказывалось смириться с тем, что вожди Советской России были не альтруистами и благодетелями человечества, а своекорыстными политиканами, причем необычайно жестокими. Поэтому идеалисты редко говорили о политической деятельности коммунистов – о роли партии в советской жизни, о фракционной борьбе, об интригах и доносах, которыми сопровождались «чистки», ставшие после того, как окончилась гражданская война, непременным атрибутом коммунистической жизни. Попутчики предпочитали рассуждать о коммунизме исключительно как о социальном и культурном феномене. Анна Луиза Стронг, одна из наиболее верных попутчиков сначала Москвы, а затем и Пекина, не могла признаться даже себе самой, что ее идолы боролись за личную власть, как это делают везде обычные политики, настолько занят был ее взор созерцанием высших целей коммунизма. С ее точки зрения, изгнание Троцкого из партии Сталиным не имело никакого смысла: «Я никогда не могла понять, почему его выгнали, – писала она. – Я не могла понять, какая разница была между двумя теориями. Каждый хотел строить эту страну, не так ли?»144. Даже когда Сталин превратился в абсолютного хозяина Советского Союза, подобные люди все-таки отрицали, что его диктатура имела политический характер: «Как это ни странно, попутчики стали жертвами собственного ума и образованности. Усвоив, в лучшем духе Просвещения, что у всего есть материальная причина и на все влияет среда, они не могли позволить себе поверить в этот фокус-покус обскурантистов», в мегаломанию и паранойю, овладевшую одним человеком145. Короче говоря, чем более умным и образованным оказывался человек, тем труднее становилось ему уловить истинную природу режима, не придерживавшегося никаких рациональных принципов, привычным образом прибегавшего к силе для решения разногласий, которые в нормальном обществе разрешаются путем нахождения компромисса или обращениями к электорату. Приспособиться к такому режиму было проще бедному и необразованному, кого опыт жизни постоянно учил воспринимать иррациональность и жестокость как неизбежное.
Попутчики подпадали под гипноз сталинской тирании: вместо того чтобы видеть в ней грубейшее нарушение демократии, на которую якобы притязали коммунисты, они воспринимали ее как гарантию идейной чистоты, поскольку, устранив политическую деятельность и сопутствующую ей отвратительную грызню, она позволяла большевикам сосредоточиться на том, что, по мнению попутчиков, являлось высшей целью движения. Парадоксально, что, как только партийно-советские вожаки после смерти Сталина начали сами признаваться в содеянных ошибках и преступлениях, попутчики толпами стали покидать их. Вскоре исчезло и само понятие. Для попутчиков-идеалистов самообман был необходимостью: они с готовностью закрывали глаза на тиранию и массовые убийства во имя высокого идеала, но не смогли принять более гуманной политики, ведь ее прагматизм лишал их утопической мечты.
Душа попутчика-идеалиста была полем вечного сражения. Многие из них, достигнув известного рубежа, не могли уже более игнорировать то, что происходило вокруг: для кого-то раньше, для кого-то позже наступал момент отрезвления. Толчком могло послужить изгнание Троцкого из партии, или процессы 1930-х, или подписание советско-нацистского пакта, или венгерские события. И в каждом случае это приносило не только болезненное осознание собственной неправоты, но и разрыв с группой единоверцев, к которой так долго принадлежал, остракизм и изоляция. Те, кто пережил этот мучительный опыт, особенно выделяют в своих воспоминаниях горе разрыва с друзьями, ощущение собственного одиночества во враждебном мире, где не только коммунисты и бывшие друзья-попутчики, но и либералы считают тебя презренным ренегатом. [Уиттекер Чамберс рассказывает, как стал жертвой ненависти «просвещенных людей» после того, как вышел из компартии и раскрыл Алджера Хисса как советского агента (Witness. New York, 1952. P. 616). Оторванный от партии, он воспринимал покидаемый им мир как «мир жизни и будущего. Мир, в который я возвращался, представлялся, по контрасту, кладбищем» (Ibid. P. 25).]. Но были и другие. Для кого пределы допустимого оказывались бесконечно растяжимыми: что бы ни делали коммунисты, у таких людей всегда находилось этому удовлетворительное объяснение.
Типичным идеалистом-попутчиком был Джон Рид, автор «Десяти дней, которые потрясли мир» – книги, более всех других побудившей иностранцев взглянуть на русскую революцию как на славное романтическое приключение. В жизни Рида присутствовали все элементы, из которых обычно складывалась судьба рядового «попутчика»: буржуазное происхождение, неудовлетворенные интеллектуальные запросы, неподдельный идеализм. Сын промышленного магната из Орегона, он провел детство в роскоши, в окружении ливрейных лакеев, в череде празднеств и балов146. В Гарварде он оказался аутсайдером: его нуворишское происхождение не произвело никакого впечатления на товарищей по университету; «неарийская» внешность – большие глаза, темные волосы – не привлекала. Учившийся с Ридом в университете Уолтер Липманн писал, что объекты обретали реальность в глазах Джона только в той мере, в какой они имели отношение к нему лично: «Революция, литература, поэзия – эти вещи занимают его иногда, когда становятся фактами его жизни»147. Думается, он стремился к сильным ощущениям, хотел производить впечатление. Через несколько дней по прибытии в Кембридж Рид предложил одному из студентов написать в сотрудничестве с ним книгу о Гарварде. Когда тот спросил его, как он собирается писать о предмете, о котором оба они ничего не знают, Рид ответил: «Тьфу ты, мы все узнаем, когда будем писать»148.
Именно таким образом подошел он и к русской революции. Рид не знал России, ее языка149; ничего ему не было известно и о социализме. Но это не имело значения: революции были настоящим приключением. Первые журналистские опыты Рида связаны с мексиканской революцией. Когда он в сентябре 1917 г. прибыл в Петроград – уже во второй раз, первый короткий и неудачный визит в Россию Рид совершил в качестве военного корреспондента летом 1915-го, – он уже числился среди самых высокооплачиваемых журналистов Америки. Открывшиеся виды завораживали, привлекали взор: «Мехико бледнеет, – писал он по приезде, – перед этим цветом, ужасом, величием». Журналист следил за октябрьским переворотом так, как смотрят фильм на чужом языке, и через два месяца напряженной работы его впечатления легли на бумагу. «Десять дней» выстроены как пьеса и могли бы послужить сценарием колоссального фильма в духе Д.У.Гриффита. Там есть «звезды» – Ленин, Троцкий, несколько других видных большевиков, – выступающие на фоне тысячных массовок. Герой – это пролетариат; злодей – «имущий класс», и под этим именем автор объединяет всех, кто стоит на пути у большевиков, включая социалистов. Любые сложности в характере персонажей или в ходе событий отметаются, чтобы не загромождать схематичный, в быстром темпе развивающийся сюжет, где «хорошие парни» ведут борьбу против «плохих».
Увлеченный увиденным, Рид становится попутчиком. [Рида скорее всего можно было бы характеризовать как «наивного» попутчика, однако и он не остался равнодушным к дарам, предназначавшимся обычно «жадным». Как недавно стало известно, 22 января 1920 года он получил из коминтерновской казны драгоценных металлов на сумму 1 008 000 рублей (см.: РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 82. Д. 1. Л. 10). На черном рынке эту сумму можно было обменять на $1000, эквивалент 50 унций золота.]. Подобно многим сочувствующим западным наблюдателям, он захвачен не идеями, но динамикой революции, составляющей резкий контраст с унынием «буржуазной» Европы – тем, что другой журналист назвал «творческим усилием революции... живым, живительным проявлением того, что было доселе скрыто от сознания человечества». [Ransome A. Six Weeks in Russia in 1919. London, 1919. P. VIII. Это стало общим местом в реакциях жителей Запада на Советскую Россию. Джон Дьюи в его знаменитых воспоминаниях о поездке в СССР пишет в 1928 г., что «сущность революции – высвобождение мужества, энергия, уверенность в жизни» (цитируется по: Feuer L.S. // American Quarterly. 1962. Vol. 14. №2. Parti. P. 122).]. Опубликованная в 1919 г. с предисловием Ленина, книга Рида произвела огромное впечатление. Она сразу же стала восприниматься как надежный источник по событиям октября 1917-го, хотя единственное ее достоинство как исторического документа – свидетельство о том, насколько русская революция поразила воображение ищущего острых ощущений иностранца. [Когда Риду сказали в России, что «все произошло» не так, как он это описывает, он ответил: «Подумаешь, ну и что!» Важна была не «фотографическая точность», но «общее впечатление» (Wolfe B.D. Strange Communists I Have Known. New York, 1965. P. 43)].
Когда Рид опять вернулся в Россию в октябре 1919 г., он начал разочаровываться в большевизме, поскольку стал понимать, как российские коммунисты манипулируют Коминтерном, куда он вступил, и до какой нищеты они довели сельское население России, – это он видел во время поездки по Волге. Бедняга умер в 1920 г. от тифа уже полностью разочарованным человеком. Анжелика Балабанова, ухаживавшая за ним в последние дни, считает, что «разочарование и отвращение, которые он испытал во время Второго конгресса Коминтерна, сыграли роль в его смерти. Нравственный и нервный шок отняли у него желание жить»150. Слом произошел рано и быстро, поскольку, испытывая эмоциональную, а не интеллектуальную привязанность к революции, Рид не имел возможности прибегнуть к арсеналу рационализации, выручавшему более осведомленных попутчиков, ему нечем было оградиться от разочарования.
Другим удавалось все воспринимать легче. Вдова Рида Луиза Брайант сумела приспособиться к нелегкому существованию в Советской России и даже оправдать красный террор. Он, по ее мнению, был политикой, навязанной таким чувствительным людям, как Ленин и Дзержинский, находившимися вне их контроля обстоятельствами: «Обязанностью [Дзержинского] было следить за тем, чтобы от заключенных избавлялись своевременно и гуманно. Он отправлял эти неприятные функции с оперативностью и эффективностью, за которые даже осужденные должны были быть ему благодарны, поскольку ничего нет более ужасного, чем палач, чья рука дрожит, чье сердце сжимается от жалости»151.
Можно было не видеть советской реальности, живя в Советском Союзе, но гораздо легче было закрыть на нее глаза, находясь на некотором расстоянии. Луиза Брайант предпочла восхвалять советский коммунизм на Лазурном Берегу, где она поселилась со своим вторым мужем – миллионером Уильямом Буллитом. После прихода Гитлера к власти Лион Фейхтвангер и возглавляемая им группа немецких попутчиков также нашли уютное прибежище на юге Франции. Лион Стеффенс, страстный апологет сначала Ленина, а затем и Сталина, сходным образом обосновывался то в солнечных районах, то на лечебных курортах капиталистического Запада, сперва на Ривьере, в конце жизни – в Кармеле, Калифорния. «Я патриот России, – писал он другу в 1926 г., – будущее принадлежит ей; Россия победит и спасет мир. Таково мое убеждение. Но я не хочу там жить». Письмо было отправлено из Карлсбада152.
* * *
Неприкрытая враждебность российских коммунистов к «капитализму», и особенно отрицание ими права на частную собственность, должно было превратить западное деловое сообщество в непримиримых противников ленинского правительства. На самом же деле буржуины с толстыми животами и в цилиндрах, каких так любила изображать на плакатах советская пропаганда, оказались на редкость приветливыми и склонными к сотрудничеству. Западных капиталистов не волновала судьба их русских собратьев: они оказались вполне готовы обделывать дела с советским режимом, беря в аренду или приобретая по сниженным ценам отчужденное имущество здешних собственников. [Благородное исключение явил собой Аверелл Харриман, предложивший выплачивать проценты с прибыли, которую он намеревался получить с марганцевых концессий в Советской Грузии, законным владельцам копей.]. Ни одна социальная группа не налаживала отношений с Советской Россией с такой готовностью и с такой эффективностью, как европейские и американские деловые круги. Большевики пользовались их очевидной заинтересованностью, заставляя оказывать давление на западные правительства, добиваясь дипломатического признания и экономической помощи. Когда летом 1920 г. в Европу прибыли в поисках кредитов и техники первые советские торговые миссии, их игнорировали профсоюзы, но приветствовали представители большого бизнеса. Хуго Штиннес, глава Союза немецких промышленников и один из ранних сторонников Гитлера, заявил, принимая советскую делегацию, что он «исполнен симпатии к России и ее эксперименту»153. Во Франции один из правых депутатов советовал делегации не рассчитывать на коммунистов и левых социалистов: «Скажите Ленину, что наилучший способ склонить Францию к торговле с Россией – это действовать через французских предпринимателей. Они – единственные реалисты здесь». [Liberman S. Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 133. Давшее этот совет лицо, Антоль де Монзи, оказался весьма полезным в установлении контактов между советским правительством и Францией. Таким же «реализмом» он отличился и во время Второй мировой войны, когда налаживал франко-нацистскую дружбу; впоследствии ему было предъявлено обвинение в коллаборационизме (Ibid.)].
Промышленники, желавшие эксплуатировать природные ресурсы огромной страны и продавать ей готовую продукцию, прибегали к следующим аргументам, чтобы оправдать торговлю с государством, нарушавшим дома и за рубежом все мыслимые нормы цивилизованного поведения. Во-первых, каждый народ заслуживает своего правительства. Следовательно, было бы нереалистично и недемократично подвергать Советскую Россию бойкоту. Как сформулировал в 1920-м Барнард Барух, «русский народ имеет право, как мне кажется, устанавливать по своему желанию любую форму правления»154. За этим аргументом стояло невысказанное предположение, будто русский народ сам избрал именно коммунистическое правительство. Во-вторых, торговля – инструмент цивилизации, поскольку прививает здравый смысл и дискредитирует абстрактные доктрины. К последнему доводу часто прибегал Ллойд Джордж, призвавший в феврале 1920 г. установить торговые отношения с Советской Россией: «Мы не смогли привести Россию в чувство силой. Я уверен, что мы сможем сделать это и спасти ее путем торговли. Коммерческая деятельность оказывает отрезвляющее действие. Простые операции сложения и вычитания, на которых она построена, вскоре вытесняют дикое теоретизирование»155. Генри Форд, которому удавалось сочетать бешеный антикоммунизм и антисемитизм с чрезвычайно выгодными торговыми операциями в Советском Союзе, также верил в нравственную силу реализма: «факты станут контролировать» идеи, утверждал он, невольно перефразируя афоризм Маркса, гласящий, что бытие определяет сознание. Чем больше будет у коммунистов развиваться промышленность, рассуждал он, тем пристойнее они станут себя вести, поскольку «правота механики и правота нравственности – по сути одно и то же»156.








