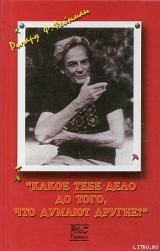
Текст книги "Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие?"
Автор книги: Ричард Филлипс Фейнман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Ричард Филлипс Фейнман
«Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие?»: Продолжение невероятных приключений Ричарда Ф. Фейнмана, рассказанное Ральфу Лейтону
От редакции
Книга является продолжением популярной книги «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» и рассказывает о дальнейших приключениях Ричарда Ф. Фейнмана, а также о его работе в комиссии по расследованию причин катастрофы шаттла «Челленджер». На русском языке книга публикуется впервые.
Переводчик выражает благодарность проф. М. Шифману за значительную помощь, оказанную при переводе особенно тонких моментов книги, связанных с техническими вопросами, а также реалиями страны, где проживал автор.
Предисловие
Из-за выхода в свет книги «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» мне стоит дать некоторые пояснения.
Во-первых, несмотря на то, что главный персонаж этой книги – тот же самый человек, что и раньше, «невероятные приключения» здесь несколько иные: некоторые легкие, а другие полны трагизма, но в большинстве случаев мистер Фейнман действительно не шутит – хотя часто это очень трудно понять.
Во-вторых, истории, рассказанные в этой книге, расположены по отношению друг к другу более свободно, чем главы книги «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», расположенные хронологически, чтобы создать подобие порядка. (Это привело к тому, что некоторые читатели по ошибке приняли книгу «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» за автобиографию Фейнмана.) Моя мотивация проста: еще когда я впервые услышал фейнмановские истории, у меня возникло сильнейшее желание поделиться ими с другими людьми.
И, наконец, большая часть этих историй была рассказана не во время игры на барабанах, как это было раньше. В последующем кратком содержании я более подробно опишу это.
Часть 1, «Необычайно любознательная личность», начинается с описания влияния тех людей, которые сформировали большую часть личности Фейнмана: его отца, Мела, и его первой любви, Арлин. Первая история была составлена по материалам программы Кристофера Сайкса на Би-Би-Си «Удовольствие понимания». Фейнману было очень больно подробно рассказывать историю Арлин, из которой было взято название этой книги. Эта история собиралась в течение десяти лет из отрывков шести разных историй. Когда она наконец-то была закончена, Фейнман проявил к ней особую привязанность и был счастлив поделиться ею с другими.
Остальные истории Фейнмана, собранные в части 1, хотя и более легкие по своему настрою, включены сюда потому, что второго тома книги «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» не будет. Особенно Фейнман гордился рассказом «Это так же просто, как один, два, три», на основе которого ему порой хотелось написать работу по психологии. Письма последней главы части 1 были любезно предоставлены Гвинет Фейнман, Фрименом Дайсоном и Генри Бете.
Часть 2, «Мистер Фейнман едет в Вашингтон» – это, к сожалению, последнее большое приключение Фейнмана. История особенно длинная, т.к.[1]1
Пробелы между инициалами, а также в общераспространенных сокращениях «и т.д.», «т.е.» и подобных здесь и далее пропущены, чтобы избежать появления разрывов строк посреди тесно связанных между собой сочетаний слов. Использование для этой цели неразрывных пробелов невозможно, т.к. они удаляются библиотечными скриптами. Прим. авторов fb2-документа.
[Закрыть] ее содержание по-прежнему актуально. (Сокращенные версии появлялись в «Инжиниринг Энд Сайанс» и «Физикс Тэдей».) Она не была опубликована ранее, потому что после того времени, что Фейнман провел в комиссии Роджерса, он перенес третью и четвертую серьезные хирургические операции – плюс лечение с помощью облучения, гипертермии и других методов.
Борьба Фейнмана против рака, длившаяся десять лет, завершилась 15 февраля 1988 года, через две недели после того, как он закончил преподавать свой последний курс в Калтехе. Я решил включить одну из его самых ярких и вдохновенных речей, «Ценность науки», в качестве эпилога.
Ральф Лейтон
Март 1988 года
Часть 1
Необычайно любознательная личность
Создание ученого
У меня есть друг, художник, и порой он принимает такую точку зрения, с которой я не согласен. Он берет цветок и говорит: «Посмотри, как он прекрасен». И тут же добавляет: «Я, будучи художником, способен видеть красоту цветка. Но ты, будучи ученым, разбираешь его на части, и он становится скучным». Я думаю, что он немного ненормальный.
Во-первых, красота, которую видит он, доступна другим людям – в том числе и мне, в чем я уверен. Несмотря на то, что я, быть может, не так утончен в эстетическом плане, как он, я все же могу оценить красоту цветка. Но в то же время я вижу в цветке гораздо больше него. Я могу представить клетки внутри этого цветка, которые тоже обладают красотой. Красота существует не только в масштабе одного сантиметра, но и в гораздо более малых масштабах.
Существуют сложные действия клеток и другие процессы. Интересен тот факт, что цвета цветка развились в процессе эволюции, чтобы привлекать насекомых для его опыления; это означает, что насекомые способны видеть цвета. Отсюда возникает новый вопрос: существует ли эстетическое чувство, которым обладаем мы, и в более низких формах жизни? Знание науки порождает множество интересных вопросов, так что оно только увеличивает восторг, тайну и благоговение, которое мы испытываем при виде цветка. Только увеличивает. Я не понимаю, каким образом оно может уменьшать.
Я всегда был очень односторонним, меня интересовала только наука, и, когда я был моложе, я сосредоточивал на ней почти все свои усилия. В те дни у меня не было ни времени, ни особого терпения, чтобы изучать то, что называется гуманитарными науками. И даже при том, что в университете для получения диплома нужно было прослушать несколько гуманитарных курсов, я изо всех сил старался их избежать. Лишь много лет спустя, когда я стал старше и немного расслабился, я распространил свое внимание на что-то отличное от науки. Я научился рисовать, начал почитывать книги, но я по-прежнему остаюсь весьма односторонним человеком и многого не знаю. У меня весьма ограниченный интеллект, и я использую его в определенном направлении.
Еще до моего рождения мой отец сказал маме: «Если родится мальчик, то он станет ученым»[2]2
Младшая сестра Ричарда, Джоан, имеет степень доктора философии по физике, несмотря на это предубеждение, что только мальчикам суждено быть учеными.
[Закрыть]. Когда я был всего лишь малышом, которому приходилось сидеть на высоком стуле, чтобы доставать до стола, мой отец принес домой много маленьких кафельных плиток – которые были отбракованы – разных цветов. Мы играли с ними: отец ставил их на мой стул вертикально, как домино, я толкал колонну с одного конца, и все плитки складывались.
Прошло совсем немного времени, и я уже помогал ставить их. Совсем скоро мы начали ставить их более сложным образом: две белых плитки и одну голубую и т.д. Когда моя мама увидела это, она сказала: «Оставь бедного ребенка в покое. Если он хочет поставить голубую плитку, пусть ставит».
Но отец сказал: «Нет, я хочу показать ему, что такое узоры, и насколько они интересны. Это что-то вроде элементарной математики». Таким образом, он очень рано начал рассказывать мне о мире и о том, как он интересен.
У нас дома была «Британская энциклопедия». Когда я был маленьким, отец обычно сажал меня на колени и читал мне статьи из этой энциклопедии. Мы читали, скажем, о динозаврах. Книга рассказывала о тиранозавре рексе и утверждала что-то вроде: «Этот динозавр двадцать пять футов в высоту, а ширина его головы – шесть футов».
Тут мой папа переставал читать и говорил: «Давай-ка посмотрим, что это значит. Это значит, что если бы он оказался на нашем дворе, то смог бы засунуть голову в это окно». (Мы были на втором этаже.) «Но его голова была бы слишком широкой, чтобы пролезть в окно». Все, что он мне читал, он старался перевести на язык реальности.
Я испытывал настоящий восторг и жуткий интерес, когда думал, что существовали животные такой величины, и что все они вымерли, причем никто не знает почему. Вследствие этого я не боялся, что одно из них залезет в мое окно. Однако от своего отца я научился переводить: во всем, что я читаю, я стараюсь найти истинный смысл, понять, о чем же, в действительности, идет речь.
Мы часто ездили в Кэтскилл маунтинз, куда нью-йоркцы обычно отправляются летом. В течение недели отцы работают в Нью-Йорке и приезжают только на выходные. По выходным отец водил меня на прогулку в лес и рассказывал множество интересных вещей, которые там происходят. Когда это увидели другие мамы, они подумали, что будет замечательно, если все папы будут также водить детей на прогулку. Они попытались поработать над своими мужьями, но поначалу у них ничего не вышло. Потом они захотели, чтобы мой отец взял и других детей, но он не захотел, потому что у нас с ним были особые отношения. В конце концов, в следующие выходные всем отцам пришлось вывести своих детей на прогулку.
В следующий понедельник, когда отцы уехали на работу, мы, дети, играли во дворе. И один паренек мне говорит: «Видишь вон ту птицу? Какая это птица?»
Я сказал: «Не имею ни малейшего понятия о том, какая это птица».
Он говорит: «Это коричневошейный дрозд. Твой отец ничему тебя не учит!»
Но все было как раз наоборот. Он уже научил меня: «Видишь ту птицу? – говорит он. – Это певчая птица Спенсера». (Я знал, что настоящего названия он не знает.) «Ну так вот, по-итальянски это Чутто Лапиттида. По-португальски: Бом да Пейда. По-китайски: Чунь-лонь-та, а по-японски: Катано Текеда. Ты можешь знать название этой птицы на всех языках мира, но, когда ты закончишь перечислять эти названия, ты ничего не будешь знать о самой птице. Ты будешь знать лишь о людях, которые живут в разных местах, и о том, как они ее называют. Поэтому давай посмотрим на эту птицу и на то, что она делает – вот что имеет значение». (Я очень рано усвоил разницу между тем, чтобы знать название чего-то, и знать это что-то.)
Он сказал: «Например, взгляни, птица постоянно копается в своих перышках. Видишь, она ходит и копается в перышках?»
– Да.
Он говорит: «Как ты думаешь, почему птицы копаются в своих перьях?».
Я сказал: «Ну, может быть, во время полета их перья пачкаются, поэтому они копошатся в них, чтобы привести их в порядок».
– Хорошо, – говорит он. – Если бы это было так, то они должны были бы долго копошиться в своих перьях сразу же после того, как полетают. А после того, как они какое-то время провели на земле, они уже не стали бы столько копаться в своих перьях – понимаешь, о чем я?
– Угу.
Он говорит: «Давай посмотрим, копошатся ли они в своих перьях больше сразу после того, как сядут на землю».
Увидеть это было несложно: между птицами, которые бродили по земле в течение некоторого времени, и теми, которые только что приземлились, особой разницы не было. Тогда я сказал: «Я сдаюсь. Почему птица копается в своих перьях?»
– Потому что ее беспокоят вши, – говорит он. – Вши питаются белковыми слоями, которые сходят с ее перьев.
Он продолжил: «На лапках каждой вши есть воск, которым питаются маленькие клещи. Они не в состоянии идеально переваривать это вещество, поэтому выделяют материал, подобный сахару, в котором растут бактерии».
Наконец, он говорит: «Итак, ты видишь, что везде, где есть источник пищи, существует какая-то форма жизни, которая его находит».
Теперь я знаю, что, быть может, это не были вши, что, быть может, на их ножках не живут клещи. Эта история, возможно, была неправильна в деталях, но то, что он мне рассказывал, было правильно в принципе.
В другой раз, когда я был старше, он сорвал с дерева лист. На этом листе был порок, то, на что мы обычно не обращаем особого внимания. Лист был поврежден: на нем была маленькая коричневая линия, в форме буквы «С», которая начиналась где-то в середине листа и завершалась завитком где-то у края.
– Посмотри на эту коричневую линию, – говорит отец. – Она узкая в начале и расширяется вблизи края листа. Что это? Это муха: голубая муха с желтыми глазами и зелеными крылышками прилетела и отложила на этом листе яйцо. Потом, когда из яйца выводится личинка (что-то вроде гусеницы), она в течение всей своей жизни ест этот лист – именно здесь она получает свою пищу. Съедая лист, она оставляет за собой этот коричневый след. По мере роста личинки след становится шире, пока личинка не вырастет до своего полного размера в конце листа, где она превращается в муху – голубую муху с желтыми глазами и зелеными крылышками, – которая улетает и откладывает яйцо на другой лист.
И опять я знал, что детали этой истории нельзя назвать в точности правильными – это мог быть и жук, – но сама идея, которую он пытался мне объяснить, представляла собой занятную роль жизни: вся жизнь – лишь размножение. Неважно, насколько сложен этот процесс, главная задача – вновь повторить его!
Не имея опыта общения со многими отцами, я не осознавал, насколько замечателен мой. Как он узнал глубокие принципы науки, как он научился ее любить? Как узнал, что за ней стоит и почему ей стоит заниматься? Я никогда не спрашивал его об этом, потому что я просто считал, что все эти вещи известны любому отцу.
Мой отец учил меня обращать внимание на все. Однажды я играл с «железной дорогой»: маленьким вагончиком, который ездил по рельсам. В вагончике был шарик, и, потянув вагончик, я заметил одну особенность движения шарика. Я пошел к отцу и сказал: «Слушай, пап, я кое-что заметил. Когда я тяну вагончик, шарик катится к его задней стенке. Когда же я вдруг резко останавливаюсь, то шарик катится к передней стенке вагона. Почему это происходит?»
– Этого не знает никто, – сказал он. – Основной принцип состоит в том, что движущееся тело стремится продолжать свое движение, а покоящееся тело стремится оставаться в покое, если только его сильно не толкнуть. Эта тенденция называется «инерцией», но никто не знает, почему она имеет место.
Итак, вот это глубокое понимание. Он не просто сказал мне название этого явления.
Затем он продолжил: «Если ты посмотришь со стороны, то увидишь, что по отношению к шарику ты тянешь заднюю стенку вагона, шарик же остается неподвижным. Но на самом деле, из-за трения он начинает двигаться вперед по отношению к земле. Но назад он не движется».
Я побежал к маленькому вагончику, снова положил в него шарик и потянул вагончик. Глядя сбоку, я увидел, что отец действительно был прав. Шарик немного двигался вперед относительно дорожки сбоку.
Вот так мой отец обучал меня, используя такие примеры и разговоры: никакого давления – просто приятные, интересные разговоры. Все это обеспечило для меня мотивацию на всю оставшуюся жизнь. Именно благодаря этому, мне интересны все науки. (Так уж случилось, что у меня лучше всего получается заниматься физикой.)
Я, так сказать, попался, подобно человеку, которому дали что-то удивительное, когда он был ребенком, и он постоянно ищет это снова. Я все время ищу, как ребенок, чудеса, которые, я знаю, что найду – и нахожу: быть может, не каждый раз, но время от времени.
Примерно в то же время мой двоюродный брат, который был тремя годами старше, учился в средней школе. Ему с трудом давалась алгебра, поэтому к нему приходил домашний учитель. Мне разрешали сидеть в уголке, когда учитель пытался научить моего брата алгебре. Я слышал, как он рассказывает об x.
Я сказал брату: «Что ты пытаешься сделать?»
– Я пытаюсь найти, чему равен x в уравнении 2x + 7 = 15. Я говорю: «Ты имеешь в виду 4».
– Да, но ты применил арифметику. А его нужно найти с помощью алгебры.
К счастью, я изучил алгебру, не ходя в школу. На чердаке я нашел старый учебник алгебры, принадлежавший моей тете, и понял, что вся идея состоит в том, чтобы найти x – неважно как. Я не видел разницы в том, чтобы найти его «с помощью арифметики» или «с помощью алгебры». «Сделать это с помощью алгебры» означало взять набор правил, которые, если им слепо следовать, могут дать ответ: «вычти 7 из обеих частей уравнения; если у тебя есть множитель, то раздели на него обе части», – и так далее – ряд шагов, с помощью которых можно получить ответ, если не понимаешь, что пытаешься сделать. Правила изобрели, чтобы все дети, которые должны изучать алгебру, могли сдать экзамен. И именно поэтому моему брату никак не давалась алгебра.
В нашей местной библиотеке была серия математических книг, которая начиналась с книги «Арифметика для практика». Потом шла «Алгебра для практика» и уж потом – «Тригонометрия для практика». (По этой книге я изучил тригонометрию, но вскоре забыл ее, потому что не слишком хорошо понял.) Когда мне было около тринадцати лет, библиотека должна была получить «Исчисление для практика». К тому времени из энциклопедии я узнал, что исчисление – это важный и интересный предмет, так что я должен был его изучить.
Когда я наконец увидел книгу по исчислению в библиотеке, то очень разволновался. Я пошел к библиотекарю, чтобы оформить получение книги, но она посмотрела на меня и сказала: «Ты же совсем маленький. Зачем тебе эта книга?»
Это был один из немногих случаев в моей жизни, когда я почувствовал себя неуютно и солгал. Я сказал, что беру книгу для отца.
Я принес книгу домой и начал изучать по ней исчисление. Я счел книгу весьма простой и незамысловатой. Мой отец начал ее читать, но счел запутанной и непонятной. Тогда я попытался объяснить ему исчисление. Я не знал, что он настолько ограничен, и это несколько обеспокоило меня. Тогда я впервые осознал, что, в некотором смысле, я знаю больше него.
Кроме физики отец учил меня и многому другому, например, пренебрегать некоторыми вещами, не знаю, правильно это или нет. К примеру, когда я был совсем маленьким, он садил меня на колени и показывал ротогравюры в «Нью-Йорк Таймс» – это напечатанные фотографии, которые тогда только-только появились в газетах.
Однажды мы смотрели на фотографию папы римского, которому кланялись все остальные люди. Отец сказал: «Взгляни-ка на этих людей. Вот стоит один человек, а все остальные ему кланяются. В чем же разница между ними? Этот римский папа», – он, кстати, терпеть не мог священников. Он сказал: «Вся разница – в шапке, которая на нем надета». (Если это был генерал, то вся разница состояла в эполетах. Все дело всегда было в костюме, в униформе, в положении.) «Но, – сказал он, – у этого человека те же самые проблемы, что и у любого другого: он обедает; ходит в ванную. Он просто человек». (Кстати, мой папа изготовлял униформы, поэтому он знал разницу между человеком в униформе и человеком без нее – для него это был один и тот же человек.)
Я думаю, он был мной доволен. Хотя однажды, когда я вернулся домой из МТИ (я пробыл там несколько лет), он сказал мне: «Теперь, когда ты стал таким образованным в отношении всех этих вещей, я хочу задать тебе один вопрос, который у меня всегда был и на который я никак не могу найти ответ».
Я спросил его, что это за вопрос.
Он сказал: «Я понимаю, что при переходе атома из одного состояния в другое, он испускает световую частицу, которая называется фотоном».
– Правильно, – сказал я.
Он говорит: «Этот фотон находится в атоме заранее?»
– Нет, заранее этого фотона там нет.
– Что ж, – говорит он, – откуда же он тогда появляется? Каким образом он выходит?
Я попытался объяснить ему это – что количество фотонов не постоянно; что они просто создаются при движении электрона, – но я не слишком хорошо сумел это объяснить. Я сказал: «Это подобно звуку, который я сейчас создаю: раньше во мне его не было». (Совсем другой случай произошел с моим сынишкой, который как-то раз, когда был совсем маленьким, заявил, что больше не может произнести какое-то слово – им оказалось слово «кошка», – потому что в его «словарном мешке» это слово закончилось. Не существует словарного мешка, который заставляет вас расходовать слова по мере того, как они из него появляются; в том же смысле нет и «фотонного мешка» в атоме.)
В этом отношении он не был мной доволен. Я никогда не смог объяснить ему ничего из того, что он не понимал. Так что ему не повезло: он посылал меня во все эти университеты, чтобы узнать все это, но так и не узнал.
Несмотря на то, что моя мама ничего не знала о науке, она тоже оказала на меня очень сильное влияние. Например, у нее было прекрасное чувство юмора, и от нее я узнал, что самые высокие формы понимания, которых мы можем достичь, – это смех и сострадание.
«Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие?»
Когда я был совсем юным парнишкой лет тринадцати, я каким-то образом затесался в группу ребят, которые были немного старше и опытнее меня. Они знали много разных девочек и гуляли с ними – они часто ходили на пляж.
Однажды, когда мы были на пляже, большинство парней пошли вместе с девочками на какую-то пристань. Мне была несколько небезразлична одна девочка, и я подумал вслух: «Да, я думаю, что сводил бы Барбару в кино…»
Больше мне ничего не нужно было говорить, парень, который сидел рядом со мной, пришел в восторг. Он помчался на пристань и нашел ее там. Он всю дорогу толкал ее обратно и орал: «Фейнман что-то хочет сказать тебе, Барбара!» Я очень сильно смутился из-за этого.
Очень скоро уже все парни стояли вокруг меня и говорили: «Ну же, скажи это, Фейнман!» Так я пригласил ее в кино. Это было мое первое свидание.
Я пошел домой и рассказал об этом маме. Она дала мне много разных советов, как делать это и как то. Например, если мы поедем на автобусе, то я должен выйти первым и подать Барбаре руку. Или если мы пойдем по улице, то мне нужно идти по внешней стороне тротуара. Она даже рассказала мне, что нужно говорить. Она передавала мне по наследству культурную традицию: женщины учат своих сыновей хорошо обращаться со следующим поколением женщин.
После ужина я привожу себя в порядок и отправляюсь домой к Барбаре. Я очень нервничаю. Она, естественно, не готова (так всегда бывает), поэтому ее семья усаживает меня в гостиной, где они ужинают со своими друзьями – людей много. Они говорят что-то вроде: «Разве он не милашка!?» – и всякую ерунду в том же духе. Я чувствовал себя далеко не милашкой. Все это было просто ужасно!
Я помню каждую деталь того свидания. Когда мы шли от ее дома к новому небольшому кинотеатру, мы разговаривали об игре на пианино. Я рассказал ей, что когда я был младше, меня в течение какого-то времени заставляли учиться игре на пианино, но через шесть месяцев обучения я все еще играл «Танец маргариток» («Dance of the Daisies») и уже не мог выносить этого. Видите ли, я очень переживал из-за того, что я – неженка, и торчать за пианино неделями, играя этот «Танец маргариток», было уже слишком, поэтому я бросил. Я настолько беспокоился о том, чтобы меня не сочли неженкой, что очень переживал даже тогда, когда мама посылала меня на рынок купить какую-нибудь закуску, которая называлась пирожки с перцем или лакомые тосты.
Мы посмотрели фильм, и я проводил ее домой. Я сделал ей комплимент насчет ее хорошеньких перчаток, а потом пожелал доброй ночи у двери ее дома.
Барбара мне говорит: «Спасибо за прекрасный вечер».
– Да, пожалуйста! – ответил я, чувствуя себя на все сто.
Когда я отправился на свидание в следующий раз – с другой девочкой, – я ей сказал: «Доброй ночи», – на что она мне ответила: «Спасибо за прекрасный вечер».
Я уже не чувствовал себя на все сто.
Когда я пожелал доброй ночи третьей девочке, с которой у меня было свидание, она уже открыла рот, но я ее перебил: «Спасибо за прекрасный вечер!»
Она говорит: «Спасибо – э – о! – Да – э, я тоже прекрасно провела вечер, спасибо!»
Однажды я был на вечеринке со своей пляжной компанией, и в кухне один из старших парней с помощью своей подруги учил нас целоваться: «Губы должны быть вот так, под прямым углом, чтобы носы не сталкивались», – и т.д. Тогда я иду в гостиную и нахожу там девочку. Я сижу с ней на диване, обнимая ее одной рукой и практикуя это новое искусство, когда внезапно все приходят в дикий восторг: «Арлин идет! Арлин идет!» Я понятия не имею, кто такая Арлин.
Потом кто-то говорит: «Она здесь! Она здесь!» – все бросают свои дела и вскакивают, чтобы увидеть эту королеву. Арлин была очень хороша собой, и я понимал, почему все так восхищены – восхищение было заслуженным, – но я не верил в это столь антидемократическое поведение: бросать то, чем ты занимаешься, когда входит королева.
Итак, пока все бегут посмотреть на Арлин, я по-прежнему сижу на диване со своей девочкой.
(Позже, когда мы познакомились поближе, Арлин рассказала мне, что она помнит ту вечеринку со всеми этими милыми людьми – за исключением одного парня, который сидел в углу дивана и целовался с девчонкой. Чего она не знала, так это, что две минуты назад тем же самым занимались и все остальные!)
Впервые я заговорил с Арлин на танцах. Она была очень популярна, так что все стремились вклиниться неподалеку и потанцевать с ней. Я помню, что мне тоже очень хотелось с ней потанцевать, и я все время пытался решить, когда же мне втиснуться. С этим у меня всегда были проблемы: во-первых, когда она с кем-то танцует на противоположной стороне зала, сделать это слишком сложно – поэтому дожидаешься, пока они не подойдут ближе. Потом, когда она около тебя, ты думаешь: «Нет, эта не та музыка, под которую я хорошо танцую». Поэтому ждешь другую музыку. Когда музыка меняется на что-то, что тебе подходит, ты только делаешь шаг вперед – по крайней мере, тебе кажется, что ты этот шаг делаешь, – когда какой-нибудь другой парень вклинивается прямо перед тобой. Так что теперь тебе приходится ждать несколько минут, потому что невежливо втискиваться сразу после кого-то другого. Когда несколько минут проходят, они уже опять танцуют на противоположной стороне зала, или музыка опять поменялась, или что-нибудь еще!
После некоторого времени, потраченного впустую, я наконец издаю некое бормотание по поводу того, что хочу потанцевать с Арлин. Один из парней, который также болтается без дела, слышит это и громко заявляет остальным: «Эй, парни, послушайте-ка: Фейнман хочет потанцевать с Арлин!» Вскоре один из них уже танцует с ней, и они приближаются к нам. Все остальные выталкивают меня вперед, и я наконец-то «вклиниваюсь». Состояние, в котором я тогда находился, можно оценить по первым словам, которые я произнес и которые составили честный вопрос: «Ну и как тебе нравится быть такой популярной?» Мы потанцевали всего несколько минут, после чего втиснулся другой парень.
Мы с друзьями посещали уроки танцев, хотя никто из нас в этом не признался бы. В те времена Депрессии подруга моей мамы пыталась заработать на жизнь, обучая по вечерам танцам в танцевальной студии на втором этаже. У этого зала была задняя дверь, и она устроила так, чтобы молодые парни могли войти через нее незамеченными.
Время от времени эта дама устраивала в своей студии светские танцы. У меня не хватило духа проверить свои наблюдения, но мне казалось, что девчонкам приходилось куда тяжелее, чем парням. В те дни девочки не могли попросить вклиниться и потанцевать с мальчиками; это было «неприлично». Поэтому не слишком хорошенькие девочки часами сидели в сторонке и скучали.
Я подумал: «Парням проще: они могут вклиниться, когда ни пожелают». Но проще это не было. Ты «можешь», но у тебя не хватает мужества, резона или чего бы там ни было, что нужно, чтобы расслабиться и получать от танцев удовольствие. Вместо этого, ты просто в узел завязываешься, переживая, как бы вклиниться в толпу или пригласить девочку потанцевать с тобой.
Например, когда видишь девочку, которая не танцует и с которой тебе хотелось бы потанцевать, то думаешь: «Класс! Теперь у меня, по крайней мере, есть шанс!» Но обычно все оказывалось не так-то просто: «Нет, спасибо, я устала. Думаю, что я отдохну, пока играет эта музыка». Итак, ты уходишь, потерпев своего рода поражение – но оно не окончательное, потому что, быть может, она действительно устала, – и тут ты поворачиваешься, и к ней подходит другой парень, и она идет с ним танцевать! Может быть, этот парень – ее друг, и она знала, что он вот-вот подойдет, или, возможно, ей не понравился твой вид, или что-нибудь еще. Все всегда было очень сложно, несмотря на то, что дело-то было пустяковое.
Однажды я решил пригласить Арлин на одну из таких вечеринок. Это было наше первое свидание. Там были и мои лучшие друзья; их пригласила моя мама, чтобы увеличить число клиентов танцевальной студии своей подруги. Эти ребята были моими сверстниками, мы вместе учились в школе. Гарольд Гаст и Дэвид Лефф были склонны к литературе, а Роберт Стэплер – к науке. Мы проводили вместе много времени после школы, ходили гулять и беседовали о всевозможных вещах.
Как бы то ни было, мои лучшие друзья пришли на эти танцы, и, как только они увидели меня с Арлин, они позвали меня в туалет и сказали: «Слушай, Фейнман, мы хотим, чтобы ты понял, что мы понимаем, что Арлин сегодня – твоя девушка, поэтому мы не будем вас беспокоить. Она для нас недосягаема», – и т.д. Но прошло совсем немного времени, и эти самые парни начали втискиваться и соперничать со мной! Тогда я усвоил смысл высказывания Шекспира: «Считаю я, что много говоришь ты».
Нужно понимать, каким я был тогда. Я был очень робким, всегда чувствовал себя неуютно, потому что все остальные были сильнее меня, и постоянно боялся показаться неженкой. Все остальные играли в бейсбол; все остальные занимались каким-нибудь спортом. Если где-то играли с мячом, и мяч выкатывался на дорогу, я просто цепенел от ужаса, потому что мне, возможно, придется поднять его и бросить назад – но если я делал это, то мяч улетал примерно в радиане от нужного направления и не достигал и половины нужного расстояния! И тогда все смеялись. Это было ужасно, и я очень страдал из-за этого.
Однажды меня пригласили на вечеринку в дом Арлин. Там были все, потому что Арлин была самой популярной девушкой в округе: она была номером один, самой милой девушкой и нравилась абсолютно всем. Ну так вот, я сижу в большом кресле, не зная, чем заняться, когда ко мне подходит Арлин и присаживается на ручку кресла, чтобы поболтать со мной. Вот так во мне зародилось чувство: «Бог мой! Мир прекрасен! Кто-то, кто мне нравится, обратил на меня внимание!»
В те дни, в Фар-Рокуэй, в храме был молодежный центр для еврейских детей. Он представлял собой огромный клуб с множеством разнообразных занятий. Там была группа писателей, которые сочиняли истории и читали их друг другу; была театральная труппа, которая играла пьесы; была научная группа и группа ребят, которые занимались искусством. Я не интересовался ничем, кроме науки, но Арлин посещала группу, занимавшуюся искусством, поэтому я тоже к ней присоединился. Я изо всех сил старался справиться с искусством – учился делать гипсовые слепки с лица и т.д. (что впоследствии пригодилось мне в жизни) – только так я мог быть в одной группе с Арлин.
Но у Арлин был друг, которого звали Жером и который тоже ходил в эту группу, так что шансов у меня не было. Мне оставалось лишь слоняться на заднем плане.
Однажды, когда меня в центре не было, кто-то выдвинул мою кандидатуру на пост президента молодежного центра. Старшие начали нервничать, потому что к тому времени я был признанным атеистом.








