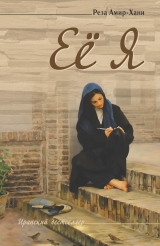
Текст книги "Её я"
Автор книги: Реза Амир-Хани
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Вновь она берет чашку и подносит ее ко рту. Губы она сжимает, точно бутон. И веки сжимает. Словно она целуется с чашкой. А потом смотрит на меня. И я раздавлен и покорен ею. Дыхание мое перехватило. Словно каменная гора давит грудь. И для каждого вдоха я вынужден приподнимать эту гору. Я едва-едва дышу. Сердце мое стиснуто, и стискивается все сильнее. Тянется ожидание, дыхание перехватило, потом удары сердца: тук-тук. И опять сердце сдавлено. И сдавливается сильнее, ожидание, дыхание перехвачено, и удары: тук-тук. Такое ощущение, точно кто-то кого-то убивает. Она безмятежно улыбнулась. Потом рассмеялась, игриво, как шаловливая девчонка. И затопала ногами, и сказала:
– А я хочу кофе Дарьяни!
– А мне кофе по-турецки.
Мы поменялись чашками. И вот она поднимает мою чашку и подносит ее к губам. Так же, как прежде. И я подношу к губам ее чашку. И вдыхаю ее запах. Чашка пахнет жасмином. Словно только что на кромке чашки расцвели жасминовые цветы. И я хочу отпить, но не могу. Не пойму почему. А Махтаб выпивает кофе залпом и без всякой важности. А потом вздыхает. За соседним столиком пожилой мужчина тоже вздыхает. Махтаб смеется:
– Теперь настало время для чего?
– Не знаю.
– Для гадания на кофейной гуще! В кофейне месье Пернье, в исполнении великого мастера!
Она внимательно рассматривает блюдце, убеждаясь, что оно чистое. Затем переворачивает на него чашку. Потом поднимает чашку и говорит:
– Загадай желание и сунь палец. – И опять звонко засмеялась. – Впрочем, тебе не обязательно загадывать желание. Я сама его знаю. А кроме того, пальцы у тебя грязные. Наверняка опять обнимался с опорой Эйфелевой башни! Жаль, нет Марьям, а то она дала бы тебе платок вытереть пальцы…
Мы захохатали. Она вытерла руки бумажной салфеткой, потом сунула свой указательный палец в чашку.
– Вообще-то надо совать палец в конце гадания… Но великий мастер не разбирает, где конец, где начало.
Она перевернула вторую чашку и начала внимательно изучать кофейные узоры. Мы вместе их рассматривали. Шарф, которым была покрыта ее голова, падал ей на плечо, окутывал ее шею и лежал, словно шаль, на ее кремового цвета манто. Она что-то бормотала – я не мог разобрать, что именно. Потом попросила меня посмотреть внутрь чашки. Кофейные извивы разбегались там, словно линии на географической карте. Я поднял глаза. И Махтаб посмотрела прямо на меня. Потом она отобрала у меня чашку и, не заглядывая в нее, а все так же глядя мне в глаза, начала толковать увиденное на дне:
– Эту чашку выпил человек, которого очень любят… Нет! Два человека… А может, даже три – позже они встретятся… Эти два человека… Нет… Все-таки один человек… Эти двое – как один человек! Может быть, даже еще ближе… Почему же они так далеки друг от друга? Хотя так близки… А вот его желание. Или их желание. Не знаю… Впрочем, они сами знают. Прочесть две строки по-арабски и дать толкование – какая же это трудная задача, не так ли, господин Али Фаттах-хан? Я не знаю, почему ты такой, но… Но тем не менее…
И она вздохнула. Пожилой мужчина за соседним столиком тоже вздохнул. Она протянула мне чашку, чтобы я взял ее. И я почувствовал своими пальцами жар ее руки. Но я отдернул ладонь, чтобы не коснуться ее. Чашка упала на стол, но не разбилась. Я засмеялся и посмотрел на Махтаб. Но она глядела на меня серьезно.
– Если тебя тревожит репутация, то здесь тебя никто не знает. Так почему…
– …Не знаю.
– Ты все вспоминаешь Мухаммада-сводника?
– Не знаю.
– Мама все еще против?
– Да помилует ее Аллах!
– Кого, чего ты стесняешься? Мы ведь одни, никто нас не видит…
– А дервиш Мустафа?
Она с горечью рассмеялась и, сняв картину со стула, поставила ее на пол. И дервиш Мустафа оттуда, снизу… да нет, с небес – сказал мне что-то. Эти слова дервиша с зелеными волосами и в зеленой одежде не были обычными словами, и я не могу их повторить. Скорее это было нечто вроде запаха жасмина или зелени дерева. Это невозможно описать.
Я опустил голову и стал смотреть на картину. Один кусочек бороды дервиша не был прописан: вокруг лежали мазки, а в этом месте не было закрашено. Махтаб улыбнулась:
– Видишь, Али? В том месте «ихмаль».
Я с удивлением переспросил:
– «Ихмаль»? Что это? По-немецки?
Она звонко рассмеялась:
– Нет, это одно из словечек Карима. Когда я только начала рисовать, он как-то выразился: «Этот рисунок – ихмаль…»
Я улыбнулся. Смотрел на нее и только улыбался, смеяться не мог. Как выражался Карим, я был «словно пыльным мешком ударенный». И вдруг у меня на глаза навернулись слезы. Я уронил голову на стол и заплакал. Сам не понимал, почему плачу, но вдруг вспомнился Карим… Сквозь слезы я сказал:
– Светлая ему память… Где ты сейчас, Карим?.. Ведь вместе мальчишками были… Вместе из школы возвращались… Тот же дервиш Мустафа говорил Кариму: «О юноша, того, кто не учился грамоте… оставь его». Где сейчас Карим? Знаешь что… Пока Карим был жив, я на тебя даже посмотреть не мог… И знаешь что… Когда его убили…
Но рыдания не позволили мне продолжать. Я опять уронил голову на стол. И Махтаб заплакала. Плакала ли она по Кариму или по другому поводу – не знаю, но факт тот, что мы рыдали. Ее теплое дыхание касалось моего лица. Словно она специально дышала мне в лицо. От нее пахло жасмином. И мы рыдали вместе. Смотрели друг на друга и рыдали. Пожилой мужчина за соседним столиком был в полном недоумении. Махтаб наклонилась над столом, и теперь я видел только ее одежду – эту смесь тканей кремового и кофейного цветов. Словно молоко и мед. И мне хотелось ощутить этот вкус, вкус густого меда и молока…
Знакомый голос привел меня в чувство:
– Что случилось? Осталось попросить месье Пернье свет погасить, чтобы вы могли еще бить себя в грудь, – и будет траур Ашуры![20]20
Траур Ашуры – траурные шиитские церемонии, когда бьют себя в грудь, оплакивая гибель имама Хусейна, проходят в скудном освещении, при частично потушенном свете.
[Закрыть]
Это была Марьям. Она опоздала на час: это за ней водилось – опаздывать. Я вытер слезы, Махтаб сделала то же.
– Мы плакали по Кариму, – объяснил я. Хотя сам не вполне верил тому, что говорю.
Но Махтаб, улыбнувшись, подтвердила:
– Плакали по Кариму.
Марьям указала на пожилых людей за соседним столиком:
– А вот таким будет ваш конец, посмотрите! – Взглянув на мое и Махтаб мокрое лицо, добавила: – Я никогда не видела такого плача, – затем произнесла фразу, которую позже много раз мне повторяла: – Седина в голову – бес в ребро…
…Итак, я говорил о плаче или я говорил о Кариме? И о том и о другом. Что такое 1954 год? Это был солнечный год – а было их несколько…
Вот еще один солнечный год… Сорок первый или сорок второй? В тот год я иногда отпускал водителя и сам садился за руль. Черный «Шевроле», который купил дед, очень мне нравился. И я совсем не уставал, когда вел эту машину. Она восхищала меня больше других машин, которые были до нее. И цвет мне был по душе. У меня был такой же черный блестящий костюм, под который я любил надевать белую рубашку с открытым воротом. Привлекательность открытого ворота еще и в том, что непонятно, есть на тебе галстук или нет. И вот я еду на черном «Шевроле», и мне так нравится, что на мне костюм того же цвета…
У меня была назначена встреча с Каримом. Я уже оставил позади бедные кварталы и приближался к Шамирану[21]21
Шамиран – район на севере Тегерана.
[Закрыть]. Ехал по шоссе, поднимающемуся в горы. Догонял и оставлял позади конные экипажи и повозки. Других машин почти не было – может, три-четыре на всем пути. А вот и Карим стоит – в белой рубашке, тоже с открытым воротом и с короткими рукавами. И в белых брюках, широких таких, словно карманы набиты чем-то. Увидев меня, махнул рукой. Я остановил «Шевроле», он открыл дверь, сел, и мы обнялись, приветствуя друг друга.
– Бессовестный! Надел костюм – официально, как сенатор. Сказал бы – мы бы тоже пиджак накинули.
Я оглядел Карима. Волосы на груди выбивались из открытого ворота его рубашки.
– А ты, можно подумать, все по делам да по сельхозполям. В рубахе с открытым воротом… Аллах да подаст вам богатый урожай?
– Не остри. Земледелец – он в небо смотрит. А в небе что? Солнце. Солнце как по-арабски будет? «Шамс»!
Я рассмеялся.
– Ты, смотрю, ловкий стал, как тот кот, который, как его ни подкинь, все на четыре лапы встанет.
Я остановил машину на площади Таджриш. Предложил было Кариму поехать к мавзолею[22]22
Мавзолеи (мазар) над гробницами шиитских имамов и их потомков (так называемых имам-задэ), а также других святых – распространенный в Иране тип культовых зданий.
[Закрыть] Салиха, но он предпочел Дарбанд. Когда я замедлил ход машины, сзади вдруг раздались гудки. Какой-то джип с открытым верхом сидел у нас на хвосте. Я прибавил скорость, но и он не отставал. Карим опустил стекло и, высунувшись, заорал:
– Что случилось? Опаздываешь на свадьбу своей мамы?
Но водитель джипа не только не перестал сигналить, но еще и фарами начал моргать.
– Пропусти его, Али, – сказал Карим. – Он отца родного зарежет, только бы к тете на похороны успеть.
Прижавшись к обочине, я дал понять водителю джипа, что путь свободен. Но он, обогнав нас, затормозил и заблокировал нам путь. Вышедший из джипа человек был таким толстым, что машина, освободившись от водителя, заметно приподнялась на подвеске. Я вгляделся в него: сам жирный, а подбородок узкий, подстриженная бородка… Это был Каджар. Одет он был в сорочку, похожую на нижнее белье. Погода вообще-то была прохладная, но ему, как видно, было жарко.
– Пьян, окаянный! – заметил Карим.
Я оглянулся на друга и кивнул. Каджар, покачиваясь, подошел ко мне и полез целоваться. Я отшатнулся – так воняло из его рта. Тогда он обошел машину и, согнувшись, стал целовать руку Карима. Меня смех от этого разобрал. Каджар заговорил:
– Ваши высочества! Мой безумный отец неделю назад… Нет, уже больше недели, приказал вам долго жить! Вам и вам, Али-ага… Потом я купил этот джип… Отличная машина, а? – Он указал на мой «Шевроле». – Видишь, Али, и я машину купил! Конечно, «Шевроле» дороже джипа… Но и я купил дорого, о-очень дорого. О-очень много сверху дал. Но ведь мы – Каджары! Когда господин Кавам пришел к власти, мы осмелели… За эту машину я гора-аздо, гораздо больше ее стоимости дал. У нее и крыша есть, только сейчас снята… А на зиму… Сейчас-то мне жарко. Задыхаюсь прямо. Ждали, пока неделя пройдет со смерти, потом вот взял ее. За десять тысяч туманов. Слишком много для нее, а?
Он указал на пассажирское сиденье джипа, на котором восседала женщина. Декольтированное платье открывало ее плечи. С таким лицом, как у нее, она по городу и десяти шагов бы не прошла. Оглянувшись на нас, она улыбнулась и эффектно тряхнула волосами. Губы ее были накрашены алой помадой, а на лице – толстый слой румян. Она снова улыбнулась нам. Карим схватил Каджара за воротник:
– Ах ты слон! Этой дамочке с большим накрашенным ртом место на улице красных фонарей! Что она здесь делает?
Каджар неожиданно пришел в себя:
– Нет! Нет, ради Аллаха! Эта красавица не из тех дамочек. Это моя сестра!
И я, и Карим рассмеялись. Женщина в джипе тоже засмеялась – каким-то мужским голосом. И Каджар захохотал, глядя на нас. Он был сильно пьян.
– Говорю, это моя сестра, – сказал он Кариму. – Я ее привез в Шамиран воздухом подышать. Кстати, Карим-хан, как она себя… как ваша сестра, Махтаб-ханум, себя чувствует? Она такая краси-ивая…
Карим посмотрел на Каджара и бесстрастно подошел к нему. Я бросился было к Каджару, но Карим остановил меня. Потом поднес растопыренную пятерню к лицу Каджара и спросил:
– Сколько тут пальцев?
– Пять, пять господин Карим!
Карим поднял руку выше и снова спросил:
– А теперь сколько?
– По-прежнему пять, пять пальцев, господин Карим!
И тут Карим опустил кулак прямо Каджару в ухо. Тот попятился и упал. Карим поднял его на ноги. Опять поднес пятерню к лицу Каджара:
– Еще раз скажи: сколько здесь?
– …Получил я уже, но пять! Сколько вы скажете, столько и будет, пять, господин Карим!
И еще раз Карим ударил Каджара в ухо. Женщина вышла из джипа и схватила меня за плечи. Не знаю почему, но она визгливо смеялась.
– Умоляю вас, не бейте его! Я не могу это видеть! Он виноват, да! Как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке! Он же пьяный совсем.
Карим повернулся и злобно сказал этой женщине:
– Ты язык попридержи, балаболка! Я этого Каджара окаянного так опозорю!
И он с такой силой ударил Каджара, что у того кровь хлынула, вмиг окрасив его сорочку. Потом его вырвало, и он упал на землю. Мы с Каримом вдвоем подняли его, тяжеленного, и бросили в джип. Каджар смотрел теперь на Карима, словно протрезвев. Но речь его стала совсем неразборчивой:
– Квартал кожевников, нет! Квартал Коли, Шамси, и эти… Кожевенный завод…
Женщина платком стерла кровь с его лица, Каджар замолчал, а его спутница обратилась к нам:
– Что вы сделали? Зачем так его избили? Бедная я, кто меня отвезет?
– А ты, наверное, хочешь, чтобы мы тебя отвезли?! Да?! – накинулся на нее Карим. – Напоила, вытрясла, десять тысяч туманов взяла с него! Продолжай в том же духе, тебя любой осел подвезет…
Мы с Каримом сели в «Шевроле» и уехали. Каджар получил по заслугам. В трезвом уме он не осмеливался ничего подобного сказать Кариму, но я чувствовал, что кончится чем-то таким. Уже много лет я этого ожидал. Может быть, именно поэтому я никогда не ухаживал за Махтаб.
* * *
Я, что называется, не ходил по пятам за Махтаб. Она говорила мне, что занимается живописью в студии номер три, я знал, где это, но встречался с ней только по вечерам в кафе месье Пернье. В студию я решил не ходить, и не потому, что боялся помешать ее работе, а просто чувствовал, что так будет неправильно. С моральной точки зрения. И по вечерам я приходил лишь потому, что там присутствовала Марьям. Хотя она всегда чуть опаздывала. По утрам я проводил время в кино или в музеях. Пару раз побывал на фабрике силикатного кирпича – ради этого я вообще-то и приехал в Париж. Силикатный кирпич использовался теперь вместо того, который применяли у нас. До Тегерана он еще не дошел, но в Париже, Берлине, Риме, Мюнхене теперь строили в основном, из него: он был крупнее нашего, легче, белого цвета. Также говорили, что, поскольку в наш кирпич замешивают глинянную почву, рано или поздно это отрицательно скажется на сельском хозяйстве. Ну что здесь можно возразить?!
…Почва Земли, почва Луны… На почвах Луны растут только цветы жасмина… (смотри главу «3. Она»).
…Так о чем я говорил?
Мы вернулись на площадь Таджриш, причем я помню, что ни разу не взглянул в зеркало заднего вида. А Карим посмотрел на меня и спросил:
– А ты чего набычился, как для драки? Все проблемы – наши… К тебе-то какое отношение имеют?
– Я по дружбе, – рассмеявшись, ответил я.
– Час от часу не легче. По дружбе – к кому?!
Тут рассмеялись мы оба. Машину оставили на площади Таджриш и заказали по три порции шашлыков из печенки, сердца и почек. Мясо жарил для нас хозяин заведения по кличке Король потрохов. Приготовив шампуры, он положил их на мангал и раздувал пламя; всего было не то двадцать, не то тридцать шампуров. Потом он стал заворачивать шашлыки в лепешки из хлеба сангяк[23]23
Сангяк – хлеб, который выпекают в специальной печи на раскаленной гальке.
[Закрыть]. Карим не удержался, начал есть хлеб, и я спросил его:
– Ну как, вкусно?
– Еще бы не вкусно, – ответил он со смехом.
Я этого не понял. Расплатился с Королем потрохов – дал ему гораздо больше, чем с меня причиталось. И сказал ему, чтобы присматривал за машиной. А он ответил со своим северо-тегеранским акцентом:
– Не извольте беспокоиться. Я настороже, оберегаю их репутацию.
Мы посмеялись, однако было непонятно, о чьей репутации он говорит – может, угонщиков машин? Полотенцем, которое висело у него на плече и с помощью которого он брал раскаленные шампуры, шашлычник протер стекло машины Мы попрощались с ним и отправились в путь пешком вдоль реки Джафар-абад, в сторону Дарбанда – парка в горах.
Подъем в горы начинался почти от самой площади. Это был конец августа 1942 года. Кругом было почти безлюдно, лишь иногда попадался деревенский житель или встречались редкие тегеранцы, у которых здесь загородные дачи. Деревенские везли на муле какой-нибудь груз вверх, в горы, или вниз. Поравнявшись с нами, они без промедления, первыми, здоровались. Карим был в ударе. Навстречу нам спускался с гор старик, нагрузивший осла дровами, – на зиму заготавливал. Все его внимание было на том, чтобы поклажа не упала с осла, поэтому он, проходя мимо нас, не поздоровался, и Карим спросил его:
– А где «салям»?
Старик растерялся. Он снял свою войлочную шапку, извинился и поприветствовал нас. Но Карим заявил со смехом:
– Нет, отец дорогой! Я ведь не с тобой говорил, а с твоим ослом. У нас есть товарищ, он ослиный язык понимает.
Карим взял вожжи из рук старика и направил ослиную морду в мою сторону.
– А ну поздоровайся с господином! Я сказал: поздоровайся!
Затем он сунул два пальца в ноздрю осла и надавил там. Тогда осел, что называется, от глубины души заревел, во весь голос.
– Молодец! Теперь ты стал господин осел!
И Карим отдал вожжи старику, который открыл свой беззубый рот и от всего сердца захохотал.
– Господа хорошие! Да хранит вас Бог! Окажите мне честь великую – поужинайте в нашей хижине. Без соли вам плохо будет. Да храни Аллах вас в пути! Счастья вам!..
…Мы пришли к нашей цели в Дарбанде. Карим хотел, чтобы мы еще выше в горы забрались, но я возразил: шашлыки совсем остынут. Ему же хотелось туда, где нас совсем никто не знает. В итоге мы дошли до самого последнего кафе вверху по реке. Выше дорога отходила от реки и брала прямо в горы, по направлению к Шир-Пала. В этом кафе было всего три стола, и мы заняли тот, что подальше от дороги. Карим вымыл руки и лицо в бассейне, потом командным голосом сделал заказ хозяину кафе:
– Тащи нам два жбана кислого молока с огурцами, два лимонада и два стакана принеси. И все три стола мы берем в аренду, чтобы никто больше не заходил. И сам тут не мельтеши, ступай в сени.
Хозяин кафе проворно выполнил все распоряжения Карима, потом ушел внутрь, оставив дверь полуоткрытой, и занялся проволочной корзинкой для разжигания углей. Но Карим отправил его прочь:
– Иди лучше, нам дым этот не нужен в глаза!
Мужчина кивнул и занялся другими делами. Я с удивлением взирал на Карима. Открытая рубаха, белые брюки с оттопыренным карманом, клочковатая борода, черная, как сапоги, закрученные вверх усы…
– Ты хорошо все обдумал? – спросил я. – Не успели прийти, как все в аренду, и столько молока кислого с огурцами…
– Человек должен держать руки в карманах, быть щедрым, – ответил он, – особенно если это благословенные карманы Хадж-Фаттаха…
Мы рассмеялись, и Карим пришел в шутливое настроение:
– А какая все-таки была сцена, как славно я этого Каджара засаванил!
– Что значит «засаванил»?
– Это производное от «задушил» и «в саван замотал»… Но что-то мне прохладно стало…
– Так накинь мой пиджак! Как ты себя чувствуешь вообще?
– Спасибо вашей милости! Немного согревающего я вообще-то взял, но совсем мало, можно сказать, как мальчик пописал…
Я еще ничего не понимал и спросил его:
– Может, лучше все-таки было поехать к мавзолею Салиха?..
– Нет, Али-джан! У меня слишком нечисто в карманах.
– Что значит «нечисто»?
Рассмеявшись, он ответил:
– Согревающее! – и достал из кармана стеклянную плоскую флягу.
Желтую жидкость из нее он налил в стакан, потом разбавил лимонадом и протянул стакан мне:
– Хлебнешь? Это вещь! Для такой вот фляжки выжали два кило лучшего винограда из Урмии! Черт бы побрал! Ты смотри, что получилось! Сладкая, как чай!
Я встал, раздраженный и встревоженный. Язык мой словно отнялся. Дед предупреждал меня: глаза, мол, у Карима красные и выпученные, и маслянистость под веками, и щеки багровые… Но я не верил этому. Отвечал, что Карим не из таких, не из пьющих. А теперь смотрел на него и не мог произнести ни звука.
– Ты правильно угадываешь! Аренда заведения и все эти приготовления для того же… Честь потерял, совесть выплюнул…
Я пошел было к дверям кофейни, но он преградил мне путь:
– Сядь ты, во имя своего предка… Не делай мне хуже, чем оно уже есть…
Я не знал, что ответить, и сел за стол рядом с ним. Он положил передо мной шашлык из печенки. Поставил кислое молоко и лимонад. А меня не покидали изумление, растерянность и тоска. Что случилось с Каримом? Я не знал, что Карим потерял и невинность, хоть раньше иногда он говорил об этом, но я думал, что он просто бахвалится…
Он отвернулся от меня и большими глотками выпил все содержимое фляги. Потом, посидев немного, встал и, яростно размахнувшись, бросил пустую флягу в реку. Подойдя к бассейну, нагнулся, набрал воды в рот и прополоскал его. Трижды проделал это. Затем вымыл руки. Подошел и сел за стол напротив меня. Голос его изменился, слова с языка сходили как-то растянуто. А глаза так кровью налились, что вот-вот, казалось, она брызнет из них…
– …Вот и хорошо стало, то есть не то чтобы хорошо… Лучше стало. Мы теперь очистились, как и вы, ваше благородие. Внешность наша по крайней мере стала чиста. Как у факиха – ахунда[24]24
Факих, ахунд – названия мусульманских духовных лиц.
[Закрыть] знаменитого. Трижды прополоскать. Гр-гр-гр! Гр-гр-гр! Если я буду и от тебя скрывать, то никого у меня не останется. Однажды мы решили стряхнуть с себя скорбь. Так не дал. Еще больше заставил грустить. Стряхнуть с себя скорбь – это все равно что генеральная уборка дома перед праздником. Тегеранский парень поймет меня. Дом только прибрать чисто, и все. И скорбь то же самое. Приведи в порядок свои скорби, и все. Нельзя выбрасывать их. Но ты стряхни с себя скорбь и положи в специальный ящичек. Это то же, что переезд на новую квартиру. То есть сверхурочная работа. Не то что мне не хватало… Вот если бы ты сказал мне «нет», тогда бы у меня точно никого не осталось, и это было бы не по-то-ва-рищески!
Карим положил голову мне на колени и зарыдал.
– Я не лезу с пьяными соплями. Да, потерял я честь, осквернил заветы Аллаха. Но я шариат уважаю, ахундов уважаю! Вот смотри: сажусь на отдельной от тебя скамейке, я мусульманам не навязываюсь. Отвернулся от тебя, чтобы в глаза мусульманину не смотреть. Все столики арендовал, чтобы ухо мусульманина не слышало… Мусульманин не слышит, неверный не видит… Чего еще ты хочешь, негодяй?
У меня тоже, как и у Карима, слезы потекли из глаз. Почему – не знаю. Я переживал за него! Ведь он пропал. По моим расчетам выходило, что он не молился больше месяца. Больше месяца! И я плакал по Кариму. А он говорил, не умолкая:
– Негодяй! Ты ведь тоже влюблен… Никто не знает, но я знаю!
Я обнял его голову и поцеловал ее. Голова плакала.
– Не бросай меня, Али! От меня воняет, как от собаки, да? Нет?! Но и собака, если дашь ей кусочек, для тебя райский мир открывает на небе. Так мулла в мечети говорил. А ты ее видел? Ты ее видел?! Нет… Не видел! Она ушла в райские кущи. Не осталась с людьми. И она сама как гурия… настоящая! Словно из рая явилась. Я думаю порой: и в раю нам этого не будет. Рай – он для пророков… А зовут ее Шамси! «Солнечная»…Ушла и не сказала «до свидания». Не сказала досви-Дания? Досви-Швеция? Досви-Норвегия? Сколько стран этих, Али… Но это не наш дом! А где наш? Где твой дом, Али? Где наш дом, негодяй ты этакий! Ведь ты тоже влюблен. Не скрывай. Ты выдал себя. Целый год уже… А как это печально – быть влюбленным… Али! Мое положение крайне шаткое. Я еще не знаю, люблю я Шамси или нет… Как только нога моя ступила на улицу Каджаров, я о любви и думать забыл… Как пишут ее имя? – Он рассмеялся. – Но тут ничего не пишут, тут на подносах чай приносят. Хозяин! – крикнул Карим. – Али моему принеси еще лимонаду…
Я продолжал плакать. А он смотрел на меня своими красными глазами.
– Ты ведь не пил, но пьян, Али-джан! Без музыки уже танцуешь, Али-джан! Именно поэтому я люблю тебя. И готов умереть за тебя, за все, что ты сделал… А я стал негодяем, Али! Я уже сколько времени… пока не выпью, плакать не могу… С тех пор, как Махтаб и Марьям уехали. Вот уже год, два года их нет, но я тебя не понимаю… Ты всегда, как захочешь, можешь заплакать… Значит, Махтаб повезло. А Шамси не повезло…
Я говорил о плаче? Или я говорил о Кариме, или о смехе, или о Махтаб, или о Марьям, или о лжи, или о Дарьяни, или о себе, то бишь об Али?! Или я говорил об Али? О, Али-заступник!








