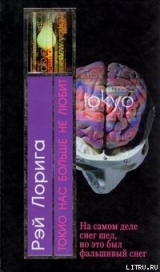
Текст книги "Токио нас больше не любит"
Автор книги: Рэй Лорига
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Когда мы выходим, на улице похолодало.
Кто знает, как все сложится после Токио? Нет ничего странного в том, что человек, пришедший в себя посреди периода неожиданной радости, отказывается и от голосов прошлого, и от голосов будущего. Как мать семейства, которая запирает двери, чтобы никто не вошел, и окна, чтобы никто не вышел, с одинаковой тщательностью. Вот так и я проживаю эти дни возле нее: задвигаю вокруг нас все засовы. Закрываю двери всех комнат во всех гостиницах – как задраивают люки во всех отсеках корабля, в котором уже обнаружилась течь, но который, несмотря ни на что, пытается остаться на плаву.
О чем в это время думает она?
Не знаю. Она не говорит. А если и говорит, то шум моего страха оказывается, как обычно, слишком громким, и я ее не слышу.
Устала она или больна? Определенно что-то стало меняться, потому что ее дни кончаются рано, а потом она ложится в постель и говорит, что ей мало воздуха, и, естественно, всего воздуха с улицы оказывается недостаточно, и наши прогулки по Токио становятся все короче, и город постепенно сводится к ближайшим окрестностям. Кто знает? Может быть, посреди любви больше всего начинаешь бояться самой любви? Откуда же иначе берется все это недоверие к будущим городам?
Почему я так настойчиво думаю о ней как о слабом огоньке, который начинает гаснуть, если на самом деле она способна выставить меня из комнаты – из любой комнаты – пинками?
Любовь – это действительно шторм в воображении.
В любом случае, было бы нелишне пересмотреть как дозировку, так и качество моих стимуляторов, потому что теперь я не нахожу ответов на столько каверзных вопросов, и еще потому, что не могу отделаться от ощущения, что носки моих сапог давно уже наступают мне на пятки.
В конце концов я засыпаю с ней рядом, хотя ей, конечно, уже несколько часов снится бог весть что, но не менее опасное.
– Прояви уважение к дому!
– У нас нет дома.
Но ведь будет.
Мы в одной из «гостиниц любви» на холме. Ковер желтый, стены черные, обитые атласом. Возле кровати – зеркало. Пока мы трахались, я заметил, что она все время смотрела на себя. На меня она не смотрела. Только на собственное тело, продолжением которого, естественно, являлось мое – только так далеко она не смотрела. Она созерцала собственные движения с отчужденностью и интересом, с каким смотрят, как занимается сексом кто-то очень тебе близкий. Так смотрят, как занимается сексом собственная сестра.
Теперь она говорит о доме, который у нас будет. Со сворой собак, бегающих по саду, – ну хотя бы с парой собак, с озером напротив сада – потому что однажды мы прожили несколько недель в Берлине с видом на озеро, и она решила, что это самое лучшее, с высокими потолками и карнизами, с комнатой для сына, которого у нас нет. Пока она рассказывает, я прохожу по комнатам этого несуществующего дома с вполне реальным страхом.
Я спрашиваю, какого цвета стены, и она отвечает, что сейчас стены белые.
Когда я спрашиваю, где лежат мои вещи, она отвечает, что мои вещи еще не распакованы, хотя ее вещи уже несколько недель как разложены по местам.
В хрустальных вазах стоят цветы, над кроватями висят азербайджанские ковры.
Я не вижу ничего моего. Может быть, мои вещи все еще не распакованы, но также может быть, что я здесь не живу.
Мы оба голые. Она размышляет о нашем доме. Ей кажется, я не проявляю уважения к ее планам. Ей неизвестно, как осторожно я заглядываю во все комнаты, которые она описывает. Неизвестно, как старательно ищу место для себя. С каким недоверием всматриваюсь в уголки, куда не доходит свет ламп, как оглядываю собственные наши тени.
Пока мы одеваемся, я выхожу из дома, которого у нас нет, и возвращаюсь в комнату, в которой мы есть. Дом ни для кого. Одна из этих чудесных гостиничных комнат, что исчезают, едва ты захлопнешь дверь с другой стороны.
Мой отец в детстве играл в футбол прямо посреди улицы Алькала. Через каждые два-три гола там проезжала машина. Моя бабушка как-то пошла за молоком, и вдруг за углом сама Пасионария схватила ее за руку и втащила в гущу толпы. Моя бабушка всегда была за правых, но в тот раз со своим кувшином молока в руке она шествовала с достоинством первых коммунисток. А теперь я в Токио и я – человек-невидимка. Моя бабушка не протянула бы в Токио и недели. Мяч моего отца угодил бы в вертолет. История движется медленнее, чем наука.
Она сидит у окна. Токио – это город по ту сторону и, вероятно, по эту тоже. Когда мы в Токио, Токио находится со всех сторон.
– Моя мать жила в горах Микуни,—говорит она, – и каждое утро ездила в школу на лыжах. Мой дед танцевал в кают-компании «Куин-Мэри». Наверное, никто из нас двоих не был рожден для такого.
– Когда ты один, ты думаешь обо мне?
– Да, хотя и не все время. Иногда я оставляю тебя в отеле и чувствую, что как будто вышел из кино посреди фильма. Я снаружи, но я знаю, что фильм продолжается.
Тогда она говорит, что вначале ей необходимо было быть одной, хотя она и хотела быть со мной, а теперь, наоборот, ей необходимо быть со мной, хотя она и хочет быть одна.
– Когда ты оставляешь меня на улице, я шатаюсь по магазинам, и примеряю все эти платья, которые на самом деле мне не идут, и разговариваю с продавщицами, пока не свожу их с ума, пока улыбки не сходят с их лиц, и я примеряю туфли всех размеров, хотя очевидно, что нога моя не меняется, и я смотрю на других женщин, словно они сумасшедшие, и когда я смотрюсь в зеркало, мне все так же страшно.
– В этом нет твоей вины, здесь все относятся к покупкам с недюжинной страстью, и трудно оставаться в стороне. В Токио покупают по той же причине, по которой в Мекке молятся.
– Однажды все магазины закроются, и нам придется подняться туда, наверх, где высшее существо прочитает своим взглядом наши кредитные карточки.
– Конечно, любовь моя, но это будет не завтра.
Потом она отходит от окна и достает из шкафа изысканные черные туфли, которых я никогда не видел. Они ей так идут, что, когда она выходит из комнаты, мне не остается ничего другого, кроме как отправиться следом. Поистине Токио – чертовски хороший город для покупки туфель.
Красные дни – спокойные дни. Когда закинешься «красным», то на время освобождаешься от естественного недоверия к любым вещам – чужим и собственным. К любым людям и любым улицам. Закинуться «красным» означает приостановить вечное головокружение от катастроф. Это как «спокойная лошадь» – только без той чрезмерной доверчивости, которая требуется для «лошади». Как «голубые иголки» – только без их липкой печали. Как «солнечные, дни» – только без их смешного по-фигизма.
Мы в аквариуме Акасака, смотрим на рыб – ведь для этого и приходят в аквариум. Улыбки акул восхищают нас не меньше, чем восторг детей. Мы гуляем по стеклянным коридорам, целуемся совсем рядом с морским лещом, абсолютно случайно появляемся на фотографиях незнакомых людей и при этом с преданностью фанатиков остаемся внутри наших собственных дел. Красные дни не входят в абсурдную вереницу остальных дней.
Когда становится поздно, мы бродим вдоль решеток закрытых на ночь парков. По какой-то неведомой мне причине она одевается лучше, чем другие женщины, хотя явно покупает одежду в тех же магазинах. Я развил в себе придирчивую любовь ко всем и к каждой в отдельности из ее вещей. Поэтому мне очень нравится собирать ее чемодан, а потом ходить с ним, чувствуя себя владельцем сокровища. Любовь настолько же реальна, насколько реальны и прочие выдуманные вещи. Как тепло, которое разливается по телу, когда читаешь название города, где раньше никогда не был. Как моря на картах или как кошмары астронавтов.
Туристы с катеров на реке Сумида машут нам руками. У всех туристов мания приветствовать других туристов, они словно солдаты, обязанные отдавать друг другу честь. Туристам невдомек, что я всегда был в Токио и никогда не был в другом месте. В шуме вертолетов не слышно шума воды и шума катеров. Монорельсовый поезд набит спящими клерками. Музыка с гигантских видеоэкранов не дает спать собакам, а студенты доверяют лишь своим телефонам с жидкокристаллическими дисплеями. В этот момент она невероятно счастлива.
Красные дни отнимают у вещей их ад.
Теперь она без умолку болтает про вечера в Хой-Ханге, во Вьетнаме, она бегает вслед за велосипедистами по дороге к Китайской бухте, среди рисовых полей, дразнит волов и говорит, что именно эти дни – самые лучшие дни ее жизни. После нескончаемой зелени рисовых полей ее странно раздражает цемент Токио, который словно выстраивает на каждом шагу частоколы. Мы бредем уже целый день, как солдаты. Она совсем измотана. Я, разумеется, тоже, хотя и старательно отнекиваюсь. Мужчина и женщина – это как лодка, вес надо распределять равномерно. Если оба усядутся на одну сторону, лодка перевернется. Как бы то ни было, нужно признать, что вьетнамцы с нами разговаривали, а японцы – нет, поэтому здесь проще почувствовать себя покинутым, и в то же время – что более странно – загнанным в угол.
Ей хотелось бы немедленно продолжить путешествие, но я по какой-то причине предпочитаю оставаться в Токио. Она, поскольку долго жила здесь, мало чему удивляется, а меня, наверное, делает таким рассеянным именно бесконечное удивление. Она ни в чем меня не упрекает. Просто говорит о Вьетнаме с таким чувством, словно нашла для себя новый дом, когда меньше всего этого ожидала – и к тому же там, где меньше всего ожидала.
Наш поезд едет через парк. В вагоне несколько дюжин побежденных детей, что возвращаются из школы.
На станции Сакурадамон несколько школьников выходят и заходят несколько других, так что для нас почти ничего не меняется.
Теперь она говорит, что предпочитает велосипеды поездам, хотя, разумеется, предпочитает поезда самолетам.
– А ты?
– Я?
– В каком порядке ты бы их расставил? У меня порядок такой: велосипеды, поезда, самолеты. А у тебя какой?
– Ну, слушай, на первом месте самолеты. Самолеты мне очень нравятся.
– А потом?
– Думаю, что так: самолеты, велосипеды, поезда.
– Вот черт, ни одно не совпадает.
–Да.
– В общем-то, я не считаю, что именно это станет для нас роковым.
На ней синяя футболка с длинными рукавами, мы только что купили ее в одном из этих ужасных модных магазинов на Эбису-ниси, и она очень красивая, как, впрочем, и все вокруг нас, потому что дети в Токио одеваются как ангелы. На ее футболке надпись: «МЫ СЧАСТЛИВЫ?».
Да или нет?
Полагаю, что да.
Почему бы и нет?
Мы пьяны от саке, нас окружают разноцветные кроссовки и безупречные стрижки, на пятнадцать улиц вокруг нас не видно ни малейших признаков религии, какой бы она здесь ни была, никто не говорит ничего, что мы могли бы понять, все магазины открыты и все банки закрыты. Насколько я понимаю, небеса должны выглядеть примерно так же.
Когда этот город закончится, появятся другие, и какие чудесные лета и холодные зимы найдем мы в Других портах, и сколько поцелуев ожидает нас в тени польских сухогрузов, и на вершине самой высокой башни Города тысячи казино, и на холмах Большого Юга, и в глубоких долинах, окружающих старую Прагу, и это будет такая большая любовь что дни сделаются короткими, а ночи длинными и если все это неизбежно наступит, то почему же я чувствую, что мир подходит к концу, когда запускаю два пальца в ее промежность и обнаруживаю там все ту же резиновую преграду?
Где же дети, которых мы искали, чтобы украсить наш будущий дом? Где этот маленький звереныш, который прибегал – бог знает откуда, – чтобы оживить наш садик? Я больше не слышу, как он топочет по коридору.
Больше не вижу, как он, запыхавшись, гоняет по траве первый из положенных ему футбольных мячей. Я больше не вижу пятен краски вокруг его маленького столика для рисования. Больше не вижу облаков, и китов, и гигантских крыс, и всех прочих нелепостей, которые он рисует. Дело в том, что я больше ничего не вижу.
Почему я засунул пальцы?
Потому что кокаин сократил меня до размеров полуэрекции, такой же нелепой, как испуганное войско.
Она омывала ноги водой вьетнамских рек, слушала рассказы старых солдат из туннелей Ку Чи, пересекала площади в Мехико, не глядя на убийц женщин, пряталась от солнца под полями соломенного сомбреро, но теперь, ни словом не предупредив, она нарушила лучшее из своих обещаний.
Я знаю, что у нее будет сын, но я знаю, что это будет не сейчас и что это будет не мой сын.
Я смотрю, как она кончает, и пока я смотрю – видимо, оттого что она под защитой своей диафрагмы становится совершенно другой женщиной, – мне все-таки удается добиться потрясающей эрекции; возможно, «потрясающая» – это преувеличение, просто дело в том, что когда у тебя эрекция, ты обладаешь самой крепкой верой на свете. Поэтому мы трахаемся на полу. Пол красный. Красный ковер по всей комнате и даже в ванной.
Я спускаю в резиновую диафрагму.
Словно идиот, остановившийся перед закрытыми дверями на небеса.
И вот мы в одной из «гостиниц любви» на холме Сибуя, и я распластался на полу, закинувшись «быстрыми пулями», новейшей разработкой лабораторий Тибы, а она все еще лежит на постели, и рядом с ней – спящий парень. Один из несусветных японских подростков, отравленный дымом стрип-шоу порта Йокагама. «Быстрые пули» пригвоздили меня к полу, словно Христа, распятого на коврике. «Быстрые пули» из Тибы обирают тебя изнутри с жестокостью грабителей могил, уносят все, что находят, – сначала самое худшее, а потом все остальное.
Теперь она говорит, что хочет уйти, потому что, по какой-то неведомой мне причине, после ночи с незнакомцем женщины становятся ужасно торопливыми.
Она одевается стремительно, а я – медленно, осматривая свою одежду с удивлением человека, который пытается подключить видеомагнитофон, пользуясь инструкцией для стиральной машины.
Мы молча спускаемся с холма, идем к вокзалу Сибуя.
В наш отель мы возвращаемся на такси. Телевизор в машине не работает. Мы едем до самого дома, глядя в пустой экран.
– Ты должен любить меня намного сильнее.
Естественно, я делаю вид, что ничего не слышал. Тогда она закрывает зонт, и именно так все и кончается. Из окна монорельсового поезда видны огни Синдзюку, и потухшее сердце императорского дворца, и спящие слоны в новом зоопарке Уоно, и горящие экранчики телефонов малолетних наркоманов из Сибуи, и прерывистые огоньки самолетов, и вечная ненависть ветеранов войны, и новоявленная красота вдов, и испарения в окнах гостиниц, и несообразное свечение телевизоров, и кровь под разбитыми автомобилями, и черное небо, и красные ценники с предложениями скидок, и желтый свет в домах детской порнографии, и искусственный снег, и металлические наконечники клюшек для гольфа, и голубое мерцание такси, и белый хлопок перчаток регулировщиков, и маленькие уличные лотки с лапшой, и реклама табака, и фотографии новых звезд Голливуда , на улицах Гиндзы, и могилы в Янакэ, и рыбы в озере Синобадзу, и стальные чемоданы на вокзале Акихабара, и кости больных супермоделей в дверях клубов на Роппонги, и поминальные свечи по Риосукэ в парке Хибия-коен, и ужас матросов с русских кораблей, и мороз на цементных мостах, и надежда в казино, и усталость в поездах, и радость собак, и один ножик, и две реки, и одна шляпа – и больше ничего.
Доктор У. Тьер молча собирает бумаги в стопку. Вокруг него еще шесть светил неврологии кивают головами, как будто пьют из невидимой поилки.
Эксперимент «Пенфилд» завершен.
– Скажите, доктор, мы сильно продвинулись.
Мы, безусловно, сильно продвинулись, но ушли недалеко.
Далее доктор Тьер объясняет мне, что весь материал, собранный посредством эксперимента «Пенфилд», конечно же является строго секретным и ни один из его участников не имеет права обсуждать этот материал за рамками профессионального исследования. Сказанное означает, что ни у кого не будет доступа ни к записям, сделанным в эти дни, ни к результатам их расшифровки. Я не совсем понял эту последнюю часть – возможно, потому что мой мозг еще не до конца освободился от манипуляций этих людей; как бы там ни было, доктор Тьер любезно соглашается пролить свет на темные места своего объяснения:
– Друг мой, никто, и даже вы сами, не сможет засунуть палец в эти язвы памяти. Подобные действия могли бы сказаться на вашем выздоровлении, а мы здесь собрались совсем не для этого.
– А для чего именно вы здесь собрались?
– Мы собрались, чтобы подготовить почву. Только и всего. Внутри вас зреет семя, и вы должны вырастить побеги. Вы иссушили свои поля, и вы же заставите их колоситься вновь. Это естественный процесс. Мы – садовники, а вы – это сад.
Как красиво изъясняется этот сеньор. Приятно посмотреть, как освещает он своими аллегориями колодец моей тревоги. Как уважительно все на него смотрят! Не будь я таким усталым, я бы заключил его в объятия.
– Простите мне недостаток энтузиазма, доктор Тьер, однако сейчас мне бы хотелось поспать, потому что я чувствую себя так, словно вы распахнули мою черепную коробку и набили ее гвоздями.
– Простите, друг мой, ваш отдых важнее всяких иных соображений. Спите, сколько сможете, приятных вам сновидений, ведь сон – это сейчас лучшее из лекарств. Но запомните, если вы в силах, что все камни в вашей голове – это ваши собственные камни. И что мы вошли и вышли из нее чисто, ничего не потревожив, не взяв ничего вашего и не оставив ничего своего.
Произнеся это, мой славный доктор доверительно трясет меня за руку, словно торговец подержанными автомобилями, и удаляется, прихватив по пути свою полудюжину консультантов – с такой же умиротворенной радостью, с какой идущая к алтарю невеста подхватывает шлейф подвенечного наряда.
Желаю приятного путешествия в жопу, доктор Тьер.
Любезнейшая медсестра провожает меня в мою комнату и покидает меня там, среди моих вещей, абсолютно мне незнакомых.
За окном вдалеке виднеется какой-то город. Огни какого-то города. Огни башенных кранов над черным провалом леса. Между городом и окном я вижу шоссе; по шоссе время от времени пролетают машины.
Разумеется, мне неизвестно, сколько времени я провел в этом месте, однако я, разумеется, убежден, что сейчас самое время прощаться.
Больничная химия – прекрасная штука, но это не твоя химия. Ты покорно подчиняешься ритму ее капсул, выверенному расписанию ее заботы, ее морали, в основе которой лежит ограничение эйфории, но ты ничем не управляешь. Хозяин химии – это хозяин твоего настоящего. Итак, пора снова брать под уздцы все, что от меня осталось. Прощайте больницы. Прощайте искусственные сны. Прощай великолепный яблочный пирог.
Прощай все, что здесь было.
Я чувствую себя словно человек, оставшийся невредимым среди обломков рухнувшего самолета и говорящий сам себе, в некотором предвкушении: «Здесь, и только здесь, начинается моя жизнь».
6. бар «париж»
– Не все так просто, друг мой. Нам стоило больших трудов найти вас и еще больших – попытаться вас излечить, хотя в этом, безусловно, мы не слишком преуспели, однако вы, в конце концов, не первый агент, которого мы теряем и, уж конечно, не последний. Компанию заботит вовсе не ваше душевное здоровье, а, простите за откровенность, некий груз, утерянный вследствие удара ножом в аэропорту Бангкока, хотя вы сейчас обо всем этом не имеете ни малейшего понятия.
– Да, сеньор. Ни малейшего.
Я так отвечаю, потому что действительно не знаю, о чем говорит этот человек, а еще потому, что мне показалось, что в любом случае он скорее будет склонен поверить в мое неведение, чем в мою невиновность.
– Ага, а вот и пиво.
И это правда, потому что через секунду официант-иранец, снующий по залу и говорящий сам с собой, ставит на стол бутылки; и стоит ли говорить, что я хватаю свою с неподдельным восторгом и одним глотком высасываю полбутылки.
– Друг мой, какая жажда! Мне кажется, давненько вы не приближались к хорошему пиву.
– Да, сеньор, давненько. Хотя и не смогу назвать вам точную дату.
– Естественно, и это поистине ваш крест, хотя я считаю – и еще раз простите за откровенность, – что вы его сами искали. Поэтому давайте вернемся к нашему делу. Наши врачи единодушно утверждают, что повреждение, подобное вашему, могло произойти только с помощью нашей чудодейственной химии и что каждая из очаровательных прорех в вашей памяти напрямую связана с пропажей нашего драгоценного материала. И все-таки нам не удалось выудить у вас достаточно сведений, чтобы предпринять законное вмешательство без риска, как это называют наши адвокаты. Надеюсь, вы осознаёте, что самый большой риск здесь – это публичная антиреклама, в которую обращается любое наше официальное обвинение, предъявленное спятившему агенту. С другой стороны, смерть нашего представителя в Бангкоке была непосредственно связана с изуверскими действиями фанатиков – хранителей памяти, прибывших в этот регион с американского Запада. При таком положении дел, и к нашему неудовольствию, нам не остается ничего другого, как поверить в вашу невиновность, учитывая, что процесс восстановления памяти дал результаты неутешительные и даже эксперимент «Пенфилд» не пролил света на события и даты, которые нас интересуют. Коротко говоря, друг мой, вы вольны покинуть Берлин когда угодно и поступать с остатком вашей жизни как угодно – при условии, что будете держаться подальше от нашего бизнеса. В том, что касается химического братства, вы человек конченый. Как легальный агент, вы, безусловно, погибли, а как нелегальный – если вдруг пожелаете пойти дальше по этой ядовитой дороге, – долго вы не протянете. На вашей идентификационной карточке навеки отпечатан штамп «ПНХД», что означает «подозревается в нелегальной химической деятельности», а это позволяет на законных основаниях вас задерживать, обыскивать и не пускать на любой из границ свободного мира… Боюсь вас расстроить, но именно так обстоят ваши дела… Мы не смогли вас расколоть, но мы, по крайней мере, застрахованы от дальнейших ваших попыток ухватить нас за яйца.
Разумеется, половина из того вороха новостей, который вывалил на меня этот человек, представляется мне какой-то тарабарщиной, однако если мы и научились чему-то в наши дни, дни химического беспредела, – так это тому, что незнание вины ни в коем случае не исключает преступления. Как бы то ни было и несмотря на, в общем-то, неприятный характер этой речи, густо нашпигованной упреками и неясными угрозами, у меня нет иного выхода, кроме как пребывать на верху блаженства, поскольку здесь, в Берлине, не найти места веселее, чем бар «Париж», со старым Мишелем в дверях и девушками, пьющими вечернее шампанское, и этой атмосферой начала века, одинаково бросающей вызов и здравому смыслу, и памяти.
– А теперь, чтобы показать, что мы не звери, разрешите вручить вам вашу личную корреспонденцию, полученную в ваше отсутствие; новости, кстати, немногочисленны и не слишком веселы.
Представитель компании протягивает мне конверт, который я, конечно же, прячу, не раскрывая: лишь безумцы спешат узнать плохие новости.
– Мне остается сообщить вам только одно – и здесь я определенно проявляю больше заботы, чем вы заслуживаете: в докладе, составленном нашими специалистами из «дома памяти», говорится, что состояние вашего мозга критично и что свет, который забрезжил над руинами вашей памяти, в любой момент может погаснуть безвозвратно, так что, куда бы вы ни направились, рекомендую вам продолжать лечение; правда, начиная с сегодняшнего дня вам придется оплачивать расходы самому. Как только мы убедились в нехватке информации, необходимой чтобы вздернуть вас на дыбу, расстройство вашей памяти нам стало официально по фигу.
Что за неприятный человек, что за убийственное хладнокровие! Если в конце концов окажется, что ад и вправду существует, я не сомневаюсь, что для таких холеных разносчиков дурных вестей там будет приготовлен особый уголок – даже раньше, чем для убийц, поскольку убийцы как-никак проявили известную храбрость, о которой эти гнусные бюрократы даже не слыхали, а еще убийцы знают о своих преступлениях, а эти карлики, наоборот, решили разбираться с чужими. В общем, если истинно то, что я в дерьме, так не менее истинно и то, что моему другу придется ненамного легче, когда настанет день уплаты по счетам.
А бар «Париж» полон всем лучшим, что только есть в Берлине. Звезды кино и голодающие новички, торговцы «снежком», умеющие выдерживать чужие взгляды с надменностью проституток, проститутки, танцующие с высокомерием умалишенных, пьяные чиновники и чванливые трезвые официанты, немецкие графы и французские герцогини, лучшие из худшего цвета берлинского общества, а этот назойливый безоружный палач, пришедший со мной, упускает шанс на минуту отвлечься от своих долбаных дел.
– Мы надеемся, что вы незамедлительно уедете из Берлина. И не держите на нас зла, если мы порекомендуем вам как можно скорее покинуть Европу. Хоть помните вы и не так много, вы все-таки должны знать, что мы теперь составляем единую семью.
После этих слов мой добрый друг поправляет узел на галстуке – словно таким образом приводит в порядок всю свою жизнь, прощается и сваливает, почти и не притронувшись к пиву. И стоит ли говорить, что оба этих обстоятельства меня искренне радуют. Насколько кстати может прийтись немножко спокойствия и лишняя бутылка пива, если будущее твое неясно, а прошлое – невозможно.
В моем конверте только два письма.
Первое от моей матери, женщины, которую я решительно не помню.
«Надеюсь, у тебя все хорошо», – пишет эта славная женщина и сообщает мне адрес могилы моей младшей сестры.
Второе письмо еще короче:
«Возвращайся. К. Л. Крумпер».
Правда, к этому письму прилагается также карта Аризоны с отмеченным на ней городом.
Судьба Берлина – это судьба всего мира. По крайней мере для адептов химического братства. Берлинские лаборатории правят состоянием душ тех, кто вверил свои ощущения ритмам новых, все более чудодейственных смесей. Вот что сказал старый футбольный тренер за день до того, как его сместили с поста: «Будущее? Будущее – это я».
Так живут свободные люди. Под началом собственного духа. Словно владельцы тысяч послушных лошадей.
На все остальное – воля старинных проклятий.
Ночь я провожу в гостинице возле Чекпойнт-Чарли – открытой раны между двумя старыми заледенелыми Германиями. Один из многочисленных шрамов этого города, все еще охваченного болью памяти. Единственное, что мне слышно в гостинице посреди ночи, – это как какая-то женщина молится на абсолютно правильном французском языке, абсолютно для меня непонятном, но от этого не менее губительном – потому что все молитвы, знаешь ты их или вовсе не понимаешь, созданы из одной веры. Не веры в одно и то же, а веры во все не твое. Веры в могущество чужого.
Вот кое-что из случившегося сегодня, по какой-то причине мною не забытое. В одном из кафе на Александерплац официант обратился ко мне по имени. А потом на улице я бросил в почтовый ящик открытку с одной-единственной фразой: «Я все время думаю о тебе». Открытку с фотографией отеля «Фламинго» в Лас-Вегасе и адресованную куда-то в Токио.
Рассвет в Берлине над сожженным лесом. Неподалеку от аэропорта возле шоссе стоит старый брошенный самолет. Токио отсюда так далеко, что попасть туда кажется почти невозможным. Оказывается, что невозможно даже продолжать думать о Токио. Как невозможно думать об имени мертвой собаки.








