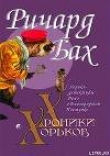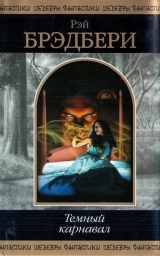
Текст книги "Темный карнавал (сборник)"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Когда все совсем стихло, Бабушка Гвоздика тронула увядший розовый цветок, воткнутый в седые, по плечи длиной волосы и начала говорить, не вынимая изо рта трубки, покачивая головой, так что волосы ее плясали в свете лампы.
– Все это болтовня, все это пустые слова. Скорее всего мы так и не узнаем никогда, что там такое в этой банке. Скорее всего если бы мы даже и узнали, то не хотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там жульничество, смотреть потом совсем не интересно, все равно как на кишки дохлой крысы. Мы тут все собираемся сюда раз в десять дней или что-то вроде, и мы разговариваем, вроде как светскую беседу ведем, и у нас всегда, всегда есть о чем поговорить. Узнай мы вдруг, что же это там за хреновина такая, очень может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем, так что вот так.
– Что она такое, эта хреновина? – пророкотал могучий голос. – Да она вообще ничто, вот же зуб даю, ничто!
Том Кармоди.
Как всегда, Том Кармоди стоял в тени – снаружи, на крыльце, и только глаза его смотрели в комнату, а губы, почти неразличимые в темноте, издевательски посмеивались, и неслышный этот смех пронзил Чарли, как жало осы. Теди, это Теди его настрополила. Теди пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает.
– Ничего, – повторил Кармоди, – в этой посудине нету, кроме слипшихся медуз, гнилых и вонючих.
– Послушай, братец Кармоди, – неспешно процедил Чарли, – а ты, часом, не завидуешь?
– Еще чего! – презрительно фыркнул Кармоди, – Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по сотому разу пережевываете пустое место. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия и даже ноги внутрь дома не поставил. А теперь я ухожу. Ну как, никто не составит мне компанию?
Желающих не нашлось. Кармоди расхохотался – ну как тут не расхохочешься, если столько людей посходило с ума; а Теди стояла в дальнем углу и сжимала кулачки – так что ногти впивались в ладони. Чарли увидел, как подергиваются ее губы, и весь похолодел, и не мог ничего сказать.
Смеясь во все горло, Кармоди простучал по крыльцу высокими каблуками сапог, и стрекот сверчков унес его прочь.
Беззубые десны Бабушки Гвоздики крепко сжали трубку.
– Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой: эта самая, на полке, штука – почему она не может быть ну вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни – и смерти – и еще чего угодно. Смешайте дождь и солнце, и грязь, и все вместе: траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи дохлой гадюки. Ну почему это должна быть одна вещь? Может, это – уйма?
Тихая беседа текла еще целый час, и тогда Теди ускользнула в ночь, по следам Тома Кармоди, и Чарли покрылся потом. Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Горячий пот лился с Чарли не переставая.
Гости разошлись поздно, Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично, только как вот насчет Теди и Тома?
Время шло и шло. Судя по рисунку небосвода, по звездам, спрятавшимся за край земли, было уже за полночь, и только тогда Чарли услышал шорох высокой травы, раздвигаемой небрежным маятником бедер. Негромко простучали каблуки – по крыльцу, в гостиную, в спальню.
Теди бесшумно легла в постель. Чарли ощущал на себе пристальный, как прикосновение, взгляд ее кошачьих глаз.
– Чарли?
Чарли помедлил.
А потом сказал:
– Я не сплю.
Теперь помедлила Теди.
– Чарли?
– Что?
– Вот спорим, ты не знаешь, где я была, спорим, ты не знаешь, где я была! – Негромкий насмешливый напев в ночи.
Чарли молчал.
Молчала и Теди, но не долго, слова рвались у нее с языка.
– Я была в Кейп-Сити, в цирке. Меня отвез Том Кармоди. Мы… мы говорили с хозяином, мы говорили, Чарли, мы правда говорили.
Теди едва слышно хихикнула.
Чарли похолодел. И приподнялся, опираясь на локоть.
– И мы узнали, что в той банке, мы узнали, что в той банке… – детской дразнилкой пропела Теди.
Чарли резко отвернулся, зажал уши руками.
– Я не хочу ничего слышать!
– Не хочешь, Чарли, а придется, – Злое змеиное шипение, – Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть.
– Уходи, – сказал Чарли.
– Не-а! Нет, Чарли, нетушки. Не уйду я, драгоценный ты мой, – не уйду, пока не расскажу.
– Вали отсюда!
– Подожди, дай я расскажу тебе все по порядку. Мы поговорили с этим самым хозяином цирка, и он… он чуть не лопнул от хохота. Говорит, что продал эту банку со всем ее содержимым одному… одному сельскому лоху за двенадцать зеленых. А она вся вместе и двух не стоит.
В темноте изо рта Теди расцвел черный цветок жуткого смеха.
Торопливо, захлебываясь, она закончила свой рассказ: – Ведь все это, Чарли, самый обычный хлам. Резина, папье-маше, шелк, хлопок, борная кислота! И все, и больше ничего! А внутри – проволочный каркас. Вот и все, что там есть, Чарли! – Резкий, уши царапающий визг. – Вот и все!
– Нет, нет!
Чарли сел как подброшенный, с треском разорвал простыню пополам.
– Я не хочу слушать! – ревел он. – Я не хочу слушать!
– То ли будет, когда все ребята узнают, какая грошовая подделка мокнет в твоей знаменитой банке! Вот уж они посмеются, прямо кататься со смеху будут!
– Ты… – Чарли схватил ее за запястья, – ты хочешь им рассказать?
– Боишься, Чарли, что мне не поверят? Что посчитают меня за врушу?
– Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? – Он яростно отшвырнул Теди. – Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, ты завидуешь всему, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост, так ты и спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить!
– Ладно, – рассмеялась Теди, – никому я ничего не скажу.
– Не скажу! – с ненавистью повторил Чарли. – Главное ты уже сделала: испоганила все для меня. Теперь не так-то уж и важно, расскажешь ты кому еще или не расскажешь. Мне ты уже рассказала, и вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хотелось стереть с его лица эту проклятую ухмылочку. Он ведь сколько уже лет надо мной смеется! Ну иди, рассказывай, что хочешь и кому хочешь – мне все равно, а так хоть ты удовольствие получишь!..
Чарли яростно шагнул, сорвал с полки банку, размахнулся, чтобы швырнуть ее об пол, но тут же замер и осторожно, дрожащими руками поставил свою драгоценность на длинный стол. И начал всхлипывать. С утратой банки он утратит весь мир. И Теди – Теди он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше, она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины – Том, к примеру, Кармоди – сверяли свое время по тому же эталону.
Теди стояла в ожидании, когда же Чарли расшибет банку, однако тот только ласково гладил холодное прозрачное стекло и мало-помалу успокаивался. Банка заслуживала благодарности – ну, хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей, и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной.
Чарли медленно повернулся. Да, Теди потеряна, потеряна безвозвратно.
– Теди, ты же не ходила в цирк.
– Именно что ходила.
– Ты врешь, – покачал головой Чарли.
– Именно что не вру.
– В этой… в этой банке должно быть что-нибудь. Что-нибудь кроме хлама, о котором ты говорила. Слишком уж многие люди верят, что в ней что-то есть. Теди. Ты не можешь этого изменить. Хозяин цирка, если ты и вправду с ним говорила… он соврал. – Чарли глубоко вздохнул и добавил: – Иди сюда, Теди.
– Что ты там еще придумал? – подозрительно сощурилась Теди.
– Подойди ко мне. – Чарли шагнул вперед. – Иди сюда.
– Не трогай меня, Чарли.
– Теди, я же просто хочу показать тебе одну вещь. – Голос Чарли звучал тихо, спокойно и настойчиво. – Ну, кисонька. Ну, кисонька, кисонька, котеночек ты мой маленький… котеночек!
Прошла неделя. Снова наступил вечер. Первыми пришли Дед Медноув и Бабушка Гвоздика, за ними – Джук, миссис Тридден и Джаду, цветной человек. Дальше потянулись и все остальные – молодые и старые, благодушные и озлобленные, и все они рассаживались по стульям и ящикам, и у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище.
Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные, – что-то касающееся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни, и у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики – старые, хорошо знакомые, но все равно новые.
Чарли сидел отдельно ото всех.
– Привет, Чарли. – Кто-то заглянул в раскрытую дверь спальни. – Твоя жена, она что, снова гостит у родителей?
– Ага, смылась в Теннесси. Вернется через пару недель. Только и знает, что бегать из дому… Да будто вы ее не знаете!
– Да уж, непоседливая тебе жена досталась, это точно.
Негромкие разговоры, скрип поудобнее устанавливаемых стульев, а затем, совсем неожиданно, стук каблуков и глаза, сверкающие из полутьмы крыльца, – Том Кармоди.
Том Кармоди стоял, не переступая порога, его ноги подламывались и дрожали, руки висели плетьми и тоже дрожали, и он заглядывал в гостиную. Том Кармоди боялся войти. Том Кармоди не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах приоткрытого рта – ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом как мел лице, лице человека, давно и опасно больного.
Дед взглянул на банку, прокашлялся и сказал:
– Странно, я как-то не замечал этого раньше. У него голубые глаза.
– Оно всегда имело голубые глаза, – пожала плечами Бабушка Гвоздика.
– Нет, – проскрипел Дед, – ничего подобного. Последний раз они были карие. И еще… – Он снова взглянул на банку и моргнул. – У него же коричневые волосы. Раньше у него не было коричневых волос.
– Были, – вздохнула миссис Тридден. – Были.
– И ничего подобного!
– Были, были!
Том Кармоди, дрожащий во влажной духоте летнего вечера, Том Кармоди, заглядывающий в комнату, не отрывающий глаз от банки. Чарли, небрежно на нее посматривающий, небрежно перекатывающий в ладонях самокрутку, переполненный мира и спокойствия, уверенный в своей жизни и в своих мыслях. Том Кармоди, один в полутьме крыльца, видящий в банке то, чего никогда не видел прежде. И все – видящие то, что они хотят видеть, мысли их – частый перестук дождя по крыше.
«Мой мальчик. Мой маленький мальчик», – думает миссис Тридден.
«Мозг!» – думает Дед.
Пальцы цветного человека, мелькающие, как ножки кузнечика.
«Срединная Мама!»
«Амеба!» – поджал губы рыбак.
«Котенок! Котенок! Ну кисонька, кисонька, кисонька! – Мысли захлестывают Джука, выцарапывают ему глаза. – Кисонька!»
«Все и вся! – скрипят усохшие и поблекшие мысли Бабушки. – Ночь, трясина, смерть, белесая нежить, влажные морские твари!»
Тишина, и затем Дед шепчет:
– И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно?
Чарли удовлетворенно взглянул вверх, размял самокрутку, чтобы была чуть плоская и хорошо лежала во рту. И перевел глаза на дверь, на Тома Кармоди, который никогда уже больше не улыбнется.
– Сдается мне, никогда мы этого не узнаем. Да, сдается, что не узнаем.
Он медленно покачал головой и повернулся к гостям, которые смотрели, и смотрели, и смотрели…
Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие…
Озеро
© Перевод Т. Ждановой
Волна спрятала меня от мира, птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Миг зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно небу, песку, детям. Я шел из воды, а меня ждал мир, он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой.
Я выбежал на берег.
Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем. «Стой и сохни», – сказала она.
Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки.
– Гляди-ка, ветер, – сказала мама. – Надень свитер.
– Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки.
– Гарольд, – сказала мама.
Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны.
Был сентябрь. Те последние дни, когда, неизвестно почему, становится грустно. Берег вытянулся и опустел, всего лишь шесть человек сидели на песке. Дети перестали играть в мяч, ветер и на них нагонял тоску своим особым свистом, и они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень.
Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо – все запахи долгого радостного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь, в сентябре, не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Дилауса Арнольдов близ воды.
Песок слетал с навесов на тротуар, карусель спряталась под брезентом, в воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте.
Я постоял здесь. Все были в школе. А я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться.
Вокруг было так пустынно, что и не захотелось побыть одному. «Мам, я побегаю по берегу?» – сказал я.
– Хорошо. Только недолго и не подходи близко к воде.
Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает, бежишь, вытянув руки, растопырив пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий. Словно крылья.
Сидящая мама исчезла вдали. Вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, и я остался совсем один.
Одиночество – не новость для двенадцатилетнего мальчика Он так привык, что рядом всегда люди. И по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убегать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того чтобы побыть в своем собственном мире.
Теперь же я и впрямь был один.
Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь…
Вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое; нижняя часть тает словно сахар и растворяется. Вода холодит, и изящно колыхающаяся волна время от времени опадает цветком кружев.
Я звал ее, десятки раз я звал ее:
– Толли! Толли! Толли!
Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Веришь, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порою так оно и случается.
Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее двенадцатилетних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу.
Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди меня в классе, она не будет гонять со лигой мяч летними вечерами по мощенным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад.
И теперь, пустынной осенью, когда небо такое огромное, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда, один.
Я звал и звал ее. Толли! О Толли!
Ветер мягко дул мне в уши – так он шепчется в раковинах. Вода поднялась, обняла мою грудь, потом колени, вверх-вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами.
Толли! Вернись, Толли!
Мне было всего двенадцать лет. Но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких спокойных, монотонных дней в школе. Вот и кончились длинные осенние дни прошлых лет, когда я носил ее портфель из школы.
Толли!
Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко.
Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, хоть что-нибудь, что напомнило бы мне Толли. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его кверху так, как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся.
– Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его.
Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок круг за кругом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место.
Молча я шел по берегу.
Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер.
На следующий день я уехал на поезде.
У поезда короткая память; он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом.
Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду – она мне стала мала, – перешел из средней школы в высшую, затем в колледж. А потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время мы встречались с ней, затем поженились. К двадцати двум годам я почти забыл, как выглядит Восток.
Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте.
Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад.
Лейк-Блафф, с населением 1000 человек, всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф и наши вещи вынесли на перрон.
Прошло столько лет, что же они делают с лицами и телами людей. Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица словно эхо. Эхо походов по тропинкам в оврагах. Легкая радость на лицах, ведь школы на лето закрыты и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в кучу подобно осенним листьям.
Две недели мы жили здесь, вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае мне так казалось.
Это произошло в один из последних дней, которые мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тогда, много лет назад, но уже появились на пляже первые признаки опустелости. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню.
Мне даже померещилась мама, сидящая на песке там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Но я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет. Я лишь шел рядом с ней и ждал.
Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветреном солнце.
К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке.
Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего двенадцатилетним, очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках, и его лицо – такое же серое и заостренное.
– Постой здесь, Маргарет, – сказал я. Зачем я сказал это?
– Но почему?
– Просто постой, вот и все…
Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня.
– Что это? – спросил я.
Спасатель долго не мог выговорить ни слова, он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок, волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила.
– Что это? – настаивал я.
– Странно, – тихо сказал спасатель.
Я ждал.
– Странно, – тихо повторил он. – Самое странное, что мне довелось видеть. Она умерла очень давно.
Я повторил его слова.
Он кивнул:
– По-моему, десять лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С тысяча девятьсот тридцать третьего здесь утонуло двенадцать детей, но все они были найдены спустя несколько часов. Все, кроме одной, насколько я помню. Это тело, должно быть, десять лет пролежало в воде. Это не очень-то приятно.
Я смотрел на серый мешок в его руках.
– Откройте его, – попросил я.
Зачем я сказал это? Еще громче застонал ветер.
Он стал возиться с мешком.
– Скорей откройте его! – закричал я.
– Может, лучше не делать этого, – сказал он. Тут он, по-видимому, увидел мое лицо. – Она была такой маленькой…
Он чуть-чуть приоткрыл мешок. Этого было достаточно.
На берегу было пусто. Лишь небо, и ветер, и вода, и одинокая осень направлялась сюда. Я глядел вниз, на нее.
Снова и снова я что-то произносил. Илля. Спасатель смотрел на меня.
– Где вы нашли ее? – спросил я.
– Ниже по берегу, там, на мели. Долго же она лежала, правда?
Я кивнул:
– Да. Боже мой, да.
Я думал: люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее, о господи, я всегда буду любить ее.
Спасатель снова завязал мешок.
Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», – отметил я про себя.
Здесь около самой воды стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Толли и я. Она половину и я половину.
Я глядел на него. Потом стал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро, обратно они не возвращались.
И тогда… я понял.
– Я помогу тебе, – сказал я.
Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к; нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает.
Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня и улыбалась…