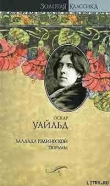Текст книги "Тюрьмы и ссылки"
Автор книги: Разумник Иванов-Разумник
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
VII.
Когда "третья ночь" кончилась бесплодно (то есть – беспротокольно), то на следующую ночь меня оставили в покое. (А бывает, что допросы идут много и много ночей подряд). Очевидно, следователи совещались с высшим начальством о дальнейшем методе действий. На новом ночном допросе итог этих совещаний вполне для меня выяснился, когда один из следователей обратился ко мне со следующей, шитой белыми нитками, речью:
– Нас с вами разделяет только терминология. Вы говорите: "со мной знакомы...", мы говорим: "вокруг вас группируются"... Из ложной скромности вы отказываетесь принять вторую формулировку, мы же только ее считаем соответствующей действительности. Каждый протокол подписываете не только вы, но и мы. Вы не можете подписать нашей формулировки, {117} мы – вашей. Поэтому предлагаем вам такой выход:
параллельно будет вестись два протокола, один – выражающий точку зрения следствия, другой – выражающий вашу точку зрения на те же самые вопросы. По старой терминологии – первый будет суммировать в себе взгляд "прокуратуры", второй – взгляд "адвокатуры". Оба протокола будут подписываться обеими сторонами. По совокупности таких протоколов А и Б – высшая инстанция будет иметь возможность объективно взвесить все дело.
На такой способ ведения "дела" я (конечно, напрасно) согласился: если мне дается возможность высказывать свои взгляды на точку зрения следствия и всецело отвергать ее – то отчего же и не закрепить эти свои взгляды? Конечного результата всего "дела" решительно ничто не изменит: он уже предрешен. Когда тетушка в январе 1933 года (почему именно в это время – скажу ниже) решила начать "дело об идейно-организационном центре народничества", то ее адъютанты получили твердые задания, которые им надлежало выполнить. Анахронизмом звучат слова Некрасова:
На Литейной есть страшное здание,
Где виновного ждет наказание,
А невинен – отпустят домой,
Окативши ушатом помой.
Так было в добрые старые времена. Теперь "невинных" не отпускают домой, а сажают в изоляторы, в концентрационные лагеря, ссылают в Алма-Ату или Чимкент (знаю об этом как раз по "делу об идейно-организационном центре народничества"). "Виновных" – тоже. Эта "уравниловка" и делает четверостишие Некрасова анахронизмом.
Значит – шитая белыми нитками хитрость следователей ни на минуту не ввела меня в заблуждение: я прекрасно знал, что им нужны протоколы "А", то есть собственная их, заранее установленная точка зрения {118} ("твердое задание"!), и что протоколы "Б" не будут иметь ни малейшего веса и даже интереса для "высшей инстанции". Но не все ли это равно, раз дело и без того предрешено? Протоколы "Б" имеют вес – для меня, и этого мне довольно.
Теперь, когда все это "дело" имеет за собой уже годичную давность, я иногда жалею, что не избрал более простого пути – короткого письменного заявления, что, прекрасно уясняя себе задачи и цели всего этого "дела", от всяких дальнейших разговоров решительно отказываюсь. Конечно, это ни на волос не изменило бы результатов и итогов, – но при таком методе действий я был бы избавлен от всяких "протоколов" (и "А", и "Б"), и от сомнительного удовольствия ночных бесед со следователями, очень любезными молодыми людьми, но пустыми и сухими, как выжатая губка.
Перехожу однако к этим протоколам "А" и "Б". Первый же из них совершенно ясно вскрыл "твердое задание", полученное следователями: создать фиговый листок, который позволил бы стыдливо прикрыть тот факт, что в стране пролетарской диктатуры ссылают за идеологию и "неблагомысленность" совершенно так же, как и в странах диктатуры буржуазной. И тут и там стыдливость требует фигового листка, каким является "организационная группировка": если ее. нет, то ее надо выдумать.
И вот пример из первого же протокола "А". С первых месяцев революции 1917 года я дружески сблизился с М. А. Спиридоновой; октябрьские дни еще более закрепили эту дружбу. Когда после долгих лет советской тюрьмы М. А. Спиридонова очутилась в ссылке – в Самарканде, в Ташкенте, потом в Уфе, – мы стали обмениваться письмами, чаще всего – открытками, раз-два в год всего-навсего.
Я посылал ей новые свои книги. Раз или два, узнав о ее болезни и трудном финансовом положении, послал ей небольшой денежный перевод. Делал все это нисколько не {119} таясь, прекрасно зная, что все до одного письма наши внимательно читают перлюстрационные тетушкины "красные кабинеты", находящиеся при каждом почтовом отделении. Но считал бы постыдным для себя отказываться от былого знакомства и былой дружбы страха ради иудейска, – и теперь, хоть без всякого удивления, но и без всякого уважения смотрю на былых знакомых и "друзей", того же страха ради трусливо вильнувших в кусты, когда я очутился в ссылке. Но не в этом дело, а в том, как же формулировал протокол "А" изложенные выше факты? А вот как: "в течение ряда последних лет поддерживал постоянную связь с М. А. Спиридоновой и организовывал пересылку ей денег".
Недурно? Слово "организовывал" я отказался принять, и следователь заменил его словом "устраивал". Bonnet blanc, blanc bonnet.
И еще пример, особенно характерный тем, что вскоре вскроет последние глубины "обвинительного акта". С видным представителем "центрального" эсерства Е. Е. Колосовым я случайно встречался лишь несколько раз, в переписке с ним не состоял. Поэтому меня очень удивила настойчивая просьба следователей припомнить, с кем именно заходил ко мне Е. Е. Колосов (еще до изоляторов и ссылок) в Царском Селе в середине двадцатых годов? Вспомнить я не мог. Тогда следователи сами напомнили мне: с А. В. Прибылевым, старым народовольцем и каторжанином. Вспомнил – верно. Следователи откуда-то и на этот раз были хорошо осведомлены! Но все же меня удивляло – отчего они так подчеркнуто занесли в протокол этот факт? Что в нем было особо криминального? И отчего особый протокол был посвящен допросу о моих знакомствах со старыми народовольцами – милым и вечно молодым душою А. В. Прибылевым, первомартовкой А. П. Прибылевой-Корба, В. Н. Фигнер, М. П. Сажиным и другими? И отчего были взяты у меня письма В. Н. Фигнер? Все это анекдотически разъяснилось лишь впоследствии.
{120} Не буду умножать примеров, приведенных достаточно. Скажу лишь еще об одном обстоятельстве, тоже немало меня удивлявшем. Следователи сами составили список левых, центральных и правых эсеров, с которыми я был знаком (а с кем из них я не был знаком в 1917-1918 годах?), и с которыми "поддерживал связь" (то есть попросту – был знаком) и в настоящее время; среди этого списка из пяти-шести человек первым, конечно, значился Д. М. Пинес, но тут же за ним, к моему удивлению, шел А. И. Байдин, о котором поэтому здесь несколько слов. Этот очень симпатичный человек, отбыв за свое эсерство сроки сидения в изоляторах, получил в конце двадцатых годов разрешение жить в Петербурге. Он и служил здесь библиотекарем сперва в одном, потом в другом сельскохозяйственном институте, одно время проживал в Царском Селе. Но даже проживая в соседстве со мной – бывал у меня крайне редко, а переселившись в Петербург – и совсем исчез из вида. Зная, однако, его страстную любовь к цветам (как и к книгам), я был уверен, что непременно увижу его в каждом мае месяце, когда в нашем саду вокруг дома пышно расцветала сирень. И действительно, в это время он всегда появлялся на нашем горизонте и уезжал, обремененный огромным букетом. В остальное время года бывал у меня раз или два, а до моего юбилейного чествования я не видал его около года – с прошлого мая. Очень меня удивляло поэтому, отчего следователи не раз и не два упорно допытывались о моей "связи" с А. И. Байдиным; ничего интересного не мог им сказать, кроме эпизодов с букетами сирени, которые, однако, не попали в протоколы "А". Разгадка появилась тогда же, когда и разгадка интереса следователей к народовольцам. Тогда выяснилось, почему следователи допрашивали, меня о "связи" с А. А. Гизетти, который в это время был уже два года в ссылке в Коканде (с удивлением увидел я его уже в марте месяце в коридоре перед следовательскими комнатами, {121} привезли из Коканда!). Никогда не был я с ним в переписке, а после революции, когда он обрушился на меня сердитой статьей за мою "левизну"", отношения наши были вполне прохладные; за последние годы они выправились, но без всякой близости. Бывал у меня раза два-три за лето, когда все бывают в Царском Селе. Характерно, что за все эти годы у нас с ним ни единого раза не было разговора на политические темы, – разговоры велись исключительно на темы литературные. Тем не менее, в протоколах "А" была тщательно зафиксирована моя "связь" с А. А. Гизетти.
VIII.
В протоколах "Б" я имел возможность самым решительным образом отвергать не факты, а освещение фактов в протоколах "А". Поддерживал ли я "связь" с пятью-шестью бывшими эсерами? Совершенно настолько же, насколько и с десятками бывших меньшевиков, анархистов, кадетов – вплоть до большевиков и до беспартийных, так как знакомых у каждого из нас много. Но называть эту "связь" – "организационной группировкой" столь же бессмысленно, как вечерний чай в кругу семьи и друзей называть нелегальным подпольным собранием. Могут быть и такие "чаи", но ни у меня, ни у моих знакомых никогда их не бывало. "Организационная группировка" по отношению ко мне – бездарно вырезанный фиговый . лист, который никого не обманет. И к чему такая стыдливость? Пролетарская диктатура должна была бы поступать смелее, заявляя открыто: да, сажаю в тюрьмы и ссылаю не только за "организацию группировок", но и за идеологию, за инакомыслие.
Инакомыслия своего я никогда и ни перед кем не скрывал, – не имел основания умалчивать о нем ив протоколах "Б". И как раз третий "протокол" был целиком посвящен этому моему инакомыслию. Кстати сказать: протоколы третий, четвертый и пятый {122} были исключительно протоколами "Б" и не имели своих двойников "А": там, где дело шло об идеологии, а не о мифической "организационной группировке" – перо, чернила и бумага предоставлялись в исключительное мое распоряжение. Первый протокол ("трамплин") наоборот, не имел своего двойника "Б". Наконец, протоколы второй, а также шестой и седьмой (написанные в Москве, о чем ниже) были двойными.
Интересно отметить, что следователи (все те же Бузников и Коган), писавшие шестой и седьмой московские протоколы "А", с таким трудом составляли их, так много вычеркивали и перечеркивали, что, утомившись к концу ночи, просили меня перебелить их начисто. Я это сделал, после чего тут же написал и протокол "Б". Каюсь в своей наивности: лишь потом мне подумалось, что причиной следовательского утомления могло быть желание представить эти написанные моею рукою протоколы "А" – за протоколы "Б", а последние просто бросить в корзину. Но и то сказать – кто мог помешать им и без этого кунстштюка (фокуса) бросить в корзину протоколы "Б"? Их рука – владыка.
Возвращаюсь однако к третьему протоколу, в котором должна была быть обнаружена моя неблагомысленность. Говорить в условиях тюремного сидения о моем "отношении к советской власти" – я отказался еще на первом допросе; но на вопрос, почему с точки зрения моей "идеологии" неприемлемы многие пути и методы современной социальной системы – мог ответить с полной определенностью. Я сделал лишь одну оговорку: я – не политик и никогда им не был, политический жаргон мне совершенно чужд, а потому говорить я буду тем языком, которым вот уж тридцать лет говорю в своей литературной деятельности. И о четырех основных пунктах современной жизни – диктатуре, коллективизации, индустриализации и культурном строительстве – я высказываюсь со своей основной точки зрения, являющейся фундаментом социальной философии Герцена, Чернышевского, {123} Лаврова и Михайловского. Это основное положение – "человек-самоцель", критерий, прилагаемый ко всем практическим вопросам.
Конечные цели коммунизма – бесклассовое общество, уничтожение государства – вполне соответствует норме "человек-самоцель"; методы и пути большевизма для достижения этой цели – резко ей противоречат, а поэтому для меня и неприемлемы.
Диктатура? – Несомненная гибель десятков миллионов для проблематического будущего благоденствия человечества. Коллективизация? – Родная дочь диктатуры. Индустриализация? – Машинофобия настолько же далека от нормы "человек-самоцель", как и машиномания. Но когда в жертву последней приносится человек, когда в жертву национальному богатству приносится народное благосостояние, то индустриализация становится в противоречие с основной нормой. Все дело – в методах и путях для достижения конечной цели. Представьте себе, что с целью увеличить народонаселение страны, государство ввело бы во все большие города дивизии войск и велело бы солдатам изнасиловать всех девушек города. Цель была бы достигнута, но что сказать о пути к ней? Видно не всегда цель оправдывает средства.
Наконец, последний пункт – культурное строительство. Если в первых трех вопросах может казаться спорным – достигнет или не достигнет такими путями государство поставленных целей, то в вопросе о культурном строительстве и спора быть не может о полной безнадежности построить культуру методами диктатуры. Само большевистское правительство убедилось в этом, когда вынуждено было в апреле 1932 года уничтожить всяческие РАППы – ассоциации пролетарских писателей, – пытавшиеся "администрировать" в области литературы: плоды таких попыток оказались кислыми и горькими. То же самое было и в области музыки и в живописи; искусство – свободно и на штыках сидеть не умеет. Можно {124} декретировать в области культурного строительства все, что угодно, но собрать лишь горькие плоды лакейства, бездарщины и всяческого приспособленчества. Норма "человек-самоцель" оправдывает себя в этой области с бьющей в глаза очевидностью.
То, что здесь я суммирую в нескольких строках – в третьем "протоколе" изложил я на четырех листах, прибавив на пятом, в виде заключения, и некоторые практические выводы, вытекающие из этих теоретических положений. Действительно, если все это так – "так что же нам делать?" Сложить руки или бороться? А если бороться – то как? Устраивать "организационные группировки"? Подпольные кружки? Террористические организации? Вести нелегальную пропаганду среди разных слоев населения? При создавшихся в Европе (и во всем мире) условиях, все эти былые методы борьбы одинаково бесплодны и даже вредны.
Мы привыкли мыслить все еще старыми, "довоенными" категориями, в то время как мир перевернулся на своих основаниях, сошел со своей оси – и лишь Гамлеты от революции могут думать, что прежними методами можно прийти к каким-либо результатам. "Народничество – это социализм, социализм – это демократия", а в итоге войн и революций нашей эпохи демократия погребена, быть может, на весь ХХ-ый век под обломками рухнувших миров. Все политические партии сыграли свою роль – и, впредь до воскресения демократии, не воскреснут; воскреснет же она лишь в итоге ряда новых мировых войн. Мировая война между двумя станами диктатуры – неизбежна, но наше место – au dessus de la melee. Стан фашизма буржуазной диктатуры – враждебен нам и по целям и по методам действий; стан коммунизма неприемлем по методам.
Бесплодно вести с этими методами борьбу путем старых приемов; говоря словами Герцена – нелепо ставить себя в положение человека, желающего подняться по лестнице в то самое {125} время, когда с нее сходят сплошным и сомкнутым строем шеренги солдат. Значит – стать в сторонке и сложить руки? Нет, но делать свое дело. Это дело теперь, при новых условиях и задачах, заключается единственно в работе над старыми и вечными культурными ценностями. Надо не лакействовать, не приспособляться, не чего угодничать, а делать в своей области ту работу, которая переживет и диктатуру, и коммунизм, ибо оба они – лишь переходные формы (что оба и сознают в наиболее видных своих представителях). О себе скажу: как ни скромно мое дело, но в области "культурного строительства" оно ближе к подлинной духовной революции, чем устройство десятка "организационных группировок".
Мысли эти я высказывал всегда и всем, в том числе и тем немногим молодым людям, не мифическим меккопоклонникам, – которые спрашивали меня:
"Так что же нам делать?" Написал я это и на заключительном пятом листе третьего "протокола". Но этот последний лист следователь отказался "принять", заявив, что это им "неинтересно". Позвольте – как это так: неинтересно? Для объективного следствия это был бы самый интересный пункт. Не говорю уже о том, что этим нарушалось основное условие: протоколы "Б" выражают мою точку зрения, а вовсе не то, что интересно или неинтересно для следователя. Но я не стал настаивать: к чему, раз вообще все протоколы "Б" могут быть отправлены в сорную корзину? Однако, мне захотелось сделать с этим вопросом (о "практике") experimentum crucis, – и я сделал его в следующем же протоколе.
Впрочем нет, не в следующем, так как следующий – не и в счет: это был маленький "протокольчик", в котором излагалось, с кем именно из старых народовольцев я знаком (почему, однако, "знаком", а не "поддерживаю связи"?), давно ли познакомился, часто ли вижусь и переписываюсь. Меня все еще удивляло это никчемное любопытство. Знаком давно {126} с В. И. Фигнер – с 1912 года, с А. В. Прибылевым и с другими – позднее, в переписке состою, письма взяты при обыске. Чего же еще надо? Лишь через месяц выяснились глубокомысленные причины этого непонятного любопытства.
Через несколько дней последовал протокол четвертый. Третьим высшее начальство осталось неудовлетворенно: слишком необычный язык, слишком странная формулировка, какие-то "нормы", какой-то "человек-самоцель". Нужно совсем другое: подчеркнуто политическое выражение тех же самых основных мыслей.
"Ваш единомышленник, Д. М. Пинес, написал целый ряд листов на эти же темы, но с политической, а с не социально-философской точки зрения; то же самое мы желали бы получить от вас", – сказал мне следователь.
Не без иронии я предложил ему следующий выход: пусть он даст мне эти листы, а я, прочитав их, припишу в конце: "сию рукопись читал и содержание оной одобрил", – и подпишусь.
Следователь обрадовался такому выходу, но все же побежал советоваться с начальством; вернулся немного сконфуженный и заявил, что такой образ действий признан неудобным. Все-таки он очень просит меня хотя бы несколько, развить точку зрения предыдущего протокола. – Отчего бы и не развить? На эти темы можно написать не один том. И я стал писать "протокол четвертый".
Боюсь, что и этим своим писанием я совершенно не удовлетворил следователя: форма четвертого протокола была отнюдь не протокольная. Я припомнил содержание одного ночного разговора именно на такие темы (диктатура, коллективизация, индустриализация, культурное строительство); он имел место с год или два тому назад. И вот теперь, в четвертом протоколе, я изложил сущность этого разговора, даже назвал имена собеседников. Последнее сделал {127} намеренно и тоже не без иронии: пусть эти собеседники заслужат за свою благомысленность, если и не орден Красного Знамени, то, по крайней мере, доброе мнение тетушки.
Дело было так. В декабре 1930 года, на именины В. Н., собрались к нам многочисленные "друзья и знакомые"; вечерний чай и ужин затянулись до трех часов ночи, так как добрых четыре часа подряд продолжался оживленный спор на те самые темы, которые теперь столь интересовали следователей. Гостей было много, но деятельное участие в этом споре принимали только четверо царскоселов.
Прежде всего – Андрей Белый, проживавший с женою у нас весь этот год. Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать ее непримиримые политические разногласия; не то, чтобы черная кошка пробежала между нами, но черный котенок не один раз уже пробовал просунуться, – с тех пор, как в книге "Ветер с Кавказа" Андрей Белый сделал попытку провозгласить "осанну" строительству новой жизни, умалчивая о методах ее. Вторым был Петров-Водкин, старый приятель, самый большой из наших художников, но в области мысли социально-политической – путанная голова. К тому же – "трусоват был Кузя бедный", и потому приспособлялся, как мог, ко всем требованиям минуты, стараясь найти какое-нибудь теоретическое оправдание для своей трусости. Третьим был ни друг, ни приятель, ни даже просто хороший знакомый Алексей Толстой.
Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом, ходячее подтверждение мнения Пушкина о поэзии, совершенно беспомощный в вопросах теоретических, всю жизнь однако умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло. Разумеется, он был теперь самым верноподданейшим слугою коммунизма. Четвертым собеседником был, как принято говорить, "пишущий эти строки". Вмешивались в спор и другие гости, но я их не называю, во-первых, потому, что {128} ограничивались они немногими словами, а, во-вторых, и потому, что не все их высказывания были достойны ордена Красного Знамени. Спор вели четверо, и притом – трое против одного. Что говорили трое – ясно из приведенных выше их характеристик. Что говорил четвертый – об этом можно сказать подробнее.
Говорил же я следующее. Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды – значит именно лгать. Вот не так давно явились ко мне четыре начинающих писателя, авторы коллективной книги о Мурманском крае. Они узнали, что я отрицательно отнесся к их полупублицистическому, полухудожественному произведению и приехали ко мне поговорить на эту тему. Я сказал им, что бывают эпохи, когда писатель не имеет права быть публицистом, ибо если можно сказать только полуправду, то она будет вреднее и постыднее полной лжи. Уж лучше тромбонно провозглашать "гром победы раздавайся!" – как это и делают девять десятых современных писателей, – чем монотонно расхваливать лицевую сторону медали, не имея возможности сказать хотя бы одно слово об оборотной стороне.
"Индустриализация" лицевая сторона медали, "коллективизация" и миллионы ее жертв – сторона оборотная. Ты ничего не смеешь сказать о последней? Молчи же и о первой: бывают эпохи, когда писатель обязан не быть публицистом.
Но все, что касается публицистики, относится и вообще к литературе, и вообще к искусству. Художник должен быть целомудренным в выборе темы и в формообразовании ее. Порнография – детская игрушка по сравнению с тем разлагающим души социально-политическим ядом, который особенно заманчив в художественных произведениях и может отравить иной раз целое поколение молодежи. Вот где именно евангельское слово о соблазне малых сих: {129} лучше бы жернов повешен был на шее его и потонул бы он в пучине морской. Лучше бы потому, что ведь впоследствии, когда придет время суда истории, жернов осуждения будет повешен на имени этого художника. Кукольники и Булгарины, источая яд патриотической лжи, благоденствовали при жизни, но кто позавидует их участи? Но полуправда – хуже лжи: она заливает гноем души несчастной молодежи. Зачем же вам, художникам слова и кисти, вступать на этот гибельный путь? Для персональных пенсий, для тетушкиных пайков, для житейского благоденствия? Все это – тлен и прах; да много ли нам всем осталось жизни? Ведь нам четверым уже больше двух сотен лет. Всем нам вместе не осталось быть может прожить и полстолетия. Да и не в этом дело, а в том лице каждого из нас, которое мы предаем и продаем за чечевичную похлебку житейского успеха; а оно дороже не только всякого благоденствия, но и самой жизни.
И – заключение: надо ли нам, писателям и художникам, не имеющим возможности рисовать обратную сторону медали, вообще складывать руки и отказываться от работы? Конечно, нет. Андрей Белый может писать не "Ветер с Кавказа", а следующие тома романа "Москва"; Петров-Водкин может писать не "Смерть комиссара", а превосходные свои натюрморты; Алексей Толстой может писать "Петра", а не беспомощные публицистические статейки. Что касается меня, то мне цензурой заказаны пути критической, публицистической, социально-философской работы, но остался путь историко-литературных исследований. Если цензура преградит мне и этот путь – перестану писать, сделаюсь корректором, техническим редактором, сапожником, кем угодно, но только не писателем, который готов поступиться своим "я" ради мелких и временных интересов. Ведь "временно бремя и бременно время!" Останьтесь же сами собой. Не будем ни Личардами верными, бегущими у стремени хозяина, ни Дон-Кихотами, воюющими с {130} ветряными мельницами. Политическая борьба с коммунизмом бессмысленна и вредна: но ликующая осанна – позорна и постыдна.
Так говорил я тогда, так написал (гораздо подробнее, чем здесь) и теперь, в четвертом протоколе. Прочитавший его следователь – вновь "не принял" последней страницы, где речь шла о ненужности и вредности борьбы с коммунизмом: "Не представляет интереса". Неправда ли интересный факт? Ехреrimentum crucis блестяще удался. Я решил при случае повторить его и в третий раз.
Случай представился очень скоро. Через несколько дней я вновь был приглашен на беседу со следователями, которые предложили мне написать свое мнение по следующему неожиданному вопросу: какими путями народничество может проникать и проникает в широкие круги молодежи? Отвечать было очень нетрудно. Прежде всего – совершенно ясно, что при современных политических условиях целиком отпадают всякие возможности пропаганды и агитации, устной и письменной; если же где-либо такие ручейки и пробиваются, то они так ничтожны, что вряд ли с ними можно серьезно считаться. Этого мало (и тут я намеренно поставил в третий раз свой поучительный проверочный эксперимент) : если бы даже такая политическая борьба была возможна, то она была бы в то же время никчемна и даже вредна. Мотивировка – та самая, которая была в конце (не принятого) протокола третьего. Однако, имеются на деле не ручейки, а полноводнейшие реки, которые до сих пор безвозбранно текут по равнине русской литературы и из которых может утолять жажду каждый желающий. Это – ни мало, ни много – вся русская литература второй половины XIX века.
Во всех библиотеках, во всех читальнях можно получить пока еще не запрещенные сочинения таких величайших представителей народничества, как Герцен или Чернышевский. Михайловский – запрещен и изъят; {131} теперь благодарю за честь!– изъят и запрещен также и я: жалкая компенсация! Запретите тогда уж и Глеба Успенского, и Салтыкова-Щедрина, либо постарайтесь перекрасить их в "марксистов" (этим тупоумным делом уже заняты юные марксистские литературоведы). А Лев Толстой, анархизм которого так близок к левому народничеству! Попробуйте-ка преградить плотиной эту Ниагару! Вам надо изъять из библиотек всю русскую литературу от Герцена до Льва Толстого включительно; а если не можете или стыдитесь (почему бы, однако, не изъять, стыд не дым, глаз не выест), то и не удивляйтесь, что народничество проникает и будет проникать в широкие круги молодежи.
Таков был протокол пятый (и пока что последний). Как я и ожидал – на этот раз следователь отказался "принять" начало его, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы против коммунизма. Мотивировка – прежняя: "Это нам не интересно и к делу не относится"...
Очаровательно, неправда ли?
Перечитывая в те же дни "Войну и мир", я с удовольствием отметил описание Л. Толстого французского военно-полевого суда над поджигателями Москвы в 1812 году: как это изумительно похоже на тетушкину юрисдикцию! Закончу этой цитатой:
"... Впрочем эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, т. е. к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь, куда ей угодно... Единственная цель этого собрания состояла в том, чтобы обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не {132} нужно было и уловки, и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности".
До чего же этот военно-полевой суд маршала Даву похож на суд теткиных сынов!
IX.
Согласно юрисдикции маршала Даву и тетушки – обвинительный акт не вручается обвиняемому, который остается в полном неведении о его содержании. Однако, последнее мне стало известно: завершив круг допросов (скольких десятков неизвестных мне человек, прикосновенных к моему "делу"?), следователи собрались ехать в Москву для доклада всего "дела" в высших тетушкиных инстанциях. Это было уже месяца через два после моей юбилейной ночи. В самый вечер отъезда следователи пригласили меня для разговора на тему – не имею ли я против них лично каких-либо заявлений или жалоб. Что же мог я иметь против двух этих несчастных молодых людей, добросовестно выполнявших данное тетушкой "твердое задание"? Разговор поэтому был краткий.
Но тут же следователи порадовали меня сообщением, что "дело" для них теперь "совершенно ясно". Ясным было оно и для меня; с тем большим интересом выслушал я дальнейшее сообщение следователей, – и услышал вещи поистине удивляющие неожиданностью и богатством фантазии. Точки зрения "А" и "Б" должны были расходиться, это само собою разумеется, но лишь в пределах разницы между формулами "поддерживал связь" и "был знаком" (если ограничиться этим случайным примером). Оказалось однако, что на этой разнице можно вышить такие богатейшие узоры фантазии, что им позавидовала бы сама Шехерезада. Вот это "дело об идейно-организационном центре народничества" в сжатом изложении следователя, и вот, значит, содержание не врученного мне обвинительного акта:
{133} Народничество продолжает свое существование, и притом не только в мировоззрительном содержании, но и в форме организационно-групповой. Основными передатчиками идейного, социального и политического содержания от старого народничества к новому являются старые народовольцы, носители народнических традиций. Эти основные истоки приходится однако оставить в покое, ибо неудобно трогать ветеранов с такими заслугами перед революцией. К тому же – почти все они люди восьмидесятилетние, скоро и сами сойдут со сцены, можно и подождать. Но остается фактом – нежелательное влияние их идей и представляемой ими традиции на людей следующего за ними поколения. И не случайно то обстоятельство, что главный идеолог народничества XX века, писатель Иванов-Разумник, состоит в близком знакомстве и "поддерживает связь" с рядом наиболее выдающихся старых народовольцев.