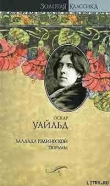Текст книги "Тюрьмы и ссылки"
Автор книги: Разумник Иванов-Разумник
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
По его рассказам – несколько лет подряд, в Москве, вызывали его на вечеринки, то к Сталину, то еще чаще к Ворошилову: эстетические вкусы в Кремле стоят как раз на таком уровне, чтобы услаждаться игрою виртуоза на баяне. За последние перед арестом два-три года Гармонист, по его словам, приглашался к кремлевским владыкам не менее раз шестидесяти. "Бывало по вечерам, а то и в середине ночи – за мной автомобиль: везут на домашнюю вечеринку к Климу (Ворошилову), либо к самому Сталину. Поиграешь им, а потом с ними же да с гостями за одним столом и ужинаешь"...
Хабаровский НКВД обвинял Гармониста по этому поводу в террористическом умысле: он-де ездил к Ворошилову и Сталину каждый раз с револьвером в кармане, и если не произвел террористического акта, то лишь потому, что каждый раз мужества нехватало – все шестьдесят раз подряд. Чтобы Гармонист сознался в этом "задуманном, но не совершенном преступлении", к нему обратились с обычными аргументами в виде резиновых палок, а он заупрямился и сознаться не пожелал. Били его нещадно. Пыток не применяли: было простое {274} избиение. Во время одного из таких "допросов" ему переломили обе ноги ниже колен и замертво отнесли в лазарет. Вышел он оттуда на костылях – и был этапным порядком отправлен в Москву, ни в чем не сознавшийся. В нашей камере Гармонист каждую пятницу неустанно строчил заявления на имя Ворошилова, в твердой надежде, что "Клим не выдаст и выручит". С одинаковым успехом он мог бы адресовать послания и на луну. Следователь, конечно, просто отправлял их в сорную корзину. Месяца через три меня увели из этой камеры и дальнейшая судьба Гармониста мне неизвестна.
Но эти "допросы" имели место в далеком Хабаровске. Нам незачем было ходить так далеко: эти юридические методы были у нас перед глазами.
В апреле 1938 года меня из камеры No 45 повезли на допрос из Бутырки на Лубянку, где я неделю провел в битком набитом "собачнике". Рядом со мной на голом каменном полу лежал мой сокамерник, пожилой русский немец, коммунист, "красный директор" треста "Пух и перо" (я прозвал его, по Кузьме Пруткову, "Daunen und Federn"). Обвиняли его по пункту 6-му статьи 58-ой – в шпионаже, а заодно уж и во вредительстве, и стали его ежедневно водить из собачника на допросы в следовательскую камеру. Возвращался он оттуда иногда на собственных ногах, а иногда и на носилках. Пыток не было, было простое избиение. В собачнике была дикая жара и теснота, мы лежали в одних рубашках, я – спиной к спине с несчастным "Daunen und Federn". Моя рубашка стала прилипать к телу, я думал – от пота, оказалось – от крови, обильно сочившейся из его исполосованной спины. Нас вместе с ним отвезли на "Черном вороне" обратно "домой", в Бутырку, где поместили в новой камере No 79, откуда его немедленно же отправили в лазарет. Недели через две-три он снова появился в камере тенью прежнего человека, ходил с трудом, кашлял кровью, сломанные ребра еще не срослись.
{275} Пришлось снова положить его в лазарет, откуда он уже не вышел: месяца через два мы узнали из нашей банной почты о его смерти.
Майор охранных войск НКВД, приволжский немец Сабельфельд, сидевший в это же время в камере No 79, подвергался таким же "допросам" уже в самой Бутырке зачем так далеко возить! Еще не так давно сам он, хотя и по-иному, крутобойничал, а теперь пришлось испытывать все это на собственной шкуре. Обвинялся в шпионаже в пользу Германии. С "допросов" возвращался в камеру избитый и даже со следами юридических методов допроса на лице, что, вообще говоря, редко бывало: следователи предпочитали работать над менее видными частями тела, а Сабельфельд иной раз возвращался из следовательской с опухшим лицом, и с синяками под глазами, с исцарапанными щеками. Долго терпел, не сознавался – и, наконец, доведенный до отчаяния, решил объявить голодовку. Голодал дней десять (очень трудное дело в общей камере, где кругом едят) и был вызван к следователю:
– А, ты голодовкой запугать нас вздумал! Не надейся, голубчик, не запугаешь! Издыхай с голода! А впрочем – открой рот!
И густо харкнул в рот Сабельфельда:
– Вот тебе питание!
Вернувшись в камеру, Сабельфельд решил покончить самоубийством. Когда вся камера ушла на прогулку и остались в ней только я да двое очередно наказанных "без прогулок", он подошел ко мне и тихо проговорил, что "покончил самоубийством": только что проглотил кусочек стекла, незаметно подобранный на дворе во время прогулки. В ответ я рассказал ему о случае, когда за несколько лет перед этим мой хороший знакомый, писатель, пытаясь покончить самоубийством в тифлисском застенке, разбил на кусочки, разжевал и проглотил электрическую лампочку, окровавил рот, исцарапал пищевод и {276} кишки, и остался жив. (Эту изумительную историю я рассказываю в другой книге). Посоветовал я Сабельфельду не думать о самоубийстве и прекратить голодовку, что он и исполнил. Вскоре был взят "с вещами" и бесследно исчез с нашего горизонта. Почему-то думали, что он переведен в Лефортово.
К слову о самоубийствах: в моих камерах, кроме случая с Сабельфельдом, знаю еще две попытки и обе неудачные. В самом начале 1938 года, в камере No 45, как-то раз за вечерним чаем, среди сравнительной тишины, нас поразили какие-то странные хрипы, доносившиеся из "метро". Бросились смотреть – и вытащили из-под нар полумертвого руководителя нашего бухгалтерского кружка. Тоже доведенный до отчаяния "допросами", он придумал такой род самоубийства: завязал шею жгутом носового платка, просунул у затылка между платком и шеей деревянную ложку и стал ее вращать, туго затягивая жгут. Если бы мы не услышали его хрипов, то, может быть, он и довел бы до конца свою попытку.
Другой случай произошел через полгода в камере No 79. В августе месяце меня вызвали на допрос, причем я был весьма удивлен способом моего эскортирования. Бывало – приходил дежурный из следовательского коридора, выкликал фамилию и предлагал идти, сам шествуя сзади. Теперь же явились за мною три архангела, двое крепко схватили меня с двух сторон за руки и повлекли, а третий замыкал шествие. Вернувшись с допроса в камеру, я рассказал об этом удивленным товарищам, но с этого дня всех стали водить на допросы с таким же церемониалом. И еще одно событие случилось в тот же день: не вернулся с допроса в камеру полковник Лямин, давно уже измученный истязаниями на допросах. Так мы его больше и не видали, но из банной почты узнали, в чем дело. Оказалось вот что: Лямина вел дежурный на допрос, надо было спуститься по лестнице в нижний этаж. Лестницы в Бутырке, как и во всех {277} тюрьмах, обтянуты проволочными сетками, чтобы не было соблазна броситься в пролет. Но полковник Лямин избрал другой способ: он ринулся по лестнице вниз и с разлета ударил лбом о радиатор центрального отопления на лестничной площадке. (Незадолго до этого он прочел у нас "Трое" Максима Горького). Удар был недостаточно силен, он не разбил головы, но всё же Лямина замертво отнесли в лазарет, а по выздоровлении перевели в другую камеру. С этих пор и был введен новый церемониал с тремя архангелами.
VI.
Возвращаюсь однако к истязаниям. О "простых избиениях" я рассказал достаточно, перейду теперь к другим, более утонченным приемам пыток.
Соседом моим по "метро" и нарам в камере No 45 был военный доктор Куртгляс. Не очень твердо ручаюсь за фамилию, но ее можно было бы установить по телефонной книжке Москвы за 1937 год: последние годы доктор Куртгляс занимал должность старшего санитарного врача московского военного округа. Обвиняли его в прикосновении к известному заговору Тухачевского. Допросы с истязаниями, издевательствами, оскорблениями не привели ни к чему – доктор упорствовал и не желал "сознаться". Возвращаясь в камеру с допросов, измученный физически и морально, он часто говорил мне: – "Ну что там мучитель Достоевский! Мальчишка и щенок Федор Михайлович!". – Вскоре ему пришлось проделать опыт, который был бы, действительно, "сюжетом, достойным кисти" Достоевского.
Рано утром, сразу после побудки, в понедельник 3 декабря 1937 года, его увели на допрос, продолжавшийся шесть часов подряд и заключавшийся в том, что он все это время молча простоял около стены ("не сметь опираться"!), а следователь сидел за письменным столом, разбирал бумаги, перелистывал дела, {278} занимался, и лишь изредка приговаривал: – "Ну, что, мерзавец, не хочешь сознаться? Ничего, стой у стены, стой! Дай срок, скоро запоешь!". – В полдень дежурный отвел доктора к нам в камеру на обед, с приказанием быть готовым через четверть часа, а сам все это время наблюдал в "глазок". Доктор наскоро пообедал – и его снова увели на допрос. Вернулся он к ужину, часам к шести вечера, и рассказал, что "допрос" заключался в прежнем стоянии у стены, только следователь был другой, сменивший первого. Это называлось системой допроса "конвейером": следователи сменялись через каждые шесть часов, днем и ночью, и пропускали через такой своеобразный конвейер свою жертву.
После спешного ужина снова отведенный в следовательскую камеру доктор простоял в ней у стены всю ночь, двенадцать часов подряд, до шести часов утра вторника 4-го декабря, когда был снова отпущен в нашу камеру на четверть часа – пить чай. Истомленный сутками стояния у стены без сна, доктор попробовал прилечь на нары – и был сейчас же поднят окриком следившего за ним в "глазок" специального дежурного: "не сметь ложиться!" – после чего был немедленно же уведен в следовательскую для продолжения пытки конвейером.
Так прошли и понедельник, и вторник, и среда – в сплошном стоянии и без минуты сна. Когда истязуемый невольно задремывал стоя и начинал шататься (опираться на стену было запрещено), то следователь вскакивал, дергал его за бороду, приводил в сознание и осыпал ругательствами и угрозами. В пятницу утром, простояв без сна полных четверо суток, доктор был как всегда приведен на четверть часа в нашу камеру. Он сказал мне: "Какой молодец моя жена! Ведь ухитрилась же пробраться в Бутырку и незаметно от следователя сунула мне в карман четверку трубочного табака! Только куда же я задевал ее, эту четверку?" – и он стал растерянно шарить {279} руками по карманам. Такие галлюцинации повторялись всю пятницу, пятый день конвейера и потом прекратились. Как доктор, он нашел средство хоть чем-нибудь поддерживать свои сломленные бессонницей силы: он набивал карманы кусками пиленого сахара, которым мы снабжали его в изобилии – и незаметно от следователя клал в рот кусок за куском, этим только поддерживаясь.
Суббота 8-го декабря и воскресенье 9-го прошли без всяких перемен – и все же доктор стойко выдерживал пытку (вот где, действительно, подходит слово "стойко"!) и ни в чем не пожелал "сознаться". Как долго еще могло продолжаться это истязание? В шесть часов утра понедельника 10-го декабря доктора Куртгляса привели, как обычно, в нашу камеру "на четверть часа". Как еще он мог двигаться, ходить, говорить – непонятно. Прошло четверть часа, полчаса, час никто его не вызывал, в "глазок" никто не подглядывал. Мы поняли: пытка, продолжавшаяся ровно неделю – закончена, конвейер прекратил свою работу. Мы уложили доктора на нары, накрыли его шубой, подложили самодельные подушки под голову – и он не мог заснуть. Лишь понемногу, день за днем, стал он приходить в себя, и все повторял:
"Мальчишка и щенок Федор Михайлович!"
От опытных тюремных старожилов мы узнали, что пытку лишением сна производят с разрешения прокурора НКВД не долее недели – таков закон (закон!!). Выдерживают ее немногие; доктор Куртгляс выдержал. Через месяц его взяли "с вещами" и, как мы узнали потом, перевезли в самую страшную из московских тюрем – в Лефортово.
В Лефортове, судя по рассказам, применялись и настоящие пытки (железные скребницы, ущемление пальцев и многое иное в этом роде), но только так как я о них знаю не от очевидцев, или, вернее, не от страстотерпцев, то и не буду говорить о них. Скажу только, что через год, когда я сидел в камере No 113, {280} в соседней с нами камере сидел знаменитый конструктор аэропланов – "АНТ" – А. Н. Туполев. Он рассказывал о себе следующее: его арестовали и привезли в Лефортово, подсадив в одиночную камеру к известному военному и партийному киту Муклевичу, который после недельных лефортовых "допросов" уже во всем "сознался". Муклевич стал убеждать Туполева "сознаться" на первом же допросе и развернул перед ним картину всего того, что его ожидает в случае упорства. Картина была, по-видимому, настолько убедительная (Туполев о ней не пожелал рассказывать), что несчастный "АНТ" не решился испытать на личном опыте то, что уже проделали над Муклевичем, и последовал совету последнего: на первом же допросе признался во всем том, что было угодно следователю. Его избавили от пыток и перевели в Бутырку, где он и ожидал решения своей участи.
Вспоминаю еще, как в лубянском собачнике, в ноябре 1937 года, я мимолетно встретился с одним бородатым инженером. Он только что вернулся с допроса и рыдал, как ребенок: ему сказали, что раз он не хочет сознаться, то его немедленно отправят в Лефортово – и пусть тогда он пеняет сам на себя. Через несколько часов его, действительно, увели из собачника.
Доктор Куртгляс попал в это страшное Лефортово. Что с ним там делали – не знаю, но через год я узнал от одного переведенного к нам в Бутырку из Лубянки, что доктор сидит в общей камере Лубянки, "во всем сознался" и ждет – расстрела или отправки в концлагерь, если не изолятор.
Еще один из этой жуткой картинной галереи: студент (фамилии не помню), обвинявшийся в участии в студенческой контрреволюционной организации. Он заболел ангиной в острой форме, с температурой до 40 градусов, и заявил корпусному о необходимости лечь в лазарет. Через полчаса за ним пришли и {281} повели, но не в лазарет, а в следовательскую, где его усадили за стол, дали перо в руки и предложили подписать протокол допроса с полным "сознанием". Он швырнул перо на пол, получил удар массивным пресс-папье по голове (вернулся в камеру с багровой шишкой на лбу), упал со стула и впал в забытье. Очнувшись, увидел себя снова сидящим на стуле, с пером в руке, перед открытым листом протокола. До трех раз повторялась эта история – и, наконец, его вернули в нашу камеру в полубессознательном состоянии. Лишь к вечеру он попал в лазарет, а когда недели через две вернулся из него, то никак не мог вспомнить и мучился сомнением – подписал он, в конце концов, или не подписал этот проклятый протокол?
"Василек" – его фамилия была Васильев – таково было ласковое прозвище одного нашего сокамерника (в камере No 79), очень милого человека, военного. Вообще надо сказать – военных среди нас было довольно много и, как правило, все они обвинялись в прикосновенности к "делу Тухачевского". Василек заслужил свое прозвище. – Это был нежный и с открытой душой человек лет тридцати, прекрасный товарищ, увлекательный рассказчик: он был специалистом по "высокогорным походам", брал приступом не один пик на Памире.
– Мы часами слушали эти его рассказы. Верил в людей и даже в черном старался находить белое. Палачей-следователей жалел: несчастные, исковерканные люди! А потом – не все же звери! Раз, вернувшись в камеру с допроса, избитый в кровь даже по лицу, он стал рассказывать нам не об истязаниях, а о том, "какой великодушный бывает русский человек"!.. Когда окровавленного Василька отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним, и, вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран – и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых {282} оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по-бабьи подперши щеку ладонью.
– Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем не сладко живется, а терпеть надо. Ну избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе теперь может еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?..
Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть ли не веселый: так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного...
Часто подвергавшийся на допросах избиениям и истязаниям, Василек ни в чем не "сознавался". Но однажды утром он вернулся с ночного допроса мрачнее тучи, лег на нары и до обеда молча пролежал, накрывшись с головой. Потом, немного успокоившись, рассказал нам, что во всем "сознался" – подписал нужный следователю протокол: выдержал десятки избиений – и не мог выдержать пустяка. Следователь повалил его на пол, таскал по полу за волосы и втиснул лицом в наполненную до краев плевательницу, тыкал в нее и приговаривал: "Жри, жри, мерзавец!". Этот "пустяк" переполнил чашу – Василек сказал:
"Довольно! подписываю ваш протокол!"
Такой же случай "морального воздействия" сломил волю и другого нашего сокамерника. С нами сидел молодой и пылкий грузин, Лордкипанидзе, сын того социал-демократа, который вместе с пятью партийными товарищами, членами четвертой Государственной Думы, был приговорен к каторге в связи с известным процессом 1915 года. Отец, не дождавшись революции, умер в саратовской пересыльной тюрьме, а сироту сына пригрел Ленин, сказав ему: "Партия будет тебе вместо отца"... Впрочем у него оставалась и мать. Она не нашла ничего лучшего, как в первые годы революции выйти замуж за слишком известного прокурора ГПУ Катаньяна, который усыновил пасынка, так что тот носил теперь грязное имя Катаньяна, {283} вместо чистого имени Лордкипанидзе. При такой высокой протекции юноша пошел далеко – и к моменту разгрома шайки Ягоды-Катаньяна занимал пост личного секретаря наркома легкой промышленности. Но в ежовские времена нарком попал в Лефортово, где во всем "сознался", а его секретарь Катаньян-Лордкипанидзе – в Бутырку, где ни в чем не сознавался. Мужественно переносил все допросы – и с чисто грузинской экспансивностью восклицал, что нет той пытки, которую он не выдержал бы: пусть убьют, а ложного сознания не получат! (Обвиняли в шпионаже). Но как и Василек– был повержен не большой горой, а соломинкой. Вернулся к нам в камеру после "сознания" – в истерическом припадке и долго не мог успокоиться, а потом рассказал: после обычных издевательств и избиений, следователь велел поставить его на колени и держать, а сам стал мочиться на его голову...
Восточная мудрость говорит: соломинка может переломить спину перегруженного верблюда...
А бывало, что переламывали спину и в буквальном смысле слова. Сидевший с нами летчик по прозванию "Миллион километров" долго подвергался в Пугачевской башне не пыткам, а простым избиениям. На последнем "допросе" ему так повредили позвоночник, что замертво отнесли в лазарет, где он пролежал месяцы, а потом попал в нашу камеру. Ходил он с трудом, согнувшись в три погибели, но утешался тем, что сидеть он еще может, а значит сможет сидеть еще и за рулем аэроплана. Кстати сказать – он был одним из немногих, несмотря на все истязания ни в чем не "сознавшихся". Таких из всей тысячи прошедших передо мной заключенных я насчитал всего двенадцать человек...
Не довольно ли этого кошмара? Я мог бы прибавить еще десятки портретов к этой жуткой картинной галерее, но ограничусь для концовки только двумя, и, начав с Хабаровска, закончу Асхабадом и Баку, чтобы показать, что по всему лицу земли советской {284} творились одинаковые преступления в эти страшные годы.
Поздним летом 1938 года появился в нашей бутырской камере No 79 капитан Димант, привезенный со спецконвоем из Асхабада после вынесенных там "допросов". Был обвинен в шпионаже, "сознался". Он был комендантом одной из многих крепостей, пограничных с Афганистаном и рассказывал нам много красочных и интересных историй из своей десятилетней боевой жизни (война с афганскими "шайками", иной раз численностью в десяток тысяч человек, никогда не прекращалась). Записать бы все эти рассказы – вышел бы целый том захватывающего интереса. Весною 1938 года капитана Диманта вызвали в Асхабад по делам службы. Он сделал 200 верст верхом и явился по начальству. Начальник посмотрел на Диманта и покачал головой:
– Старый боевой командир, а револьвер не в порядке, и запылен, и заржавел. Покажите-ка!
Изумленный Димант передал ему свой блестевший чистотою браунинг – и в ту же минуту на него напали, накинулись сзади, схватили за руки, отправили в асхабадскую тюрьму и в тот же день вызвали на допрос. Следователь предъявил ему обвинение в шпионаже в пользу Англии, а когда возмущенный Димант в резкой форме отверг это обвинение, следователь позвал четырех дюжих нижних чинов с резиновыми палками и во главе их сам приступил к острому ежовскому приему допроса. Димант пришел в ярость, а на беду их он был хорошо знаком с приемами борьбы джиу-джитсу. В результате "допроса" избит был не он, а следователь и четверо его подручных, заплечных дел мастеров. Один лежал без сознания получил удар ладонью плашмя в горло ("я боялся – не убил ли?"); другой корчился на полу и стонал от боли – получил полновесный удар ногой в пах; третий лежал врастяжку от "кнокаута", удара кулаком в подбородок; четвертый вопил от боли – {285} ему Димант в пылу борьбы вонзился зубами в мякоть руки повыше локтя и оторвал кусок мяса, после чего свалил на пол ударом кулака в живот; а после всего этого ("всё в полминуты кончилось") – избил следователя до потери сознания резиновой палкой и "превратил морду в кровавый бифштекс".
На шум сбежались, одолели Диманта, повалили, связали, пришел начальник отделения и составил акт о происшедшем. После чего можете себе представить, как били связанного Диманта. Унесли его без сознания в лазарет, вместе со всеми пятью жертвами системы джиу-джитсу.
Когда он немного поправился – стали продолжать такие же "допросы", принимая однако меры предосторожности: каждый раз связывали. Пыток не было, были простые избиения. Однако после одного из них – на одиннадцатый раз, когда его стали бить резиновой палкой по половому органу – он не выдержал и "сознался". После всего этого месяцы лежал в лазарете с отбитыми почками и мочился кровью, а когда выздоровел – был отправлен в Москву, где в нашей камере ждал решения своей участи.
К концу октября этого 1938 года подул какой-то новый ветер: мы стали замечать, что избиения происходят всё реже и реже, допросы начинают происходить без избиений. В первых числах ноября Диманта вызвали на первый в Москве допрос (месяца три просидел он у нас без допросов). Седоватый полковник НКВД начал вопросом:
– Скажите, товарищ Димант (товарищ! такого слова заключенные от следователей не слышали!), как вы могли сознаться в шпионаже?
– Я сознался на одиннадцатом допросе, – ответил Димант. – Разрешите доложить, что если бы такие же приемы допроса я применил к вам, то, быть может, вы сознались бы в чем угодно в первый же день допроса.
Полковник показал ему "дело", из которого {286} Димант узнал, что пока он сидел в Бутырке – в Асхабад был направлен военный следователь НКВД для рассмотрения его дела, что начальник асхабадского отдела, допустивший избиение (!) без разрешения начальника асхабадского НКВД (а с разрешения, значит можно?!) подвергнут взысканию, и что вообще вокруг этого дела в военных кругах поднят шум. Мы были очень рады за Диманта; ему повезло. Но как же с тысячами (миллионами!) других, столь же ни в чем неповинных Димантов? Они и до сих пор продолжают заселять собой изоляторы и концентрационные лагеря.
– В Туркестан вы, конечно, уже не вернетесь, – сказал в заключение полковник (а почему бы и не вернуться с полной реабилитацией?), – мы устроим вас на Дальнем Востоке...
Это – единственный известный мне случай из почти двухлетней тюремной жизни, когда "сознание" повлекло за собой не расстрел, изолятор или концлагерь, а вероятное освобождение. Впрочем, не знаю – через несколько дней после этого я покинул камеру No 79.
Около этого же времени, в конце октября или начале ноября, был привезен из Баку и попал в нашу камеру обвиненный тоже в шпионаже (на этот раз в пользу Турции) старый революционер, а потом член азербайджанского ЦИК'а Караев. Я провел с ним в общей камере не более недели, так что не слышал продолжения интереснейших его рассказов, но и слышанного было достаточно. Он, узнавая про московские, хабаровские и асхабадские истязания, только снисходительно улыбался и говорил:
– Ну, это что! Пустяки! Вот посидели бы вы у нас в Баку!
У него тоже был перелом ребер, его тоже били резиновыми палками, он тоже мочился кровью, но считал все это "детскими игрушками".
– А вот когда у меня содрали ногти на ногах, {287} и следователь топтал окровавленные пальцы тяжелыми каблуками, тут – запоешь! Это уже не игрушки!
И однако – он не "сознался", долго лежал в лазарете и был отправлен в Москву.
Довольно, слишком довольно! Заканчивая эти кошмарные страницы, хочу прибавить: истязаниям подвергались, разумеется, далеко не все допрашиваемые, только избранное меньшинство их. Для большинства достаточно было одних следовательских угроз, подкрепленных затрещинами и главное – криками и стонами из соседних следовательских камер, а также и рассказами страдавших на их глазах товарищей. Такие напуганные люди – большинство – "сознавались" легко, в роде А. Н. Туполева: будь что будет, лишь бы не было пыток. Впрочем, как мы уже знаем, пыток не было – были лишь "простые избиения".
VII.
О тюремных днях я рассказал много, о делах людей – достаточно. Пора теперь перейти, наконец, и к себе самому, к моим собственным "делам и дням".
После ареста и водворения в камеру No 45 настроен был я мрачно. Не только знал, что ежовское пленение это – "всерьёз и надолго", но был уверен и в большем: не сомневался, что на этот раз решено со мною так или иначе покончить. Расстрелять не расстреляют, а засадят в изолятор или в концентрационный лагерь "на десять лет без права переписки". И хотя законных причин для этого никаких нет, но мало ли можно придумать для этого причин незаконных: был бы человек, а статья найдется!
Юрисдикцию теткиных сынов я по опыту знал хорошо, чтобы не сомневаться в таком исходе своего дела, а потому был убежден, что на этот раз дело не ограничится тремя годами ссылки, что выхода на волю мне нет и не будет. А если так, то и решил – с самого же начала, с первого же допроса поставить вопрос {288} ребром и требовать быстрого совершения Шемякина суда. А что суд этот свершается теперь быстро – этому я был свидетелем весь октябрь месяц, первый месяц моего пребывания в тюрьме: десятками уходили люди из камеры после двух-трех незначительных допросов, уходили по этапу в концлагери, на место их приходили десятки других и уходили столь же быстро. Я думал, что и со мной покончат таким же ежовским темпом, – зачем тянуть?
В этом я ошибался – со мной не торопились. По закону (закону!!) предъявление обвинения заключенному должно быть сделано не позднее двух недель со дня ареста. Но вот в середине октября, две недели со дня моего ареста прошли, а на допрос меня не вызывают. Передо мной пестрым калейдоскопом проходят десятки и десятки вызываемых на допросы и отправляемых в концентрационные лагеря. Приходят новые десятки, чтобы испытать ту же судьбу. При допросах еще не прибегают к палочным доводам, незачем тратить силы для такой мелкоты: статья 58, параграф 10! Это всё – ежовская "вермишель", которую можно отцедить через следовательское сито в два счета и без применения сильно действующих средств. А что ни в чем неповинные люди эти пойдут заселять миллионами бесчисленные лагери – велика важность!
Но в калейдоскопе сменяющихся десятков (сотен!) лиц мы стали замечать в камере некое неподвижное ядро: люди, как тени, приходили и уходили, а ядро это оставалось на месте. Сотни прошли мимо, несколько десятков нас осталось. Мы все мало-помалу перезнакомились друг с другом, удивлялись – почему же это с нами тянут, и решили, что мы, остающиеся без движения – очевидно закоренелые преступники, с которыми и поступать будут более серьёзно. И действительно: всю человеческую вермишель отцеживали быстро, проводя через допросы тут же, в Бутырской тюрьме. А со второй половины октября мы стали {289} замечать, что отдельных членов нашего преступного ядра увозят допрашивать на Лубянку. Вызовут человека "без вещей" – значит на допрос, – а он исчезает на два-три-четыре дня. Потом возвращается и рассказывает довольно жуткие вещи о Лубянке, о "собачнике", о допросах. Вся камера разделилась на "бутырщиков" и на "лубянщиков", и надо сказать, что вторые завидовали первым: по крайней мере дела их решаются просто и быстро, а результат все равно будет одинаковый лагерь. Кандидатов на расстрел мы между собой не находили, и лишь позднее убедились в своей наивности.
Как бы то ни было, но прошло две "законных" недели – никто и никуда меня не вызывал; прошел и беззаконный месяц – товарищи поздравили меня со званием "лубянщика". И верно – прошло еще несколько дней и настал мой черед испытагь partie de plaisir на Лубянку. Это было 2-го ноября 1937 года, число очень мне запомнившееся, так как ночь со 2-го на 3-е ноября явилась одной из кульминационных точек моего тюремного чествования.
Рано утром 2 ноября меня вызвали "без вещей". Повели через двор на "вокзал", посадили в изразцовую трубу, держали в ней часа три. Потом повторение пройденного: явился нижний чин, велел раздеться "догола", произвел тщательный осмотр платья и белья, совершил по обычному ритуалу тюремную ектинью – "встаньте! откройте рот! высуньте язык!" – и ушел. Еще час ожиданья – и меня повели во двор к "Черному ворону". Он был по-видимому весь заполнен, все железные трубы-одиночки были уже заняты, – с открытой дверцей стояла лишь первая от входа кабинка, куда меня и втиснули. Ворон каркнул – поехали.
Приехали. Дверь "Черного ворона" открылась – мы во дворе Лубянской внутренней тюрьмы. Меня спускают по десятку каменных ступеней куда-то вниз, вниз, в глубокий, но ярко освещенный электричеством {290} подвал. Здесь я еще ни разу не был, это знаменитый "собачник", о котором знаю по рассказам уже побывавших здесь товарищей по камере. Прямо против входа – комендантская, там вносят меня в список собачника, краткая анкета (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, из какой тюрьмы прибыл), производят беглый наружный обыск, отбирают почему-то такую невинную вещь как очки – и уводят по коридору в назначенный мне номер собачника. Недлинный коридор тупиком; слева – четыре камеры собачника, справа – уборная и большая следовательская комната.