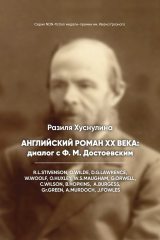
Текст книги "Английский роман ХХ века: диалог с Ф. М. Достоевским"
Автор книги: Разиля Хуснулина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
«Преступлению и наказанию» Уайльд дал расширительную трактовку и мотивировал поведение, психологию Дориана Грея не условиями его жизни, а потребностью свободного проявления желаний, продиктованными эгоистическими стремлениями. В итоге общая картина, нарисованная в романе, оказывается иной. Центральное событие – преступление – отнесено в романе Уайльда в самый конец произведения, и многие события, находящиеся на его переднем плане, особенно вся линия Дориана, непосредственно не готовят тему преступления и мук совести, хотя героя и угнетает «смерть собственной души», он хочет «сознаться в убийстве», «отдаться в руки полиции», даже «понести публичное наказание». Тем самым автор «Портрета» отдает предпочтение лишь одному художественному приему романа Достоевского – психологическому: натура Дориана Грея не вполне выдерживает «идею».
Несмотря на то, что Уайльд верно подметил, что в «Преступлении и наказании» идея возмездия таится в самом человеческом характере, он пришел к заключению, что Достоевский с одинаковым состраданием относился и к носителям зла, и к его жертвам. С этих позиций преступление своего героя, когда тот вонзает нож в портрет, убивая тем и свою совесть, и себя самого, как и преступление Раскольникова, он трактует как правонарушение, а не как нравственную трагедию.
Резонерствующий лорд Генри Уоттон так же, как Раскольников и Иван Карамазов, проповедует эгоцентричный индивидуализм и волюнтаризм. А если на пути к своеволию встанут мораль или совесть, то, согласно его логике, их следует отбросить, ибо они навеяны страхом перед Богом. Его оппонентом выступает автор портрета героя – художник Бэзил Холлуорд, опасающийся духовного влияния Генри на Дориана Грея, но в итоге он сам становится жертвой его «своеволия».
«Здоровое начало в больной душе»[142]142
Baring M. Landnmarks in English Literature. – P. 158.
[Закрыть] воссоздано и в Саломее, героине одноактной драмы Уайльда «Саломея». Она – исключительная личность, утверждающая свою индивидуальность. Требуя голову Иоканаана, она действует дерзко, аморально, но при этом становится объектом чужой воли, открыто совершая то, на что не смеют решиться ни Ирод, ни Иродиада. Нарастающее к финалу ощущение неотвратимости гибели Саломеи сообщает ее образу оттенок трагического мученичества. К этому сюжету обращались Г. Гейне, Г. Флобер и другие писатели до Уайльда, но именно последний отошел от источника, сделав Саломею прообразом бунтаря-одиночки типа Раскольникова.
Более законченное выражение принципы поэтики Достоевского нашли в «Портрете Дориана Грея». Тщательно продумав «ритуал» преступления, герой «Преступления и наказания» привел шесть мотивировок необходимости этого акта. Дориан Грей совершил его «вдруг». Но это «вдруг» как раз и позволяет увидеть близость Достоевскому. Оно указывало на закономерность, а не на неожиданность. Это «вдруг» у Уайльда получает сходное лексическое наполнение: исподволь зревшая в Дориане Грее «неукротимая злоба» против художника Бэзила Холлуорда «заставила его схватиться за нож» в данный конкретный момент.
О готовности к преступлению свидетельствует и то, как легко и цинично герой рассуждает о том, что каждый месяц в Англии совершаются подобные преступления, «в воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле»[143]143
Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд // Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. – М.: Республика, 1993. – С. 141.
[Закрыть]. Кроме того, он вовлечен и в другие аморальные поступки и является косвенным виновником гибели своей подруги Сибиллы Вэйн и ее брата Джеймса, а также Алана Кэмпбела, уничтожившего труп Холлуорда. В итоге Дориан Грей загнан в состояние духовного тупика и одиночества. Кульминация в «Портрете Дориана Грея» оказывается, как и в романе Достоевского, идеологической, связанной с развитием идеи – уничтожением портрета, а значит, и его «идеи».
Роман «Преступление и наказание» Уайльд охарактеризовал как повествование «о том, как преследуемые безнравственностью и пороком убийца и проститутка сходятся вместе и читают притчу о Лазаре и богаче и как отверженная обществом девушка приводит грешника к покаянию»[144]144
Уайльд О. «Униженные и оскорбленные» Достоевского. – С. 151–152.
[Закрыть]. Уточняя впоследствии замысел «Портрета Дориана Грея», писатель приблизил моральный итог своего романа к «Преступлению и наказанию»: «Всякая чрезмерность, как в том, что человек приемлет, так и в том, от чего он отказывается, несет в себе свое наказание».
Названием романа Уайльд подчеркнул особое значение портрета, который, пользуясь афоризмом писателя, «есть то, что лежит на поверхности, и символ». В портрете воплотилась не только «абстрактная красота» Дориана Грея, но и личность самого художника Холлуорда, «тайна его души». Теме «двойничества» Достоевский дает этическую мотивировку, Уайльд – психопатологическую: «раздвоение» натуры, души героя. Изобретая и осуществляя варианты собственной судьбы, Дориан Грей убеждается, что желанный абсолют свободы – иллюзия, за которую придется расплачиваться дорогой ценой.
После трагического перелома в личной жизни Уайльд внес в жизненное кредо юности: «Мне хочется отведать всех плодов от всех деревьев сада, которому имя – мир», значительную поправку: «Единственной моей ошибкой было то, что я всецело обратился к деревьям той стороны сада, которая казалась залитой золотом солнца, и отвернулся от другой стороны, стараясь избежать ее теней и сумрака»[145]145
Уайльд О. De Profundis / О. Уайльд // Избранные произведения. Т. 2. – С. 430.
[Закрыть]. Анализ прошлого привел Уайльда к переакцентовке того, о чем он четырьмя годами ранее писал в эссе «Душа человека при социализме» (1891): «Внушается, будто самое главное – иметь, чтобы человек забыл, что самое главное – быть»[146]146
Уайльд О. Душа человека при социализме / О. Уайльд // Избранные произведения. Т. 2. – С. 349.
[Закрыть]. Уже тогда, остро ощущая несвободу человека, ущемление его достоинства, заставляющее смиряться с печальными непреложностями бытия, он размышлял о том, сможет ли «тот, чье существование изуродовано, обезображено, хоть как-нибудь примириться с создавшимся положением»[147]147
Уайльд О. Душа человека при социализме / О. Уайльд // Избранные произведения. Т. 2. – С. 348.
[Закрыть]. Теперь это стало его реальностью. Позже Д. Г. Лоуренс, писатель уже другого поколения и тоже «мученик», но уже цензуры, в статье «Фантазия на тему о бессознательном» (1922) сочувственно назвал его «мучеником во имя чувства»[148]148
Лоуренс Д. Г. Фантазия на тему о бессознательном / Д. Г. Лоуренс // Психоанализ и бессознательное. Порнография и непристойность. – М.: ЭКСМО, 2003. – С. 330.
[Закрыть].
В книге «Замыслы» (Intentions, 1891), вышедшей за четыре года до его ареста, Уайльд, наделенный художнической интуицией, заметил: «Литература всегда идет впереди жизни… Нигилист, странный страдалец, лишенный веры, рискующий без энтузиазма и умирающий за дело, которое ему безразлично, – чистой воды порождение литературы. Его выдумал Тургенев, а довершил портрет Достоевский»[149]149
Уайльд О. Замыслы / О. Уайльд // Избранные произведения. Т. 2. – С. 235.
[Закрыть]. Теперь Уайльд и сам стал «нигилистом».
И даже когда он был выпущен из тюрьмы на поруки, то поступил «как нигилист», как повел бы себя любой герой Достоевского: он не бежал из Англии, хотя именно этого от него ждали, а хотел, по мысли К. Бальмонта, «или оправдания, или наказания по закону»[150]150
Бальмонт К. Поэзия Оскара Уайльда / К. Бальмонт // Избранные произведения. Т. 2 / О. Уайльд. – С. 474.
[Закрыть].
На каторге, в сходных с Достоевским обстоятельствах жизни, углубилось понимание поставленных им проблем. Но приняли они каторгу по-разному. Достоевский понимал неизбежность зла и страдания. Сознание неотвратимости кошмаров и уродств существования дало ему силу, а «баловня судьбы» Уайльда лишило ее. Имея в виду стоицизм одного и слабость духа другого, Н. Я. Абрамович сказал о них: «Душа здоровая и душа больная»[151]151
Абрамович Н. Я. Религия красоты и страдания. О. Уайльд и Достоевский. – С. 16.
[Закрыть].
«То, что представляется испытанием и карой, для мудрого становится мощью; то, что могло бы ввергнуть человека в бездну, лишь возвышает поэта; то, что погубило бы более слабого, только закаляет силу его экстаза. Минувший век, играя эмблемами, дает образец подобного двойного действия одинаковых событий, – пишет Стефан Цвейг в книге «Три мастера» (Drei Meister: Dickens, Balzac, Dostoevsky, 1919). – Но поэт Уайльд раздробляется в этом испытании, как в ступке, поэт Достоевский формируется, как металл в плавильной печи». Причину этого он объясняет наличием сословных предрассудков у Уайльда и их отсутствием у Достоевского. Уайльд, в котором «лорд заглушает человека», страдает, по словам Цвейга, от мысли, что заключенные могут принять его за равного; Достоевский «небратское отношение» «черни» ощущает как «упрек своей человечности». В итоге «Уайльд – конченый человек, когда он выходит из тюрьмы, Достоевский только возрождается»[152]152
Цвейг С. Достоевский. – С. 23.
[Закрыть].
Об этом можно судить и по тем свидетельствам «мученичества», которые оба оставили: Достоевский – «Записки из Мертвого дома» (1860–1862), Уайльд – поэму «Баллада Редингской тюрьмы» (The Ballade of Reading Gaol, 1898), письмо-«исповедь», обращенное к Альфреду Дугласу и опубликованное посмертно, – De Profundis («Из бездны» – латинское начало покаянной молитвы католиков; изд. в 1905 г.; полная версия по завещанию Уайльда опубл. в 1962 г.). «Баллада», обращенная из «Прибежища Стыда», стала обвинением истеблишменту, De Profundis – переживанием личной драмы, которое А. Камю назвал «предсмертным криком, чтобы его услышал человек, убиваемый себе подобными»[153]153
Камю А. Творчество и свобода. – М., 1990. – С. 146.
[Закрыть].
Сосредоточение Достоевского «на самом себе», по его же признанию, «принесло свои плоды» – и немалые. «Эти четыре года, – пишет Анри Труайя, – центр его жизни. Они делят его на две равные половины: есть Достоевский до «Записок из Мертвого дома» и Достоевский после»[154]154
Труайя А. Федор Достоевский. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 173.
[Закрыть]. То, что случилось с Достоевским во время каторги, Анри Труайя назвал «тройным чудом», подразумевая под ним встречу писателя «с народом… с Россией… с Евангелием». «Неземные радости и неземные горести будут терзать его героев, – продолжает Труайя. – Его романы станут как бы двухэтажными. На нижнем этаже будет протекать повседневная жизнь с ее обычной суетой: завистью, борьбой за существование, погоней за деньгами, стремлением превзойти ближнего. На верхнем этаже развернется подлинная человеческая драма: искания Бога, поиски духовного обновления человека»[155]155
Труайя А. Федор Достоевский. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 179.
[Закрыть]. В письмах Достоевского, написанных после освобождения, слова горечи перемежаются со словами благодарности за пережитое и выражением христианского смирения.
В 1878 году, спустя годы после каторги, Достоевский посетил Оптину пустынь для упорядочения своей внутренней духовной жизни, и старец Амвросий сказал о страдающем писателе, приехавшем к нему искать утешения после еще одной трагедии в его жизни – смерти сына, скончавшегося от эпилепсии, унаследованной от отца: «Это кающийся»[156]156
Четвериков С. Описание жизни блаженной памяти Оптинского Старца Иеросхимонаха Амвросия / С. Четвериков. – М.: Паломник, 1998 (по изд. 1912 г.). – С. 193.
[Закрыть]. После бесед с Амвросием он, по словам А. Труайя, «напоил свое воображение»[157]157
Труайя А. Федор Достоевский. – С. 422.
[Закрыть] и в «Братьях Карамазовых», к работе над которыми приступил сразу после посещения Оптиной пустыни, высказался «до конца».
Используя пережитое как материал для работы, он, по словам Н. Я. Абрамовича, представил «психологию человека и на вершинах, и на дне, в монастырском подвижничестве и в трактирном омуте… как неисчерпаемую глубину для постижения и решения своей задачи». Уайльд же, по словам критика, принял страдание «по Ницше – как позор жизненной ослабленности… как упадок»[158]158
Абрамович Н. Я. Религия красоты и страдания. О. Уайльд и Достоевский. – С. 18.
[Закрыть].
То, что Уайльд в своей тюремной исповеди «De Profundis» характеризует как «творческий возврат к жизни», есть, скорее, смирение. Теперь писатель полагает, что человеческое «я» определяют не только поэзия и красота, но и страдания. «Ко мне шли, – говорит он, – чтобы научиться радостям жизни и радостям искусства. Но – кто знает? – может быть, я избран для того, чтобы научить людей более великому: смыслу и красоте страданий»[159]159
Уайльд О. De Profundis. – C. 470.
[Закрыть]. В той же исповеди Уайльд с благоговением пишет о Достоевском, «белоснежном Христе», пришедшем из России[160]160
Уайльд О. De Profundis. – C. 444.
[Закрыть]. Эта нота личного чувства, вызванного жестокой реальностью «ссыльного» опыта, сблизила Уайльда с Достоевским.
К. Чуковский, редактировавший первое «Полное собрание сочинений» Уайльда в России (1912), осмыслил уже «обратное» влияние Достоевского – «уайльдовский контекст» в русской культуре. «Мы, русские, – писал К. Чуковский, – как-то небрежно и скучая проходили мимо Уайльда, когда он являлся перед нами как эстет, как апостол наслаждений. Но когда мы услыхали от него этот гимн о счастье страдания – мы закричали «он наш», мы раскрыли ему сердца, и Оскар Уайльд уже давно наш русский, родной писатель»[161]161
Чуковский К. И. Оскар Уайльд. Этюд / О. Уайльд // Избранные произведения. Т. 1. – С. 538.
[Закрыть].
Сам же «русский» писатель почитал себя ближайшей английской аналогией творчеству Достоевского. Уайльда сближает с ним стремление заглянуть в тайники человеческой души, показать диалектику развития чувств.
Эта диалектика была интересна и Джозефу Конраду (1857-1924). В предисловии к «Коротким рассказам» (Short stories, 1924), куда вошел и его первый рассказ «Лагуна» (1898), автор отметил, что на примере героя стремился показать, как в «прямодушном характере» «природная жестокость сочетается с неожиданно глубокой моральной утонченностью»[162]162
Конрад Дж. Предисловие к коротким рассказам / Дж. Конрад // Избранное в 2 т. Т. 2. – М.: ГИХЛ, 1959. – С. 678.
[Закрыть]. Похитив туземку, в которую был влюблен, и спасаясь от погони, Арсат теряет и ее, и помогавшего ему брата. Оставшись один, он думает о том, как нанести ответный удар. Но из противоречивых чувств – инертности и нетерпеливости, слабости и силы – рождается смирение, его «будничное мужество»[163]163
Конрад Дж. Лагуна / Дж. Конрад // Избранное. – С. 23.
[Закрыть]. Как и большинству героев Достоевского, оно служит ему средством самозащиты, способом уцелеть, чтобы потом «увидеть свой путь»[164]164
Конрад Дж. Лагуна / Дж. Конрад // Избранное. – С. 23.
[Закрыть].
Конрад с первых рассказов подражал Достоевскому, считая, что это – кратчайший путь к успеху. Вместе с тем его отношение к писателю осложнялось личным отношением Конрада ко всему русскому. Сын польского дворянина, высланного за участие в подготовке к восстанию 1863 года в российскую Вологду, Джозеф Конрад рано осиротел и, мечтая стать моряком, уехал сначала во Францию, потом в Англию, навсегда сохранив о России горестное чувство. Поэтому об этой стране, ее политике, литературе он писал со свойственной ему отчужденностью и травмированностью, что выразилось и в диалоге с Достоевским. «Имя Достоевского действовало на него как красная тряпка на быка, – писал Голсуорси. – Мне говорили, будто однажды он признал, что Достоевский глубок, как море. Поэтому, возможно, он и не выносил его, а может быть, на польский вкус Достоевский слишком пропитан русским духом. Так или иначе, его безудержные метания из крайности в крайность оскорбляли что-то в душе Конрада»[165]165
Голсуорси Дж. Воспоминания о Конраде / Дж. Голсуорси // Собр. соч. в 16 т. Т. 16. – М.: Правда, 1962. – С. 422.
[Закрыть]. Подобное отношение Конрада к Достоевскому, в котором к ненависти примешивалось и неприкрытое соперничество, отнюдь не мешало, а может быть, даже и способствовало поддержанию на протяжении ряда десятилетий диалога с ним, который принимал форму то полемики, то переосмысления наследия писателя с целью приблизить к английской современности.
В 1898-м Конрад в письме к Эдварду Гарнетту, с которым его объединяла дружба, впервые публично высказал свое мнение о Достоевском, в романах которого он открыл для себя «новый мир». Эту фразу писатель заимствовал у В. Вулф, которая именно так характеризовала творчество Достоевского.
Когда в 1907 году вышел «Секретный агент» (The Secret Agent) Конрада, Эдвард Гарнетт осторожно, не желая ранить самолюбие прозаика, предположил, что произведение выбивается из европейской литературной традиции; на его взгляд, оно ближе к славянской. Позднее в очерке о романе Конрада «На взгляд Запада», написанном за семь месяцев до окончания Констанс Гарнетт перевода «Братьев Карамазовых», критик напрямую соотнес эти романы, которые, по его мнению, объединяют «изображение темных сторон души», «психологическая достоверность». Оценивая мастерство Кон рада и имея в виду прежде всего роман «На взгляд Запада», Гарнетт добавил: «Его многие страницы сопоставимы с романами Тургенева и Достоевского»[166]166
Garnett E. Mr. Conrad’s new novel / E. Garnett // Nation. – 1911. – Vol. 10. – October, 21. – P. 141–142.
[Закрыть]. Конрад воспринял это как личное оскорбление и разразился гневным письмом, в котором отрицал «русское» влияние. «Вы так проникнуты всем русским, мой дорогой, – ответил ему критик, – но не хотите признать очевидное»[167]167
Letter to Edward Garnett. 1911. October, 20 // Letters from Conrad, 1895–1924. – L.: Nonesuch Press, 1928. – P. 248–250.
[Закрыть].
Понять обиду Конрада, эмигранта, можно: он не хотел, чтобы его имя хоть как-то соотносилось с Россией, поэтому предпочитал, чтобы события, изображенные в романе, принимались читателями за обобщенные им факты из английских газетных хроник. В письме к Оливии Гарнетт он прибавил, что в действительности «знает ничтожно мало о русских»[168]168
Letter to Olive Garnet. 1911. October, 20 // Letters from Conrad. P. 250–51.
[Закрыть].
Принижая Достоевского и видя в нем антитезу почитаемому им И. С. Тургеневу, с которым испытывал «славянское» родство, Конрад писал, что Достоевский «слишком русский для него». Но к этому чувству примешивалось неприкрытое соперничество с ним, заметное в неоконченном романе «Сестры» (The Sisters, 1896). Имея в виду выведенный Конрадом образ мечтателя Стефана, разочаровывающегося в жизни, Форд заметил: «В глубине души он хотел быть таким, как Достоевский, мыслящим писателем»[169]169
Ford M. F. Introduction to: Conrad J. Sisters / M. F. Ford. – N.Y.: Crosby Gaige, 1928. – P. 2.
[Закрыть].
Чувство метафизического родства с Достоевским, их сходной человеческой природы, в действительности оказывается действеннее, чем скепсис. За ним стоит многое: и нежелание осознать себя второстепенным по отношению к «скрытому кумиру», и – самое главное – память о том, с чего началась глава его собственной жизни, как много пришлось вытерпеть лишений и страданий, осваиваясь в новом, непривычном для него социуме – словом, обо всем том, что стало его судьбой. Поэтому то, о чем писал Достоевский, Конраду было ближе, чем кому-либо из современных ему английских романистов. Об этом свидетельствуют типологические соответствия его романа «На взгляд Запада» (Under Western Eyes, 1911) с «Преступлением и наказанием». Признанием может также служить и предложенный им в письме к Оливии Гарнетт вариант прочтения романа. Характеризуя его, он пишет: «Как вы, должно быть, заметили, я исключительно занят идеями»[170]170
Garnett E. Conrad’s place in English Literature / E. Garnett // Conrad’s Prefaces to His Works. – L.: Dent, 1937. – P. 27.
[Закрыть].
Именно идеи сближают конрадовского Разумова с Раскольниковым. Оба героя – бедные студенты – жаждут выразить свою личность. Потрясенные своими деяниями, оба глубоко страдают и в конце концов признаются возлюбленным в виновности, хотя вполне могут скрыть свои преступления. Вместе с тем образ Разумова был задуман как «обычного молодого человека», а Раскольникова – «необычного». И в целом, по мысли Ж. Бейнес, «цель, тональность и форма романов …абсолютно несхожие»[171]171
Baines J. Joseph Conrad: A Critical biography / J. Baines. – L.: Weidenfeld and Nicolson, 1960. – P. 369–370.
[Закрыть].
В отдельных «морских» повестях, к примеру, в «Теневой черте» (The Shadow Line, 1917) Конрад вслед за Достоевским исследовал тему трагической изоляции. Его герой – капитан, от лица которого ведется повествование, следуя естественному импульсу, спасает людей, беспомощных и ослабевших от тропической лихорадки, и доверенное ему судно. Прежде чем ему это удается, он, «подавленный одинокой ответственностью» перед лицом грозной стихии, которой не в силах противостоять, чувствует себя преступником: «…Ни один сознавшийся преступник не был так подавлен чувством своей вины»[172]172
Конрад Дж. Теневая черта / Дж. Конрад // Избранное. Т. 2. – С. 581.
[Закрыть]. Подзаголовок к повести – «Признание» – указывает на исповедальность, тон которой задает рассказчик, в момент кризиса взвешивающий, подобно героям Достоевского, все pro и contra. На этом сюжетная «перекличка» с Достоевским, по-видимому, и исчерпывается. В сущности, оба писателя пишут об одном – о моральной подоплеке преступления, только подходят к этому с разных сторон. Кроме того, Конрад заимствовал и тему двойничества, построенную по принципу бинарной оппозиции. Раздумывая о своем предшественнике, капитане, который ради самоутверждения переступил через моральные и социальные нормы, рассказчик соотносит его действия со своими усилиями по спасению людей на судне: «Конец его жизни был настоящим актом предательства, изменой традиции, казавшейся мне непреложной»[173]173
Конрад Дж. Теневая черта / Дж. Конрад // Избранное. Т. 2. – С. 554.
[Закрыть].
Поясняя замысел повестей, Конрад отмечает, что они – не результат «какого-то заранее намеченного плана». То же, «что «выходит само собой», всегда кажется очень важным и ценным, потому что оно берет свое начало в более глубинных источниках»[174]174
Конрад Дж. Предисловие к «Коротким рассказам». – С. 673.
[Закрыть]. Одним из таких «источников», по-видимому, был для него Достоевский. Произведения Конрада связаны с его романами тематически, и постоянные отсылки к ним создают соответствующий фон.
Для Джона Голсуорси (1867–1933) Достоевский, по-видимому, тоже был одним из таких «источников». Его ранние новеллы уже отмечены влиянием «Преступления и наказания», «Униженных и оскорбленных». Ларри из «Первых и последних» (The First and the Lasts, 1914) – не Раскольников, но примириться с тем, что за совершенное им убийство будет казнен другой, он не может: «Человек может сомневаться долгие недели – сознательно, подсознательно, даже в снах, но потом наступает момент, когда больше колебаться невозможно»[175]175
Голсуорси Дж. Первые и последние / Дж. Голсуорси // Новеллы. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 86.
[Закрыть]. В новелле «Поражение» (The defeat) девушка-немка, жизнь которой проходит вдали от родины, в обществе «клиентов», рассказывает оказавшемуся рядом с ней солдату о «святости страдания»[176]176
Голсуорси Дж. Поражение / Дж. Голсуорси // Новеллы. – С. 110.
[Закрыть], совершенно несвойственного взглядам Голсуорси, и душевное состояние героини кажется порой списанным с Сони Мармеладовой и Наташи Ихменевой.
В 1916–1930 годах, в самый разгар споров о Достоевском и «русской душе», Голсуорси, составивший во время поездки в Россию свое, не книжное мнение о русских, неожиданно выступил с серией эссе о «дополнительности» русских и англичан, в которых весьма критично отозвался о Достоевском.
Уже прославленный автор в статье «Русский и англичанин» (The Russian and the Englishman, 1916) подвел итог тому, чему научился у русских писателей: «Произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова – поразительной искренностью и правдивостью этих мастеров – позволили мне, думается, проникнуть в некоторые тайны русской души, так что русские, которых я встречал в жизни, кажутся мне более понятными, чем иные иностранцы»[177]177
Голсуорси Дж. Русский и англичанин. Т. 16. – С. 370.
[Закрыть].
Автору эпопеи о Форсайтах, запечатлевшей типично английские образы, нравы и психологию, показалось, что он постиг «тайну русской души», и, отправляясь от неповторимых индивидуальных особенностей русских и англичан, писатель там же сделал ряд обобщений об их «связанности»: «Удивительно, как русский и англичанин дополняют друг друга, составляя две половины целого. То, чего недостает русскому, есть у англичанина, то, чего недостает англичанину, есть у русского»[178]178
Голсуорси Дж. Русский и англичанин. Т. 16. – С. 370.
[Закрыть]. Однако судил он о них легко и опрометчиво, поскольку, заявив о «дополнительности» писательской манеры русских и англичан, Голсуорси, как выяснилось, подразумевал под этим определением, казавшимся вполне однозначным, отнюдь не «добавочность», а «несходство», причем «роковое», по поводу «разного отношения к правде». Англичане, на его взгляд, «дух правды» не особенно ценят, тогда как русские мастера пишут так, «будто между тобой и жизнью нет печатного текста». Вместе с тем русским не хватает английской «сдержанности», «умения держать свои чувства в узде» – по этой части, пишет он, «мы непревзойденные мастера», и в традиционной для него манере оставлять последнее слово за англичанами заключает, что в вопросах поведения «мы… старше вас».
Рассуждая о социальных и политических взглядах русских, «нации молодой и так щедро себя растрачивающей», Голсуорси выразил надежду, что они поддадутся английскому влиянию – «старой нации с практическим и осторожным взглядом на жизнь». Однако после Октябрьской революции он стал судить о возможности сходства между русскими и англичанами как двумя половинками одного целого с гораздо большей осторожностью. И русские, и англичане, как ему теперь кажется, «мало поддаются постороннему влиянию», хотя полностью его он не исключает: «В искусстве мы можем позаимствовать кое-что у вас, в жизни вы можете позаимствовать кое-что у нас». Говоря о возможных литературных заимствованиях англичан, Голсуорси имел в виду «прямоту изображения увиденного, искренность»[179]179
Голсуорси Дж. Русский и англичанин. Т. 16. – С. 372.
[Закрыть].
В статье «Еще четыре силуэта писателей» (Four more novels in Profle, 1930), написанной в продолжение «Силуэтов шести писателей» (Six novels in Profle, 1924), Голсуорси пишет, что для русских писателей «главное… – чувства, а еще больше, пожалуй, выражение чувств»[180]180
Голсуорси Дж. Еще четыре силуэта писателей. Т. 16. – С. 435.
[Закрыть]. По способу их выражения, на его взгляд, Л. Н. Толстой «гораздо более велик», чем Достоевский, «и Тургенев тоже».
Оставаясь духовно верным Тургеневу, Голсуорси с грустью пишет о том, что, когда английские критики в начале ХХ века «открыли» Достоевского, «стало модно говорить …с пренебрежением о Тургеневе». Казалось бы, для обоих талантов хватит места, пишет он, но в литературном мире «принято гасить один светильник прежде, чем зажечь другой»[181]181
Голсуорси Дж. Силуэты шести писателей. Т. 16. – С. 397–399.
[Закрыть]. Отметив непостоянство читательской публики, которая торопится отдать предпочтение новому кумиру, с пренебрежением отзываясь о старом, Голсуорси критично отозвался о Достоевском.
За полгода до смерти, отвечая на вопросы Катрин Дюпре, Голсуорси заявил, что «если бы сейчас он перечитал Достоевского, то, бесспорно, нашел бы его интересным, правда, в некоторой степени раздражающим писателем». В то же время он выразил и сомнение: «Я не уверен, что он способен оказать универсальное влияние на романиста. В вопросах морали и философии он расплывчат», – и далее, сравнивая его с Толстым, заметил: «Он не настолько велик: и как художник, и как мыслитель»[182]182
Quoted by: Marrot A. V. The Life and Letters of John Galsworthy / A. V. Marrot. – L.: William Heinmann, 1935. – P. 804.
[Закрыть].
Достоевский, у которого, как полагал Голсуорси, он научился «пониманию русской души», удовлетворил его готовое ожидание, ответил предполагаемому стереотипу, что «русские души» – это «чудища», которые «выглядывают на тебя из нор, что в дрожь бросает». Исходя из чего Голсуорси заключил: «Очень показательно для наших изломанных, забрызганных кровью времен, что бал сейчас правит Достоевский»[183]183
Цит. по: Тугушева М. П. Джон Голсуорси / М. П. Тугушева. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2000. – С. 268.
[Закрыть].
Суждение Голсуорси – расхожий пример всевластия типовой формулы, не позволяющей ни понять, ни оценить Достоевского. Из него становится ясно, как многое теряется, отбрасываемое в угоду стереотипу подобных однобоких представлений.
Э. М. Форстер (1879–1970) встретил Достоевского, как и Голсуорси, настороженно, с опаской и воспринял его в некоем общем ряду. «В литературе, – как он пояснил в эссе «Вирджиния Вулф», – возможна жизнь двоякого рода: жизнь на страницах книги и жизнь в веках»[184]184
Форстер Э. М. Вирджиния Вулф / Э. М. Форстер // Избранное. – М.: Художественная литература, Ленинградское отд-е, 1977. – С. 303.
[Закрыть]. В то, что Достоевский может заставить героев «жить вечно», он не верил и тем противоречил себе. Уже в своем первом романе «Куда боятся ступить ангелы» (1905) он обратился к художественному опыту Достоевского и показал, как вмешательство чопорной англичанки Генриетты в семью ее покойной золовки приводит к трагедии: похищенный ею у «неподобающего» отца-итальянца ребенок умирает. То, что кажущиеся оправданными намерения могут привести к разрушительным последствиям, Форстер наблюдал в романах Достоевского, и, как видно из статьи «Конец самовару» (1919), его восхищали моменты «стыка»: «вместо социальной сатиры или фарса неожиданно получаешь бесценный, раздирающий душу урок»[185]185
Forster E. M. The End of samovar. Rev. of «An Honest Tief and Other Stores» by F. Dostoevsky / E. M. Forster // Daily News. – L., 1919, November, 11.
[Закрыть]. Урок в романе получил брат Генриетты Филип, который, пережив потрясение, «преисполнился чистосердечного желания быть лучше… и достойным того важного»[186]186
Форстер Э. М. Куда боятся ступить ангелы / Э. М. Форстер // Избранное. – С. 154.
[Закрыть], что он за это время понял. Сочетая в романе английскую тему – критику фарисейства, снобизма, стяжательства – с мотивами Достоевского, Форстер тем самым «оживляет» писателя.
В той же статье «Конец самовару» (The End of samovar), посвященной впервые изданному в Англии сборнику «Честный вор и другие рассказы» (1877) Достоевского, особое место отведено Форстером «Сну смешного человека». Его внимание привлекает рассказчик, «смешной человек», который принадлежит к традиционному в творчестве Достоевского типу подпольных героев-философов. Опираясь на образ «смешного человека», Форстер вывел в своих рассказах «По ту сторону изгороди» и «В чем смысл» таких же философствующих героев, поставленных в фантастичные ситуации. «Сон смешного человека» притягивает Форстера еще и тем, что в нем достигает кульминации одна из постоянных тем творчества Достоевского – золотого века, наступление которого, как убежден писатель, неизбежно. Форстер также интересовался этой темой. В рассказе «По ту сторону изгороди» (On the other side of Hedge, 1904) его тонущий герой был «ослеплен» красивейшим пейзажем, и ему показалось, что он – в раю. Но как только с ним заговорили спасатели, «мгновенно померкла радость»[187]187
Форстер Э. М. По ту сторону изгороди / Э. М. Форстер // Избранное. – С. 225.
[Закрыть], и он понял, что вернулся к привычной жизни, вернее, «тюрьме». За это непродолжительное пребывание в «раю» он, как и «смешной человек», во сне «увидевший своими глазами истину»[188]188
Достоевский Ф. М. Сон смешного человека. Т. 12. – С. 520.
[Закрыть], вдруг начинает понимать необходимость любви к ближним, к жизни. «Дайте мне жизнь, – говорит он, – с ее борьбой и победами, с ее неудачами и ненавистью, с ее глубоким моральным смыслом и с ее неведомой целью»[189]189
Форстер Э. М. По ту сторону изгороди. – С. 229.
[Закрыть].
Как видно, первоначальное отношение Форстера к Достоевскому включало стремление найти в творческом опыте писателя ключ к построению собственных произведений. Однако позже, занятый проблемами «сугубо английскими», он вступил в открытую полемику с Достоевским.
Героям, поставленным в фантастические условия, которые заставляют их прозреть, Форстер теперь противопоставляет англичан с «неразвитым сердцем». В романе «Комната с видом» (A room with a view, 1908) таким предстает жених Люси; она не выдерживает его пресной рассудительности и соединяет свою жизнь с другим, более свободным и открытым человеком. В эссе «Заметки об английском характере» (Notes of the English Character, 1930) Форстер в числе отрицательных черт англичанина отмечает неумение выразить свои чувства: «У него нет недостатка в чувствах, но они остаются под спудом, не находят себе применения; нет недостатка и в умственной энергии, но она чаще применяется, чтобы утвердить его в предрассудках, а не искоренить их»[190]190
Форстер Э. М. Заметки об английском характере / Э. М. Форстер // Избранное. – С. 294.
[Закрыть].
Эти слова можно отнести к самому Форстеру. Предрассудки помешали ему понять Достоевского во всем многообразии его творчества; рецензируя рассказы писателя и даже подражая им, он не замечает их связи с романами. Рассматривая рассказы в отрыве от предыдущего творчества писателя, он называет их «неудачными»: «Достоевский уже устал, повторяет сказанное, а его юмор граничит с шуткой». Отдельные рассказы он считает совсем «никчемными» и удивляется, «как Достоевский мог написать настолько плохо»[191]191
Forster E. M. The End of samovar.
[Закрыть]. И хотя Форстер отмечает, что «в качестве «стимула» Достоевский бесценен», он, вторя высказываниям Голсуорси, призывает английских писателей отвернуться от него: «русский писатель очень далек от английских традиций и ценностей»; «он не может служить примером для тех, кто пишет на английском языке»[192]192
Forster E. M. Aspects of the Novel / E. M. Forster. – L.: Harcourt, Brace and World, 1927. – P. 68–69.
[Закрыть].
Из приведенного резкого суждения о Достоевском видно, что по отношению к нему у Форстера выработались определенные критерии. В статье «Аспекты романа» (Aspects of the Novel, 1927) он отметил, что «в жизни нам не дано понимать друг друга», потому что не происходит «полного проникновения в чужой внутренний мир». В итоге «о литературных персонажах у нас складывается более полное впечатление, чем о реальных людях»[193]193
Форстер Э. М. Аспекты романа. Отрывки / Э. М. Форстер // Избранное. – С. 351.
[Закрыть]. Тем не менее «полного впечатления» о романах «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», о которых высказывался, Форстер не составил. Он указал на их «схематичность» и «неискренность»; отметил «недостаток художественного мастерства» автора[194]194
Letter to Ottoline Morrell. 1910, April, 2 // Selected letters of E. M. Forster in 2 vols. Vol. 1. – L.: Collins, 1983. – P. 105–106.
[Закрыть]. Противореча своим предыдущим высказываниям, он назвал Достоевского «дорогим» и тут же отметил, что это «не имеет отношения к литературе». В том, как Форстер приближает и отталкивает от себя Достоевского, обнаруживается зависимость от него. В рассказе «В чем смысл» (What’s the point, 1911) Форстер говорит о герое, вобравшем в себя черты автора: созданное им «открывало пути к будущему». Таким он и видел Достоевского: «великого романиста», «пророка»[195]195
Forster E. M. Aspects of the Novel. – P. 132–133.
[Закрыть], который, как бы о нем ни отзывался Форстер, всегда оставался для него ориентиром.








