Суди меня по кодексу любви (стихи и поэма)
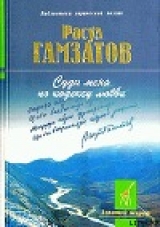
Текст книги "Суди меня по кодексу любви (стихи и поэма)"
Автор книги: Расул Гамзатов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Перевод Я. Козловского
«Ужели я настолько нехорош...»
Ужели я настолько нехарош,
Что вы на одного,– меня напали,
Все недруги; лвэдскиес: завивть, ложь,
Болезни, годы!,, злоба, т т,ак;даже?..
Ну что ж, меня осилить не трудней,
Чем всех других, которых вы убили.
Но вам не погубить любви моей.
Я перед нею даже сам; бессилен.
Ей жить и жить, и нет врагов таких,
Которые убьют ее; величье.
Моя любовь до правнуков моих
Дойдет, как поговорка, или притча.
И будет в нашей отчей стороне
Нерукотворным памятником мне.
«В училище Любви, будь молод или сед...»
В училище Любви, будь молод или сед,
Лелеешь, как в святилище, ты слово
И каждый день сдаешь экзамен снова.
В училище Любви каникул нет.
Где ходим мы по лезвиям клинков,
И оставаться трудно безупречным,
В училище Любви студентом вечным
Хотел бы слыть, касаясь облаков.
В училище Любви мы выражать
Года свои не доверяем числам.
И, хоть убей, не в силах здравым смыслом
Прекрасные порывы поверять.
И женщину молю: благослови
Мою судьбу в училище Любви!
«Больной, я в палате лежу госпитальной...»
Больной, я в палате лежу госпитальной,
И в исповедальной ее тишине
К врачу обращаюсь я с просьбой печальной:
– Прошу, никого не впускайте ко мне.
Встречаться со мною и нощно и денно
Здесь может одна только женщина гор.
Насквозь она видит меня без рентгена.
Ей ведом триумф мой и ведом позор!
Ношу я на сердце достойные шрамы,
Его никому не сдавая в наем,
И может подробнее кардиограммы
Она вам поведать о сердце моем.
И, кроме нее, приходящих извне,
Прошу, никого не впускайте ко мне.
«Царицей прослыв в государстве Любви...»
Царицей прослыв в государстве Любви,
Столетье двадцатое ты не гневи!
Монархия – песенка спетая.
Отрекшись от трона, сама объяви
Республикой ты государство Любви,
Монархия – песенка спетая!
Подобно колонии был я тобой
Легко завоеван в дали голубой,
Но к воле путь знают колонии...
– Ах, милый бунтарь, в государстве Любви
Отречься от власти меня не зови,
Когда ты сторонник гармонии.
Уйду – станешь тем озадачен,
Что женщиной снова захвачен.
«С головою повинною я...»
С головою повинною я
Обращаюсь к тебе, моей милой!
Не гневись, мой Верховный судья,
Пощади, сделай милость, помилуй!
Если правишь ты праведный суд,
То припомни обычай Востока.
Он о том говорит не без прока,
Что повинных голов не секут.
Не впервые тобой я судим
За проступок, что; признан греховным.
Ты Судьей моим стала Верховным,
Кто ж защитником будет моим?
Может, ты, мой Верховный судья,
Станешь им, доброты не тая?
«На пенсию выходят ветераны...»
На пенсию выходят ветераны,
Заслуги их, и подвиги, и раны
Забыть годам грядущим не дано.
А чем заняться этим людям старым
Прильнув к перу, предаться мемуарам,
Иль по соседним разбрестись бульварам
Затем, чтобы сражаться в домино?
Для поздних лет не все тропинки торны,
Зато любви все возрасты покорны,
Ее кавказский пленник я по гроб.
В отставку? Нет! Милы мне женщин чары.
Они мои давнишние сардары,
Пишу стихи о них, а мемуары
Писать не стану – лучше пуля в лоб!
«Войны, раны и недуги...»
Войны, раны и недуги
Угрожают мне давно:
– Ни в какой от нас кольчуге
Не спасешься все равно.
В грудь мне целит быстротечный
День, как кровник на скаку:
– Для чего, поэт беспечный,
Пел любовь ты на веку?
Но всему познавший цену,
На снегу взрастив вербену,
Утверждаю вновь и вновь:
– Сможет войны, ложь, измену
И седых столетий смену
Пережить моя любовь!
«В Дербенте виноградари гуляли...»
В Дербенте виноградари гуляли
И возносилась древняя лоза,
И предо мной, зеленые, мерцали
Твои, как виноградины, глаза.
В Японии попал я ненароком
На праздник вишни. И твои уста,
С вишневым породнившиеся соком,
Припоминал в разлуке неспроста.
На праздник роз меня позвав, болгары
С вином багряным сдвинули бокалы,
Но догадаться не были вольны,
Что вспоминал я, их веселью вторя,
Как на заре выходишь ты из моря
По розовому кружеву волны.
«В прядильне неба женщины соткали...»
В прядильне неба женщины соткали,
Земным веленьем пашни и нови,
Из радости, надежды и печали
Полотнище для знамени Любви.
И с той поры, как вздыбленностью суши,
Кавказ мой предвосхитил взлет ракет,
Не это ль знамя осеняет души
И отражает их небесный свет?
Сердечных мук, друзья, не опасайтесь,
Чтоб в пору вьюг вам пели соловьи.
И женщинам, ликуя, поклоняйтесь,
Храня подобье Африки в крови...
«Влюбленные всех стран, соединяйтесь!»
Я начертал на знамени Любви!
«Твоя сказала мама: – Посмотрим, ухажер...»
Твоя сказала мама:
Посмотрим, ухажер,
Дубовый пень ли сможешь
В дрова ты превратить?
Был пень железным, как топор,
А сам топор, как пень, остер.
Но смог, в тебя влюбленный, очаг я растопить.
Жизнь подает порою топор мне до сих пор!
– Вот пень! Руби, приятель!
Огонь почти угас!
А пень железный, как топор,
А сам топор, как пень, остер,
Но вновь я заставляю огонь пуститься в пляс.
И от тебя не слышал поныне горьких слов
О том, что меньше стало в камине нашем дров.
«Из-за тебя потребовать к барьеру...»
Из-за тебя потребовать к барьеру
Мне в жизни рок другого не судил.
В недобрый час твою предавший веру,
Я сам твоим обидчиком прослыл.
Куда от прегрешения деваться?
И вновь себя, как недруга кляня,
Один в двух лицах выхожу стреляться,
И нету секундантов у меня.
Быть раненным смертельно на дуэли
Хотел бы я: чтобы, подняв с земли,
Меня на бурке или на шинели
К твоим ногам кавказцы принесли.
И вымолить прощение успели
Уста, что кровью изошли.
«На площади, где марши ликовали...»
На площади, где марши ликовали,
Мы шествие военных наблюдали,
Увенчанных созвездьями наград.
Вдруг я сказал: – Имел бы вдоволь власти,
Дивизиям, сгорающим от страсти,
Назначил бы торжественный парад,
Чтоб, на седых мужей держа равненья,
С нашивками за славные раненья,
Держали строй влюбленные всех стран.
И за тебя я умереть готовый,
Шагал бы с ними, как правофланговый.
Ты рассмеялась: – Ах, мой ветеран,
Зачем парад влюбленным и равненье,
Им во сто крат милей уединенье.
Любимых женщин имена
Встревожены земные шири,
Но знаю способ я один,
Как укротить в подлунном мире
Воинственность его мужчин.
Когда б мне власть была дана,
Вершинам всем,
являя разум,
Я даровал бы в мире разом
Любимых женщин имена.
Чтоб опустились руки вдруг
Пред картою у бомбардира,
Пусть лучшей половины мира
Глаголят имена вокруг.
Когда б мне власть была дана,
Неся ответственность пред веком,
Я матерей бы имена
Присвоил пограничным рекам.
Еще дух рыцарства в чести,
И, может, власть его опеки
Переступить такие реки
Удержит воинов в пути.
В честь просветления очей,
Издав указ антивоенный,
Назвал бы звезды во вселенной
Я именами дочерей.
И сразу бы на небе мира
Не стало б в далях грозовых
Ни одного ориентира
Для самолетов боевых.
И, обретя покой, планета
Жила бы, радости полна...
Звучат всегда в душе поэта
Любимых женщин имена.
Сеньорина
Тебя я заклинаю, сеньорина,
Еще не поздно,
на берег сойди!
Надежда, как свеча из стеарина,
Горит и тает у меня в груди.
Вели глушить моторы капитану,
Остаться пожелай на берегу.
И я, седой,
мгновенно юнгой стану,
Тебе сойти по трапу помогу.
Куда бежишь?
На зов какого долга?
Попутчикам недобрым крикни: «Прочь!»
Предавшим Революцию
недолго
И женщину предать в любую ночь.
Какая мысль больная осенила
Тебя бежать?
Отбрось ее, молю!
Ты слышишь, дорогая сеньорина,
Как шепчет Куба:
«Я тебя люблю!»?
Молю, взгляни еще раз на Гавану,
Пролей слезу. Вот холм Хосе Марти.
Одумайся – и молодым я стану,
Тебе по трапу помогу сойти.
Я видел много женщин, убежавших
В чужие земли из краев родных,
Я видел их, за деньги ублажавших
Кого угодно в сумерках ночных,
И даже перед пламенем камина
Они весь век согреться не могли.
Судьбы не ищут,
слышишь, сеньорита,
ОТ ненаглядной родины вдали.
Холодной, словно дуло карабина,
Сразит чужбина и тебя тоской.
Не уплывай, останься, сеньорина,
Печального солдата успокой.
Он в бой ходил, он знает силу слова
И рисковать умеет головой.
Нигде не встретишь рыцаря такого
В зеленой гимнастерке полевой.
Пускай морская пенится пучина,
Кидайся в воду.
К берегу плыви!
Иду тебе на помощь, сеньорина,
Посол надежды, веры и любви.
Мулатка
Вновь половипчатой, неспелой
Взошла над островом луна,
И одинокой лодкой белой
Скользила по небу она.
И ночь шуршала черным шелком,
И ночи африканской лик
В Сантьяго вдруг
на камнях желтых
Воочью предо мной возник.
Невдалеке плела узоры
Речушка, вольности полна,
Невидимого дирижера
Казалась палочкой она.
И две мулатки песню пели,
В словах искрились угольки,
Горячих губ, что пламенели,
Слегка белели уголки.
Пленен был песней этой сразу
И оценил ее чекан
Я – горец, преданный Кавказу,
Перелетевший океан.
Слова в ней были как загадки,
Но лишь для слуха моего.
Ах, где вы взяли их, мулатки?
Петь научились у кого?
Быть может, трепетно и смело
Вблизи карибского кольца
Так мама черная вам пела
Про белоликого отца?
Иль, может,
так в открытом море
Отец ваш черный
При луне
О белолицей пел сеньоре
Своей возлюбленной жене?
Отца и матери напевы,
Отца и матери черты
Вам путь открыли в королевы
На карнавалах красоты.
О Куба, гордая мулатка,
Был от тебя я без ума,
Ты королева, и солдатка,
И революция сама.
И жизнь свою считать я тоже
Давно мулаткою привык,
Чья мать от века чернокожа,
Отец от века – белолик.
И песнь моя – мулатка тоже,
И, верный не календарю,
Порой то ласковей, то строже
Ее устами говорю.
И в сферах звездного порядка
Печаль и радость нам суля,
Лети, прекрасная мулатка,
Планеты с именем Земля!
Нана Гвинипадзе
Дорогая Нана Гвинепадзе,
Чуден твой Тбилиси в самом деле,
Но хочу я нынче любоваться
Не красой проспекта Руставели.
Дорогая Нана Гвинепадзе,
Что мне стены в шрамах да бойница,
Я хочу сегодня любоваться
Звездами, что прячешь ты в ресницах.
Может, в них и кроется причина,
Почему с дружиною нередко
В Грузию тянуло Ражбадина *
– Моего неласкового предка?
Разве мог он, дикий, хромоногий,
Дома тихой жизнью наслаждаться,
Если через горные пороги
Можно было до тебя добраться?
Опершись на кованое стремя,
Облаков папахою касаясь,
Я б и сам, наверно, в это время
Увозил трепещущих красавиц.
В седлах ясноокие подарки
Привозили прадеды с собою.
Может, потому теперь аварки
Славятся грузинской красотою!
* Ражбадин – мюрид, отличавшийся храбростью в набегах.
Грузинским девушкам.
Могу поклясться именем поэта,
Что на манер восточный не хитрю,
Ведь я сейчас
прошу учесть вас это
Не за столом грузинским говорю.
Известен всем того стола обычай:
Поднявший тост имеет все права
На то, чтобы слегка преувеличить,
Лишь выбирай пообразней слова.
Но я в стихах так действовать не в силах,
О, девушки грузинские, не лгу,
Что вас, очаровательных и милых,
Я позабыть в разлуке не могу.
Зачем у вас так много цинандали
Мужчины пьют?
Их не пойму вовек.
Меня лишь ваши очи опьяняли,
А за столом я стойкий человек.
Хоть дикарем меня вы назовите,
Хоть пожелайте сверзиться с горы,
Но я бы вас,
уж вы меня простите,
Не выпустил из дома без чадры.
Ей-богу, не шучу я.
В самом деле
Завидно мне, что вновь одной из вас
Счастливец на проспекте Руставели
Свидание назначил в этот час
Припомнив стародавние обиды,
Вы нынче отомстили мне сиолна
За то, что вас аварские мюриды
В седые увозили времена.
Как вы со мной жестоко поступили:
Без боя, обаянием одним
Мгновенно сердце бедное пленили
И сделали заложником своим.
Но чтобы мне не лопнуть от досады
И не лишиться разума совсем,
Одену вас я в горские наряды,
Назначив героинями поэм.
В ущельях познакомлю с родниками,
Ведя тропинкой, что узка, как нить.
И будете вы жить над облаками
И в дымных саклях замуж выходить.
В поэмах тех узнают вас грузины,
Но верю, не обидятся в душе
И не найдут достаточной причины,
Чтоб обвинить аварца в грабеже.
Пусть продолжают думать на досуге,
Что на заре глубокой старины
Им были за особые заслуги
Волшебные создания даны.
Искрятся звезды над вершиной горной.
О, девушки грузинские, не лгу:
Я пленник ваш, я вам слуга покорный,
Живущий на каспийском берегу.
Мне ваши косы видятся тугие.
Мне ваши речи нежные слышны.
Но все, что я сказал вам, дорогие,
Держите в тайне от моей жены!
«Кто бездумно и беспечно...»
Кто бездумно и беспечно
Хохотать способен вечно,
Разве тот мужчина?
Кто не гнулся под мечами,
Но всю жизнь не знал печали,
Разве тот мужчина?
Кто в заздравном даже слове
Умудрялся хмурить брови,
Разве тот мужчина?
Кто смертельно не влюблялся,
Ни с одной не целовался,
Разве тот мужчина?
Кто любую звал голубкой
И за каждой бегал юбкой,
Разве тот мужчина?
Кто готов подать нам стрелы
И предать нас в то же время,
Разве тот мужчина?
Кто, к столу шагнув с порога,
Осушить не в силах рога,
Разве тот мужчина?
Кто в местах, где многолюдно,
Пьет из рога беспробудно,
Разве тот мужчина?
Кто хоть век в дороге будет,
Дом отцовский позабудет,
Разве тот мужчина?
Кто, исполненный усердья,
Судит нас без милосердья,
Разве тот мужчина?
Кто даст слово, что булатно,
Но возьмет его обратно,
Разве тот мужчина?
Камалил Башир. Легенда
От любви забывали мы страх,
Потому что, затмив целый мир,
Ты с ума,
обольстив нас в горах,
Посводил, Камадил Башир.
Нам не надо колец золотых,
Хоть венчает их огненный лал *,
Лишь бы ты на ладонях своих
Наши пальцы, держа, целовал.
И жемчужные серьги легко
За твои отдадим мы слева,
Когда шепчешь ты их на ушко,
Сладко кругом идет голова.
Мы, как белое тело свечи,
Пред тобою до белого дня
Были счастливы таять в ночи,
Золотое сердечко огня.
Может, смилуются небеса
И помогут вдали от разлук
Вновь серебряные пояса
Нам сменить на кольцо твоих рук.
Что шелка, что парча, что атлас?
Мы, как раньше, порою любой
Вновь готовы предстать, хоть сейчас,
Обнаженными перед тобой.
Прорезавший полночную тьму,
Был не ты ли,
полмира любя,
С лунным месяцем схож потому,
Что не падала тень на тебя?
Власть любовной познав ворожбы,
В час намаза колени склонив,
Предавались мы жару мольбы,
Имя бога твоим заменив.
Почернели от злобы мужья,
Женихи проклинали невест.
И прикончить тебя из ружья
Сговорились мужчины окрест.
– Камалилу Башару – конец:
Мы убьем его! С нами аллах!
Но невесты и жены свинец
Растопили в ружейных стволах.
И решили ревнивцы тогда
В башню смерти тебя заточить.
Ключ в потоке исчез навсегда,
Чтоб дверей не смогли мы открыть.
Но из собственных кос сплетена
Нами за день веревка была.
Твоего мы достигли окна,
Голубиные вскинув крыла.
И решили мужчины в тоске:
Бросим в реку с утеса,
что сед.
Но спасли тебя в бурной реке,
За тобою мы кинулись вслед.
И мужья, став чернее земли,
Сговорившись с парнями тайком,
Дорогую твою отсекли
Буйну голову острым клинком.
Черный камень надгробной плиты
Мы с могильного сняли холма,
И вознесся над ревностью ты,
И сводил нас, как прежде, с ума.
Мы, как белое тело свечи,
Пред тобою до белого дня
Снова счастливы таять в ночи,
Золотое сердечко огня.
* Лал – драгоценный камень.
Парень гор. Легенда
– Эй, ненаглядная, скорей
Открой-ка двери мне!
– Откуда, парень, у дверей
Ты взялся при луне?
– Клянусь я:
сердце привело
Меня на твой порог!
– Незваный гость, садись в седло,
Найди другой чертог!
– Тебе, красотка, бог судья,
Любовь мою проверь:
Скажи, что должен сделать я,
Чтоб ты открыла дверь?
– Эй, парень, спрыгнувший с коня,
Не угоди в шуты!
Есть три желанья у меня
Да удалец ли ты?
Желанья выполнишь, считай,
Нашел к двери ключи.
Касаясь шапкой птичьих стай,
За семь вершин скачи...
– Куда скакать, в какой набег?
Приказывай, не мучь!
– Гнездится голубь, бел как снег,
У края черных туч.
К нему, когда взойдет луна,
Лиса направит путь.
Ты лисью шкуру, что красна,
К рассвету мне добудь!
Восток в малиновой парче,
Храпит под парнем конь.
И лисья шкура на плече
Пылает как огонь.
– Эй, чародейка, дверь открой,
К тебе я мчался вскачь!
– Ты уговор забыл, герой,
Он был из трех задач.
И говорит ему она:
– Садись в седло опять,
Жемчужин горсть с морского дна
Ты должен мне достать!..
Держа жемчужины в горсти,
Вступил он на порог:
– Эй, ненаглядная, впусти,
Я возвратился в срок!
– Ты нетерпенье, парень гор,
До времени смири,
Дороже денег уговор,
Моих условий – три!
– Куда держать мне путь теперь,
Скажи скорей о том?
– Через распахнутую дверь
В девический мой дом.
Но, прежде чем меня обнять,
Дай клятву, парень гор,
Что навсегда отца и мать
Забудешь с этих пор.
Не медли, милый, дай зарок
И страсти не таи,
Войдешь ты, как в ножны клинок,
В объятия мои.
Ах, не молчи, лихой джигит,
Со мной забудешь свет.
Куда ж ты, сокол?..
Стук копыт
Послышался в ответ.
Завет Махмуда
Горский парень в дом Махмуда
Раз пришел чуть свет.
Говорит:
– Ты в силе чудо
Совершить, поэт.
Сочини такие строки,
Чтоб они успех
Обрели бы на Востоке
У влюбленных всех.
И открыли мне дорогу
К той наверняка,
Чей отказ жесток,
ей-богу,
Как удар клинка.
Вскоре песня над Кавказом
Ринулась в полет.
Прикоснешься к ней
и разом
Пальцы обожжет.
И в ауле Кахаб Росо
Стали говорить:
Красный сокол взмыл с утеса,
Чтоб сердца когтить.
И, Махмуду благодарен,
Полный рог вина
Осушил на свадьбе парень
За него до дна.
Я и сам в года иные,
Молод и удал,
Словно стены крепостные
Этой песней брал.
Горец стреляный
к Махмуду
Раз пришел чуть свет.
Говорит:
– Век помнить буду,
Удружи, поэт.
Я вдову у нас в ауле
Сватал, но она
Мужа, павшего от пули,
Памяти верна.
О моем,
под звон пандура,
Жребии лихом
Ты поведай, словно сура *,
Золотым стихом.
И какие,
думай сам уж,
Мне нужны слова,
Чтобы, сдавшись, вышла замуж
За меня вдова.
Вскоре пир на всю округу
Грянул, говорят,
За Махмуда рог по кругу
Пил и стар и млад.
И среди честного люда
Дед мой тоже был.
Выпил рог он за Махмуда,
А потом спросил:
– Как постиг ты это дело,
Что у темных круч
К сердцу женскому умело
Подбираешь ключ?
Над горами месяц светел
Плыл и плавил тьму.
И, вздохнув, Махмуд ответил
Деду моему:
– Осужденная молвою,
Та, что мне мила,
И невестой и вдовою
На веку была.
Я носил шинель солдата,
Солнце – в голове.
Пел я девушке когда-то,
А потом – вдове.
Глубока, как память крови,
Память о Марьям.
Ключ любви таился в слове,
Что дарил я вам.
И верней ключа покуда
Не было и нет,
Походил ответ Махмуда
На святой завет.
Открывал в года иные,
С буркой за плечом,
Сам я
словно крепостные
Двери тем ключом.
* Сура – глава корана.
«Себе представший в образе Махмуда...»
Себе представший в образе Махмуда,
Лежу ничком в Карпатах на снегу,
И грудь моя прострелена.
Мне худо,
И снег багров, и встать я не могу.
Но все ж меня домой живым вернули,
И под конем изменчивой Муи
Стою, как месяц ясный,
но в ауле
Следят за мною недруги мои.
Кумуз настроив, только начал петь я,
Они меня схватили, хохоча,
И спину мне расписывают плетью
Крест-накрест,
от плеча и до плеча.
Пусть насмехается имам из Гоцо,
Пригубив чашу огненной бузы.
Я зубы сжал.
Мне потерпеть придется,
Он не увидит ни одной слезы.
Что я Махмуд, мне показалось нынче,
Брожу в горах, печальный от любви,
Со звездами, чей свет исполовинчат,
Я говорю, как с близкими людьми.
Роятся думы, голова что улей,
Пою любовь, чтоб вы гореть могли,
Но рвется песня:
я настигнут пулей
Пред домом кунака из Игали.
Прощайте, люди.
Поздно бить тревогу.
Меня на бурке хоронить несут.-.
Какая мысль нелепая, ей-богу,
Мне показалось, будто я Махмуд.
Целую женские руки (Поэма). Перевод И. Озеровой
I
Целую, низко голову склоня,
Я миллионы женских рук любимых,
Их десять добрых пальцев для меня,
Как десять перьев крыльев лебединых.
Я знаю эти руки с детских лет.
Я уставал – они не уставали.
И, маленькие, свой великий след
Они всегда и всюду оставляли.
Продернув нитку в тонкую иглу,
Все порванное в нашем мире сшили.
Потом столы накрыли.
И к столу
Они всю Землю в гости пригласили.
Они для миллионов хлеб пекли.
Я полюбил их хлебный запах с детства.
Во мне, как в очаге, огонь зажгли
Те руки, перепачканные тестом.
Чтобы Земля всегда была чиста,
Они слезой с нее смывают пятна.
Так живописец с чистого холста
Фальшивый штрих стирает аккуратно.
Им нужно травы сметывать в стога,
Им нужно собирать цветы в букеты
Так строится бессмертная строка
Из слов привычных под пером поэта.
Как пчелы в соты собирают мед,
Так эти руки счастье собирают.
Земля! Не потому ли каждый год
В тебе так много новизны бывает?
Когда приходит радость, опьяняя,
Я эти руки женские всегда
Целую, низко голову склоняя.
II
Я знаю эти руки.
Сколько гроз
Осилили несильные, родные.
Их сковывал петрищевский мороз,
Отогревали их
Костры лесные.
У смерти отвоевывая нас,
Дрожа от напряженья и бессилья,
Они, как новорожденных, не раз,
Запеленав, из боя выносили.
А позже, запеленаты в бинты,
Тяжелых слез ни от кого не пряча,
Вернувшись из смертельной темноты,
Мы узнавали их на лбу горячем.
В них тает снег и теплится огонь,
Дожди звенят и припекает солнце,
И стонет скрипка, и поет гармонь,
И бубен заразительно смеется.
Они бегут по клавишам.
И вдруг
Я замираю, восхищеньем скован:
По властному веленью этих рук
Во мне самом рождается Бетховен.
Мир обступил меня со всех сторон,
Лишь на мгновенье задержав вращепье,
И, как воспоминанье, древен он
И юн, как наступившее свершенье.
Они бегут по клавишам.
И вот
Воскресло все, что память накопила...
Мне мама колыбельную поет,
Отец сидит в раздумье у камина.
И дождь в горах, и вечный шум речной,
И каждое прощанье и прощенье,
И я, от свадьб и похорон хмельной,
Жду журавлей залетных возвращенья.
Вот вышли наши женщины плясать.
О, крылья гордой лебединой стаи!
Боясь свою степенность расплескать,
Не пляшут – плавают, не пляшут, а летают.
Пожалуй, с незапамятных времен
Принц ищет в лебедях приметы милой,
И мавры убивают Дездемон
Уже давно во всех театрах мира.
И Золушки находят башмачки,
Повсюду алчность побеждая злую.
Целую жесткость нежной их руки
И нежность мужественных рук целую.
Целую, словно землю.
Ведь они
Мир в маленьких своих ладонях держат.
И чем трудней и пасмурнее дни,
Тем эти руки и сильней и тверже.
Мир – с горечью и радостью его,
С лохмотьями и праздничной обновой,
С морозами и таяньем снегов,
Со страхами перед войною новой,
Вложил я сердце с юношеских лет
В любимые и бережные руки.
Не будет этих рук – и сердца нет,
Меня не будет, если нет подруги.
И если ослабеют пальцы вдруг
И сердце упадет подбитой птицей,
Тогда сомкнётся темнота вокруг,
Тогда сомкнутся навсегда ресницы.
Но силы не покинули меня.
Пока живу, пока дышу – живу я.
Повсюду, низко голову склоня,
Я эти руки женские целую.
III
В Москве далекой был рожден поэт
И назван именем обычным – Саша.
Ах, няня! С первых дней и с первых лет
Его для нас растили руки ваши.
В моих горах певец любви Махмуд
Пел песни вдохновения и муки.
Марьям! Как много радостных минут
Ему твои всегда давали руки.
Теперь любое имя назови
Оно уже не будет одиноко:
О, руки на плечах у Низами,
О, руки, обнимающие Блока!
Когда угас сердечный стук в груди,
Смерть подошла и встала в изголовье,
Тебя, мой незабвенный Эффенди,
Они пытались оживить любовью.
Когда на ветках творчества апрель
Рождал большого вдохновенья листья,
Из этих рук брал краски Рафаэль,
И эти руки отмывали кисти.
Не сетуя, не плача, не крича
И все по-матерински понимая,
Они сжимали плечи Ильича,
Его перед разлукой обнимая.
Они всплеснули скорбно.
А потом
Затихли, словно ветви перед бурей.
И ленинское штопали пальто,
Пробитое эсеровскою пулей.
Они не могут отдохнуть ни дня,
Неся Земле свою любовь живую.
И снова, низко голову склоня,
Я эти руки женские целую.
IV
Я помню, как, теряя интерес
К затеям и заботам старших братьев,
По зову рук далекой Долорес
Хотел в ее Испанию бежать я.
Большие, как у матери моей,
Правдивые, не знающие позы,
И молча хоронили сыновей,
И так же молча вытирали слезы.
Сплетались баритоны и басы:
«Но пасаран!» – как новой жизни символ.
Когда от пули падали бойцы,
Ей каждый сильный становился сыном.
Я помню, в сакле на меня смотрел
С газетного портрета Белояннис,
Как будто много досказать хотел,
Но вдруг умолк, чему-то удивляясь.
С рассветом он шагнет на эшафот,
Ведь приговор уже подписан дикий.
Но женщина цветы ему несет
Прекрасные, как Греция, гвоздики.
Он улыбнулся,
Тысячи гвоздик
В последний раз увидел на рассвете,
II до сих пор, свободен и велик,
Он по Земле идет, смеясь над смертью.
Я помню Густу,
Помню, как она
В одном рукопожатии коротком
Поведала, как ночь была черна
И холодна тюремная решетка.
Там, за решеткой, самый верный друг
С любовью в сердце и петлей на шее
Хранил в ладонях нежность этих рук,
Чтоб, если можно, стать еще сильнее.
Глаза не устают.
Но во сто крат
Яснее вижу наболевшим сердцем,
Как руки женщин Лидице кричат
И как в печах сжигает их Освенцим.
Я руку возвожу на пьедестал.
...У черных женщин – белые ладони.
По ним я горе Африки читал,
Заржавленных цепей узнал я стоны.
И, повинуясь сердцу своему,
Задумавшись об их тяжелой доле,
Спросил у негритянки:
– Почему
У черных женщин белые ладони?
Мне протянув две маленьких руки,
Пробила словом грудь мою навылет:
– Нам ненависть сжимает кулаки,
Ладони солнца никогда не видят!
Святые руки матерей моих,
Засеявшие жизненное поле...
Я различаю трепетно на них
Мужские, грубоватые мозоли.
Ладони их, как небо надо мной,
Их пальцы могут Землю сдвинуть с места.
Они обнять могли бы шар земной,
Когда бы стали в общий круг все вместе.
И если вдруг надвинется гроза,
Забьется птицей в снасти корабельной,
Раскинув сердце, словно паруса,
Я к вам плыву, земные королевы!
Земля – нам дом.
И всем я вам сосед
Француженке, кубинке, кореянке.
Я столько ваших узнаю примет
В прекрасной и застенчивой горянке.
Как знамя ваши руки для меня!
И словно на рассвете в бой иду я,
Опять, седую голову склоня,
Я эти руки женские целую.
V
Смеясь, встречает человек рассвет,
И кажется, что день грядущий вечен,
Но все-таки по множеству примет
Мы узнаем, что наступает вечер.
А вечером задумчив человек,
Приходит зрелость мудрая и злая...
Но я поэт.
День для меня – как век.
И возраста я своего не знаю.
Я очень поздно осознал свой долг,
Мучительный, счастливый, неоплатный;
Я осознал,
Но я вернуть не смог
Ни дни, ни годы детские обратно.
Себе я много приписал заслуг,
Как будто время вдруг остановилось,
Как будто я лучом явился вдруг
Или дичком в саду плодовом вырос.
Могу признаться, мама, не тая:
Дороги все мои – твои дороги,
И все, что прожил, – это жизнь твоя,
И лишь всю жизнь твои писал я строки.
Я – новорожденный в руках твоих,
И я – слезинка на твоих ресницах.
За частоколом лет мой голос тих,
Но первый крик тебе доныне снится.
Не спишь над колыбелью по ночам
И напеваешь песню мне, как прежде.
Я помню, как начало всех начал,
Напевы ожиданья и надежды.
Вхожу я в школу старую.
И взгляд
Скользит по лицам – смуглым, конопатым,
А вот и сам, как тридцать лет назад,
Неловко поднимаюсь из-за парты.
Учительницы руки узнаю
Они впервые карандаш мне дали.
Теперь я книгу новую свою,
Поставив точку, отпускаю в дали.
О руки матери моей, сестер!
Вы бережно судьбу мою держала,
И вас я ощущаю до сих пор,
Как руки женщин всей моей державы!
Вы пестовали ласково меня
И за уши меня трепали чаето.
В начале каждого большого дня
Вы мне приветливо желали счастья.
И вы скорбели, если вдалеке,
В безвестности
Я пропадал годами,
И вы о жизни по моей руке
Наивно и уверенно гадали.
Вы снаряжали нас для всех дорог,
Вы провожали нас во все скитанья,
Мы возвращались на родной порог
И снова говорили: «До свиданья».
Когда коня седлает во дворе
В неблизкий путь собравшийся мужчина,
Его всегда встречает на заре
Горянка с полным до краев кувшином.
Чужая, незнакомая почти,
Стоит в сторонке,
Только это значит,
Примета есть такая,
Что в пути
Должна ему сопутствовать удача.
Страна родная! Думается мне,
Твой путь имел счастливое начало:
Октябрь, скакавший к счастью на коне,
С кувшином полным женщина встречала.
Она стояла молча у ворот,
Прижав к груди спеленатого сына,
И время шло уверенно вперед
И становилось радостным и сильным.
Октябрь перед последним боем пил,
Клинок сжимая, из кувшина воду...
Быть может, потому так много сил
И чистоты у нашего парода.
Шел человек за нашу правду в бой,
И мертвыми лишь падали с коня мы.
Но, Родина, ни перед кем с тобой
Мы голову вовеки не склоняли.
Не будет никогда такого дня,
Всегда беду мы одолеем злую.
И снова, низко голову склоня,
Я эти руки женские целую.
VI
Я у открытого окна стою.
Я солнце в гости жду ежеминутно.
Целую руку близкую твою
За свежесть нерастраченного утра.
Несу к столу, к нетронутым листам,
И щебет птиц и ликованье радуг...
Бывало, мать, пока отец не встал,
Все приводила на столе в порядок.
Боясь вспугнуть его черновики,
Чернила осторожно пополняла.
Отец входил и надевал очки.
Писал стихи.
И тишина стояла.
На оклик: «Мать!» – поспешно шла она,
Чтобы принять родившиеся строки.
И снова наступала тишина,
В ней лишь перо пришептывало строго.
Все тот же стол, и тишина вокруг
Здесь время ничего не изменило.
И добрая забота близких рук
Вновь не дает пересыхать чернилам.
Мне руки говорят;
"Пиши, поэт!
Пусть песня никогда не оборвется,
Пусть наступает каждый день рассвет,
И мысль всегда рождается, как солнце!"
И я пишу, пока писать могу,
И рано смерти многоточье ставить.
Но, словно след на тающем снегу,
Должна и жизнь когда-нибудь растаять.
Но песня не прервется и тогда,
Когда успею сотни раз истлеть я.
Она придет в грядущие года
Тревожным днем двадцатого столетья.
Потомки, позабывшие меня!
Отцов перерастающие дети!
Целуйте, низко голову склоня,
Как жизнь саму, родные руки эти!




