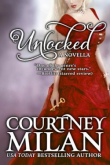Текст книги "Ключ дома твоего"
Автор книги: Рагим Гусейнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Первое, что она увидела, когда высвободила голову из-под бурки, был яркий свет полной луны, ставшей вдруг большой, почти на все небо и висевшей совсем близко над ее головой. Такой она луну видела впервые, казалось, луна сама нагнулась к ней, помогая освободиться от пут. Она была столь яркой, что Айша непроизвольно зажмурила глаза и хотела никогда больше их не открывать. Хотела, чтобы все это оказалось сном, чтоб наступило утро, и она забыла о нем, как о тяжелом кошмаре, мучавшем ее всю ночь. Или рассказала бы о нем, как учила мать, горькой луковице, надкусив ее, чтобы сон не сбылся, выбросила бы далеко, прочь от дома, прочь от родного очага. Но это был не сон.
Она узнала этот силуэт, что на миг промелькнул перед ней в свете луны, и не было больше в ее сердце страха, а был большой стыд, а еще была обида и боль, пронзившие ее сердце, и слезы, горькие, тяжелые, медленно скатывались из-под ее крепко зажмуренных глаз вниз по щекам. Мутными были эти слезы, это в слезах радости свет играет тысячами огней, искрится, светится, наполняя все вокруг счастьем. В слезах Айши утонул лунный свет.
– Айша, не плачь! – тихо позвал ее знакомый голос, но видя, что она не ответила ему, снова повторил свою просьбу, – Не плачь!
– Зачем? – тихо, так тихо, что он скорее угадал, чем услышал их, спросила она едва дрогнувшими губами, со все еще крепко зажмуренными глазами. Не получив ответа, она медленно раскрыла глаза, в которых внезапно высохли слезы, и в упор посмотрев на своего похитителя, повторила, – Зачем ты сделал это, Гуламали?
Отшатнулся Гуламали от звука ее голоса. Сколько ненависти, презрения и брезгливости было в этих словах, столько же в них было боли, жалости и обиды. Задрожал от этих слов Гуламали, упал перед ней на колени, пытаясь поймать ее выступающую из-под бурки руку и поцеловать ее. Отдернула брезгливо руку Айша, как будто жаба коснулась ее, всю ее передернуло от его прикосновения. Не укрылось это от глаз Гуламали, почувствовал он через бурку, как дрожь прошла по всему ее телу, и зло охватило его. Зло на свою судьбу, что породила его таким несуразным, некрасивым, что не держал он в доме зеркал, так как больно было ему видеть свое отражение.
– Мне нет обратной дороги, Айша. Ты это понимаешь.
– Ты не должен был это делать!
– Я люблю тебя, Айша. С ума схожу в твоем присутствии.
– Молчи!
– Нет! Я тебя люблю! Что ты нашла в этом Эйвазе?
– Нет!
– Да! Я ночами не сплю, мечтая о тебе.
– Нет! Молчи!
– Я не отдам тебя никому, слышишь, никому! Или ты будешь моей, или ничьей!
– Ты сумасшедший, – кричала Айша, – немедленно отпусти меня.
Но крепко держали ее руки Гуламали.
– Айша, ты не смотри, что я такой. У меня много денег. И дом у меня есть в Тифлисе. Уедем.
– Пусти, – толкала его Айша что есть силы.
– Уедем, никто нас не найдет, не будет знать, где мы. Только ты и я. Люблю тебя, Айша. С ног до головы осыплю тебя золотом, одену в шелка и бархат. Все, что захочешь, куплю, все для тебя сделаю.
– Отпусти, тебя убьют за это.
– Мне с тобой смерть не страшна. Айша, уедем в Тифлис. Я хочу, чтоб ты стала матерью моих детей.
И тут Айша рассмеялась. Это получилось непроизвольно, неожиданно, странно звучал ее смех в этом месте, в этой ситуации, в которой они оказались. Настолько странно, что Гуламали вздрогнул, опешил, услышав этот смех, горький, злой, проникающей в душу. С каждым мгновением ему становилось ясно, что никогда ему не добиться ее взаимности. Гуламали медленно поднялся на ноги. Даже при свете луны можно было заметить, как почернело его лицо, как гнев исказил его черты.
– Будь проклята ты, змея! – кричал он, раз за разом обрушивая на нее удары, вкладывая в них всю силу своей неразделенной любви, но ни разу не вскрикнула Айша от боли, только сильнее горели ненавистью ее глаза. – Ты думаешь, я отпущу тебя. Нет! Никому ты не достанешься! Ну, где твой Эйваз? Ха,– ха, – словно пьяный кричал Гуламали.
– Ты будешь моей! Слышишь, ты будешь моей, сейчас, здесь!
Отшатнулась от него Айша, когда он, навалившись на нее, рванул и разорвал ворот ее вышитого платья. И поплыло все перед глазами опьяневшего Гуламали, когда он увидел, как засеребрились под луной обнаженные груди Айши с маленькой родинкой между ними. Уже ничего не соображая, прильнул к ним Гуламали своими влажными, горячими губами, жадно шаря по молодому телу похотливыми, вспотевшими руками, не слыша больше ее слов и проклятий, не обращая внимания ни на ее укусы, ни на отчаянное сопротивление. Но вдруг словно отрезвел Гуламали. Тело, еще мгновение назад отчаянно бьющееся в его руках, вдруг обмякло и повисло в его объятьях тяжелым грузом. Осторожно отстранился Гуламали от нее и, медленно поднимая голову, заглянул в лицо Айши, и увиденное привело его в отчаяние. Айша была без сознания. Все желание его вмиг улетучилось.
– Ты опять обманула меня! – кричал Гуламали, схватившись за голову.
Ему хотелось власти, хотелось видеть унижение былого величия этой капризной девчонки, повергнутой в прах перед его силой. Она должна была плакать, просить, умолять его, должна была целовать его руки, дрожать в его руках от страха, только тогда он почувствует себя счастливым, думал Гуламали. Ему хотелось насладиться своей победой, но не было уже рядом никого, кто мог бы все это увидеть.
– Ты опять смеешься надо мной, змеиное отродье! Ты ведьма! Ведьма! кричал он.
...
Шатаясь, спотыкаясь о камни, ходил Гуламали по обрыву Архачая, что протекала внизу, поблескивая при свете луны. Ничего больше в его душе не осталось, одна пустота. Даже страх пропал. Это подлое, расслабляющее тело чувство страха не покидало его все это время, с тех самых пор, как оглянулся он на шорох за спиной, будучи в комнате у Айши. Каждую минуту он жил в ожидании разоблачения, каждый раз в страхе оглядывался, боясь насмешек за спиной, в каждом взгляде, брошенном невзначай в его сторону, находил для себя оскорбление. Он устал от этого ожидания, но ничего с этим он уже поделать не мог. И он знал, это будет продолжаться вечно, пока жива Айша. Он любил ее, любил сильно, но страх оказался сильнее. И страх победил.
Гуламали знал теперь, что Айша должна умереть, исчезнуть из этого мира и из его жизни, она не оставила ему другого выбора. И с этой минуты он старался не думать о ней, забыть ее, старался пересилить себя и не смотреть в ее сторону. Пытался заставить себя сделать то, что он должен был сделать сразу же, как только привез ее сюда к обрыву, завернутую в бурку. Убить молча, не разговаривая с ней. Ведь знал же он, что все разговоры будут впустую. Это в сказках красавица влюбляется в чудовище и, поцеловав его, возвращает ему красоту и стать, разрушив злые чары. А потом они женятся и бывают счастливы всю жизнь. Эта сказка была любимой у Гуламали с самого детства. Подсознательно он чувствовал влечение к красоте, которая была ему недоступна. Но вскоре, красота стала ему ненавистна. Надо было сразу ее заколоть и сбросить в ручей, думал Гуламали, а теперь, когда он снова увидел ее глаза, убить ее для него будет труднее. Но он это сделает, убеждал себя Гуламали, обязательно сделает, иначе позор и бесчестье ему обеспечены, а это пострашнее смерти.
Звук взведенного курка, одного, потом другого, внезапно раздавшегося за спиной, остановил течение его мыслей. Этот знакомый с детства звук сейчас, в тишине ночи, прерывающейся тихим журчанием воды, текущей внизу между камнями, прозвучал особенно громко и тревожно. Медленно повернулся Гуламали всем телом по направлению к источнику этого звука, уже вынув из ножен свой кинжал. Ярко вспыхнул клинок его под лунным светом, и взревел Гуламали при виде дула винтовки, направленного в его сторону.
– Ты не сможешь! Не посмеешь! – крикнул он и двинулся навстречу выстрелу.
Первый же выстрел остановил его. Словно от удара об стену, его отбросило назад. Вторая пуля, пущенная вслед первой, прожужжала рядом с левым ухом, не задев его, но он ее больше не слышал. Гуламали уже был мертв, хотя и стоял еще мгновение на краю обрыва, раскинув руки, а затем беззвучно, вытянувшись, как никогда в жизни, прямо, во весь рост, стал падать спиной в протекающий внизу Архачай, куда за секунду до этого со звоном, от удара по камням упал его клинок, выпавший из рук.
Дважды ударялось его тело, задевая острые камни, выступающие под обрывом, пока не упало бесформенной массой в реку. Только папаха его, слетев с головы, тихо закружилась в небольшом водовороте.
Глава восьмая.
Звук выстрелов еще звучал в ушах Айши, когда она, выронив ружье, бессильно опустилась на землю. Слезы хлынули из глаз ее, в голос зарыдала она. Кошмар кончился. Несколько минут назад, едва придя в себя, она вначале не могла понять, что за странные звуки она слышит над головой, пока не сообразила, что это Бозат, конь Гуламали, что он, опустив голову, толкает ее. Пересиливая боль, Айша медленно поднялась, держась за подпругу, и оглянулась. Гуламали стоял у обрыва, спиной к ней, и вся его фигура при свете луны, была зловещей. И уже не думая, автоматически она сняла винтовку, качающуюся у седла Бозата рядом с ее лицом. Она не посмотрела, есть ли в стволах патроны. Руки сами взвели курки и, когда Гуламали, повернувшись, в бешенстве, двинулся на нее, нажала на них. Сначала на левый курок, а затем на правый...
Только теперь, когда все осталось позади, она со всей отчетливостью поняла трагичность ситуации, в которую ее ввергла судьба. С ее возвращением лопнет мир в Вейсали, мир, пришедший с ее рождением. Снова закроются двери соседей друг перед другом, снова будут гибнуть молодые люди от бесконечных стычек, как раньше. Об этом рассказывали ей тетушки и всегда при этом целовали ей руки в знак благодарности.
–Что ты сделал, несчастный! – причитала она, сотрясаясь от рыданий.
Конь Гуламали, испуганно отскочивший в сторону при звуках выстрелов, теперь успокоившись, тихо заржал невдалеке от Айши, озираясь по сторонам.
Пересиливая свой страх и отвращение, Айша подошла к краю обрыва. Отсюда Гуламали виден не был, мешали выступы внизу, и она осторожно сделала еще один шаг, к самому краю. Отсюда, еще немного нагнувшись вперед, она отчетливо увидала среди камней на берегу Архачая неестественно вывернутые ноги Гуламали. Ей стало плохо, тошнота подступила к горлу, и она слегка качнулась.
– Стой там, не двигайся, – вдруг услышала она властный окрик сзади.
От неожиданности она вздрогнула и, чтоб не упасть, присела на корточки, опираясь о камни рукой. Невдалеке чуть позади коня Гуламали стоял всадник. Это его учуял и высматривал в ночи Бозат, тихо перебирая ногами. Сейчас оба коня стояли рядом, обмахиваясь хвостами.
– Кто ты?
– Не бойся!
– Не подходи!
– Стой, я сказал! Осторожней!
– Я сейчас брошусь вниз.
– Не бойся, дочка! Успокойся!
И не зная почему, Айша заплакала. И в слезах этих было все – боль от побоев, обида за обман и разбитые надежды. Голос этот был ей не знаком, но страха она больше не испытывала.
...
Рассвет нового дня в Сеидли ничем не отличался от сотен других, из года в год сменяющих друг друга. Природа не отмечает их особым знаком. Лишь человек в своей памяти выделяет отдельные моменты только ему одному известными вехами, счастливыми или горестными, но оставившими в его судьбе значительный след.
Для Садияр-аги этот весенний день уже стал особым. Он знал, что события этой ночи не пройдут бесследно и отразятся на всей его дальнейшей жизни. С того самого мгновенья, когда он, повернув коня, бросил его в галоп на звук раздавшихся справа выстрелов, еще не понимая, что произошло, прошла казалось целая вечность.
Маленькое испуганное существо, завернутое в его бурку, наконец успокоилось. Она перестала плакать и, прижав головку к его мокрой от слез гимнастерке, казалось, уснула. Садияр-ага чувствовал ее тепло. Всем телом он ощущал, как соленое пятно от слез все увеличивалось на его груди и, проникая вглубь его тела, медленно согревало его. Лед, который, казалось, уже навсегда сковал его душу, треснул и рассыпался маленькими искорками под копыта его коня. С каждой минутой сердце его наполнялось щемящей нежностью к этой девушке. Как драгоценную ношу, он придерживал ее кончиками пальцев, боясь ненароком оскорбить ее. И чем больше проходило времени, все более суровым становилось лицо его. Ничего он о ней пока не знал, но уже понял, что с этого мгновения он в ответе за нее, и никто отныне не посмеет ее обидеть.
Глава девятая
Айша и вправду спала. Второй раз за эту ночь чужой мужчина, укутав ее в бурку и посадив перед собой на коня, увозил в ночь. Но если в первый раз она испытывала страх и унижение, неизвестность и обиду, то сейчас она чувствовала себя королевой на троне. Безошибочным женским чутьем она угадала в нем своего мужчину, и теперь, выплакавшись и согревшись в его нежных объятьях, Айша уснула под стук копыт иноходца, сливавшийся с ударами сердца Садияра. Ей хотелось лишь одного, чтобы эта ночь никогда не кончалась, чтобы всегда была эта дорога, эта луна и этот молчаливый всадник, обнимающий ее осторожно поверх черной, мягкой бурки, пропитанной смешанным запахом полевых цветов и табака. И сейчас не было для нее никого родней и ближе, чем он. Воспоминания об Эйвазе остались там, где-то очень далеко. Он ей нравился, с ним ей было весело, от души смеялась она его словам, шуткам, прыгала от восторга, разглядывая себя в зеркале, примеривая разноцветную шаль, подаренную Эйвазом ей на Новруз, но первые слезы, уже не вчерашней, беззаботной девочки, а вмиг повзрослевшей Айши, она пролила на груди Садияра.
...
Как тень проплыл он по спящему селению, ни одна собака не залаяла ему вослед, и только когда Садияр начал подниматься по тропинке и первые лучи солнца, разорвав мрак, заиграли маленькими искорками на крыше стоящего на пригорке его нового дома, неожиданно раздался петушиный крик, возвестивший миру о его возвращении и о приходе нового дня.
Мать Садияра, старая Сугра задолго до рассвета вышедшая на порог, с беспокойством вглядывалась в силуэт всадника, приближающегося к дому. После гибели своей семьи Садияр редко не ночевал дома. За это время он несколько раз встречался с разными, очень странными на вид людьми, явно не местными. Своих сельчан Сугра– ханум знала, многих по имени, но молодых, особенно юношей, на лицо, все они выросли перед ее глазами. Но эти люди были чужими, и от них исходил страх. Настороженно смотрели они на нее, когда она накрывала им по просьбе Садияра стол и приносила еду. В эти дни Садияр отпускал всю прислугу и ей приходилось все делать самой. Кто они были, она не знала и не спрашивала о них своего сына. Он был достаточно взрослый, чтоб самому принимать решения, не гоже матери вмешиваться в дела взрослого сына. Несколько раз после этих встреч уезжал Садияр, иногда на день или два. Вернувшись, уставший, измотанный, бессонный, весь в пыли и грязи, с красными, воспаленными глазами, он молча смотрел на мать и, сбросив с плеч бурку прямо на пол, опустив голову, долго развязывал пояс с кинжалом, который, если снимал с себя, отдавал только в руки матери, и уходил мыться. Вернувшись переодетым в чистую рубаху, он так же молча садился за стол. И только наевшись, он тихо спрашивал о делах в доме. Ответ матери он слушал, но не вникал в сказанное. Видно было, что дела в доме его совсем не интересуют. Затем вставал и, попрощавшись с матерью, снова взяв свой кинжал, удалялся в свой дом, из которого в этот день он больше не выходил.
Вот и теперь он возвращался после двухдневного отсутствия. Сугра– ханум вначале даже не узнала его, но радостными были зазывания Топлана, собаки Садияра, побежавшей навстречу всаднику и, счастливо виляя хвостом, крутящейся у ног его коня. Только когда всадник подъехал достаточно близко и ослабевшие глаза Сугры различили его ношу, затрепетало сердце ее от радостного волнения.
Садияр остановился у дома своей матери. Сойдя с коня, он осторожно взял на руки девушку, завернутую в бурку, и на руках внес ее в дом. Дверь в комнату была низкой для его огромного роста, и Садияру пришлось низко пригнуться. Но даже волос не шелохнулся на голове у Айши, так осторожно нес ее Садияр. И только тут, оставив ее на попечении матери, он молча ушел, опустив голову, не сказав ни слова Айше, не взглянув на нее. Он знал, что, если он увидит ее глаза, выйти отсюда он больше не сможет.
Прошел год, прежде чем Айша переступила порог нового дома Садияра. Вошла, твердо зная, что она желанна. Это было ее решение и отступать она не хотела.
Глава десятая.
Ни разу на протяжении этого года Садияр-ага не сделал попытки заговорить с ней, спросить о чем-то, поделиться своими мыслями. Все, что надо, он передавал через свою мать. А в ее присутствии он старался глаз не поднимать, краснел и, опустив голову, безмолвно удалялся. Но сколько раз ловила Айша украдкой брошенный ей вослед взгляд. И когда это замечала, как свечка вспыхивала Айша. Сугра с улыбкой наблюдала за ними, но ничем не выдавала себя. Прошло то время, когда сын ее с улыбкой, смущаясь и пряча глаза, отвечал на ее расспросы о Хумар, когда он, играя новеньким, привезенным из Тебриза хлыстом, гарцевал на своем вороном красавце на площади, недалеко от дома ее отца, наблюдая за ней, возвращающейся в окружении подруг с родника с небольшим, медным, сплошь разукрашенным мельчайшими узорами кувшином за плечами. Тогда всем в селении было известно, что Садияр, сын Исрафил-аги, намерен привести в дом отца своего невесту, дочь почтенного Гулу-бека, юную красавицу, кареглазую Хумар.
К празднику Новруз ей как раз должно было исполниться шестнадцать, но уже дважды сваты стучались в двери ее отца, и дважды уходили они ни с чем, никак не могли уговорить старого Гулу – бека.
– Моя дочь еще дитя. Она мне не в тягость.
– Гулу-бек, девичий срок короток. Девушку долго нельзя держать, сам знаешь. Исстари так повелось, пришел срок, постучались в дверь сваты, надо благословить. Богоугодное это дело.
Но глух был Гулу – бек ко всем этим словам.
– Пусть еще понежится у отцовского очага. Рано ей еще детей рожать, сама она еще ребенок.
Тяжело вздыхали сваты и, понуро опустив головы, уходили, но ничего не могли поделать, слово отца – закон.
Сугра хорошо знала и Гулу-бека и его супругу, уважаемую всеми на селе Зивар-ханум, полную, белолицую, все еще красивую женщину. Многие женщины, судача между собой, бесспорно признавали ее красоту. Она была украшением всех женских собраний в Сеидли, без нее не приступали к трапезе ни на свадьбах, ни на поминках. А о том, какой красавицей она была в молодости, когда Гулу-бек привез ее из далекого Карабаха, ходили легенды.
Сугра-ханум не стала повторять чужих ошибок. Узнав о желании сына, она сама нанесла визит к Зивар – ханум. Долго длилась их беседа, как бабочки порхали они от одной темы к другой, с полуслова понимая и оценивая каждую реплику, каждое случайно сказанное слово, ненароком брошенный взгляд, а главное, тон речи и глубину искренности. Обе они были искусными собеседницами, любящими это дело и знавшими в нем толк. И хотя о деле не было сказано ни слова, но женщины обо всем договорились.
– Что-то тихо в твоем доме Зивар? Да и у меня давно не слышно детского плача!
– И не говори, Сугра. От тишины уши пухнут. В тот день даже Гулу-бек рассердился на нас, говорит, что притаились, хоть бы песню какую запели?
– И что спели?
– Кто будет петь, Сугра, о чем ты говоришь! Моя дочь? Разве посмеет она при отце! Не дитя ведь, уже скоро шестнадцать!
– В ее годы я уже нянчила своего Садияра, – бросила Сугра и быстро посмотрела в лицо Зивар-ханум, наблюдая за произведенным эффектом. Слова попали в точку. Зивар-ханум заерзала, отвела глаза и поменяла тему разговора.
– Слушай, Сугра, ты не была на прошлой неделе на поминках в доме Рзагулу-бека?
– Как не была? Была! Только я рано ушла, голова что-то разболелась. Видать старость приходит!
– Какая старость? Ты еще, слава Богу, молода, красива! А голову перед сном помой мятной водой, хорошенько помассируй, укутай теплой шалью – и утром ты себя не узнаешь. Никакой боли, никакой тяжести. Мне Хумар через день так делает.
– У кого дочь, тот не поймет нас, – демонстративно вздохнув, ответила ей Сугра. – Кто мне помоет голову? Садияр? Как сын, слов нет, дай бог каждому, но не мужское это занятие! Вот если бы была невестка? – И она снова вопросительно посмотрела на Зивар, которая, поняв свою оплошность, густо покраснела.
– Я почему спросила, была ты на поминках или нет, – снова поменяла тему Зивар-ханум, – Турсун-ханум искала тебя, спрашивала у всех. Кстати, ты обратила внимание, как она испортилась? Похудела вся, кожа да кости. Не заболела ли?
– Тут есть от чего заболеть! В доме две девушки на выданье, старшей уже восемнадцать лет, а сватов все нет и нет! Бедная Турсун, аж извелась вся.
– При чем тут это?
– Да, она не меня ищет, а Садияра моего!
– Садияра?
– Ну да! Услышала небось, что он на днях должен уехать на учебу.
– Садияр разве уезжает? – удивленно спросила Зивар – ханум. Новость для нее была и впрямь неожиданной.
– Ну да, после окончания русской школы в Тифлисе сам губернатор предложил ему ехать учиться в Москву.
– Садияр знаком с губернатором?
– Он присутствовал на экзамене, когда мои сын отвечал.
– Ну и что?
– Ответ ему так понравился, что он предложил ему работу у себя в Тифлисе.
– Так Садияр будет работать у губернатора?
– Нет, Садияр мой отказался, сказал, что хочет учиться в Университете.
– А губернатор не рассердился?
– Наоборот, обещал помочь и сам написал письмо в самый главный их Университет.
– Что ты говоришь?! Сугра-ханум, что же ты ничего не кушаешь, угощайся!
– Спасибо, Зивар-ханум. – отвечала Сугра, с улыбкой глядя в засиявшее от радости лицо своей собеседницы.
– Ну и Турсун-ханум, наверное, услыхала, что Садияр получил приглашение на учебу и скоро уезжает, – как ни в чем ни бывало продолжала говорить Сугра, укрепляя свои позиции, – вот и торопится. Каждый раз при мне начинает хвалить своих дочек, мол и прилежные, и работящие, и послушные.
– Было бы что хвалить! – возмутилась вдруг Зивар– ханум. – И как ей не стыдно. У людей дочки и моложе, и краше, но они молчат. А она своих уродин и так, и сяк расхваливает.
– Ну что ты так, Зивар, дочки ее, говорят, хорошие, не надо так говорить.
– Ха, хорошие, да моя Хумар их обеих за пояс заткнет.
Сугра-ханум при этих словах, дипломатично промолчав, смакуя, громко причмокивая губами, большими глотками начала пить с блюдечка свой чай. Зивар-ханум поняла уловку своей собеседницы, но отступать было уже поздно. Мило улыбнувшись, она, как бы невзначай, спросила:
– Сугра-ханум, милая, не помнишь ли ты покойную Тоба – ханум?
– Как не помню, очень даже хорошо помню. Покойная была достойная женщина. Жаль, долго болела, почти не вставала.
– Я всегда говорила, сглазили ее.
– Сглазили?
– Конечно, а ты что не веришь в это?
– Нет, в то, что ее могли сглазить, я верю, но кому это надо было?
– Мало ли кому? Ее сын тоже, кажется, поехал учиться куда-то.
– В Париж.
– Да-да, вот там он и женился. Я не видела, но Гулу-бек, он был дружен с мужем покойной, мне по секрету рассказал, что сын Тоба-ханум мало того, что женился на француженке, да она еще и по возрасту старше его и имеет ребенка, дочь от первого брака.
– Вай, несчастная Тоба, теперь я понимаю, почему она слегла!
– Она еще хорошо отделалась, просто слегла и тихо умерла, другая бы на ее месте с ума бы сошла.
– Тут есть от чего сойти с ума! Рожаешь, растишь, воспитываешь, обучаешь, а под конец он бац, да и женится на какой-нибудь артистке, и все, хоть в колодец вниз головой.
– А все она, покойница, виновата. Сколько раз говорила, окрути сына, не оставляй так, сын, как птица вольная, не привяжешь – улетит. Вон сколько девушек вокруг. Обручи с одной, возьми в дом, а там пусть едет, куда глаза глядят. Поедет, посмотрит – вернется!
– А что Тоба?
– А ничего! Говорила, он у меня самостоятельный. Сам найдет, сам женится! Вот и женился он, самостоятельно. Помню, покойная все пряталась от нас первое время, боялась расспросов.
– А он, сын ее, больше в деревне после похорон матери не показывался?
– Нет. Да и куда ему ехать-то? К кому? Отец вскоре после его отъезда слег и умер. Одна мать была, и ту с горя свел в могилу. Дом их так и стоит с тех пор заколоченным. Не приведи господи никому.
– Аминь, – сказали они почти одновременно.
– Но ведь не каждая девушка будет ждать суженного три – четыре года? как бы невзначай начала высказывать свое предположение Сугра – ханум.
– Почему не будет? Будет! Не на улице ведь остается! Тут родительский дом, там дом родителей жениха. Тут ее ласкают, там балуют, везде почет и уважение. По праздникам и от жениха подарки из-за границы, а там, глядишь, и свадьба подоспела. Чем плохо?
Картина, нарисованная Зивар-ханум, была столь красноречивой, что Сугра-ханум невольно заулыбалась и, слегка прикрыв глаза, представила себе эту сказочную жизнь. Зивар не мешала, давая ей возможность полностью осознать услышанное.
Уже вечерело, когда Сугра-ханум покинула дом Гулу-бека, довольная состоявшейся беседой с Зивар – ханум. А через три дня Гулу-бек покорно, по велению своей жены опустил в стоящий перед Исрафил-агой стакан с крепко заваренным, дымящимся, ароматным, контрабандно привезенным из Стамбула индийским чаем, большой кусок колотого сахара в знак своего согласия на брак своей дочери Хумар с его сыном Садияром. А еще через месяц Садияр уехал в Москву, унося во внутреннем кармане своего суртюка вышитый платок, подаренный ему невестой, а в сердце – незабываемый образ и нежную улыбку Хумар.
Глава одиннадцатая.
За пять лет, что Садияр провел в Москве, домой он приезжал четыре раза. Трижды это было летом, а один раз ранней весной, когда после зимних холодов земля начинает оттаивать и покрывается яркой, мелкой зеленью. Мелкие, нежные, еще полностью не оформленные листочки покрывают ветки деревьев и за одну только ночь, как бы по мановению волшебной палочки невидимого чародея, сады облачаются в одежды из цветов, и все вокруг благоухает и словно радуется теплому солнышку. В эту весну Садияр привез своей невесте в подарок много диковинных вещей: патефон, играющий чудную мелодию, китайскую шкатулку со множеством секретов и с двумя небольшими, но тяжелыми, сделанными из слоновой кости и украшенными причудливыми узорами, шарами, лежащими в одном из его потайных отсеков и звенящих при перекатывании их в ладони, и много– много другого. Но был среди подарков один, о котором знали только Садияр и Хумар, никто из старших не видел его. Это было платье, какое носят барышни в больших городах, шляпка и туфельки на высоком каблучке. Садияр купил их, как только увидел в витрине магазина, что на Тверской, недалеко от Елисеевского магазина, хотя на вопрос продавщицы, какой размер ноги у вашей барышни, покраснел и хотел от смущения убежать. Откуда ему знать то, о чем мужчины в их роду просто и не слышали! Видя его состояние, продавщица улыбнулась и, показав несколько пар, предложила самому выбрать наиболее подходящие, сообщив, что, если возникнут какие-либо проблемы и туфли окажутся барышне большими или наоборот будут жать, он всегда сможет их поменять. Садияр кивнул, не поднимая глаз, и несмотря на то, что в Москве стояли морозы, а улицы были в снегу, он вспотел и задыхался от жары. Но то ли случайно, а может, сердце подсказало, но все, что выбрал Садияр, оказалось впору Хумар. А как блестели от восторга ее глаза, улыбка не сходила с лица, а щеки пылали от смущения, когда она рассматривала легкое, почти воздушное (бывает же такое?) платье, широкополую шляпку с перьями и замшевые туфельки. Она смеялась, звонко, счастливо, и смех ее звучал как колокольчик. Но как бы красиво все ни было, не смела Хумар это надевать. А что если отец или свекор увидят? Умрет ведь она от стыда!
Сколько слов пришлось сказать Садияру, сколько доводов привести, наконец, просто рассердиться, прежде чем Хумар согласилась их примерить. И вот наконец, в день, когда отец и мать Хумар были в гостях, а Садияр, как было условленно с вечера, как бы случайно зашел к невесте, возвращаясь с охоты, чтобы побаловать ее свежей дичью, Хумар вышла к нему одетая в привезенный ей наряд. Вначале Садияр опешил. Он не узнал в этом божественном, хрупком создании свою невесту. Сколько же в ней было грации, очарования, озорства! Щеки ее, пылавшие от смущения, как две розы четко выделялись на фоне черных как смоль распущенных волос. Видевший Хумар всегда в цветастом, шелковом платке с двумя толстыми, туго заплетенными косами за спиной, Садияр был поражен этой роскошью. С только женщине присущей интуицией она умело убрала свои волосы под белоснежную шляпку, кокетливо, чуть набок, надетую на голову. Шея ее, длинная, матово-белоснежная, с тонкой, почти прозрачной кожей, уходила так далеко вниз, что глаза уставали следовать за ней, и тонула она где – то там, в глубине низкого разреза на груди ее голубого платья. Это была другая женщина. Женщина, которую принимают во всех салонах, перед которой открыты сердца и кошельки мужчин, независимо от их возраста. Она, эта женщина, твердо знает, почему ее так ненавидят другие женщины, видящие, как загораются в ее присутствии глаза их супругов, как распрямляются их спины (в другое время вечно больные, ноющие), как выпирает их грудь от бешено колотящегося сердца, как на губах застывает улыбка, а голос наполняется множеством игривых ноток.
Она подошла к Садияру. Ноги ее в кружевных чулках, нежно обнимавших ее тонкие лодыжки, мягко сидели в маленьких лодочках туфель на высоких каблучках. Садияр, не отрываясь, смотрел на них, удивляясь, как, откуда, и когда научилась она, его невеста, так уверенно стоять на каблуках, так кокетливо выставлять вперед правый носок и, чуть приподняв подол платья, дразнить его видом своих стройных ног. Хумар знала, что красива, и потому, остановившись недалеко от Садияра, она с гордой улыбкой посмотрела ему в глаза. Ну как, нравлюсь я тебе, говорили ее сияющие глаза, улыбающиеся губы, за которыми жемчугами сверкали ровно в ряд поставленные зубы. Садияр молчал, он не знал, была ли Хумар лучше, красивее тех барышень, которых он встречал в Москве и Петербурге, но он твердо решил, что ни один мужчина не должен увидеть Хумар в этом наряде. Сердце его этого не выдержит.
...
Когда у Садияра родился сын Зия, отец его, старый Исрафил-ага, очень болел. Он слег еще до свадьбы, прошлой зимой. Вначале казалось, что он просто сильно простыл, но слабость, разливающаяся по всему телу, и кашель, усиливающийся с каждым днем, не давали ему возможности подняться. И даже летом, когда все ждали, да и сам Исрафил-ага на это надеялся, что с теплом наступит перелом и болезнь отступит, этого не случилось.