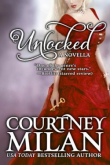Текст книги "Ключ дома твоего"
Автор книги: Рагим Гусейнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Когда за столиками снова разгорелся очередной спор, Фархад ушел. В последнее время, по вечерам, он часто уходил за деревню, и там, сидя на большом валуне, под криво растущем деревом, долго смотрел вдаль и курил. И сейчас он пришел сюда. Никто его не тревожил и поэтому голос Габриэллы, застал его врасплох:
– Эрик, о чем ты думаешь?
– Габриэлла? Я не слышал, как ты подошла.
– Почему ты ушел? Тебе не понравился мой танец?
– Это было дивно. Я такого никогда не видел.
– Тебе правда, понравилось?
– Да, очень. А ты, давно здесь стоишь?
– Нет, но давно слежу за тобой. Знаю, что часто ты приходишь сюда и куришь, о чем-то постоянно думая.
– Зачем?
– Что зачем ?
– Зачем следишь за мной?
– Мне больно смотреть на тебя. Зачем ты себя так казнишь?
Не знал Фархад, что сказать ей, а Габриэлла продолжала.
– Ты думаешь, ты один такой, посмотри, сколько вокруг таких как ты. Это война, будь она проклята, и не надо роптать на судьбу. Еще не известно, что тебя ждет впереди, может перед тем, что тебя ждет в будущем, день этот покажется счастьем. Поэтому, пока не накликал беды, принимай все как дар небес и благодари день сегодняшний.
– О чем ты говоришь, Габриэлла? Ну кому я сейчас нужен такой? Зачем мне жить после этого?
– У тебя бог отнял руку, но сохранил разум, а это важнее. И ты мужчина, не забывай об этом. Ты в ответе перед своей женщиной, и не подобает тебе сомневаться. Мы, женщины, сразу чувствуем нерешительных, и поверь мне, им это не прибавляет уважения.
– Тяжело мне, Габриэлла, – наконец, после долгого молчания, промолвил Фархад, не глядя на Габриэллу.
– Всем тяжело, но ты командир, и не подобает тебе говорить об этом.
– Какой я командир? Только двое нас и осталось, а где остальные? Плохой я командир, если не уберег их.
– Тебе не в чем упрекать себя Эрик, это судьба. И не тебе, судить о ней. Мы не правим судьбой, мы ее фигуры, и она нас переставляет.
– Ты говоришь, как колдунья.
– А я и есть колдунья, у меня мать была цыганкой. Разве не видел, как я вас всех околдовала в танце?
– Точно, околдовала, – улыбнулся Фархад припоминая, как зачарованно, разинув рты, взирали на нее мужчины. – И гадать умеешь?
– Умею. Только тебе гадать не буду, – ответила она серьезно.
– Почему?
– Не надо тебе это. Я и так знаю о тебе все.
– Что ты знаешь?
– Что любишь ты ее. И она тебя любит. Боишься теперь к ней вернуться таким, без руки. Но напрасно. Не заметит она этого. Поверь мне.
– Откуда ты знаешь?
– Я знаю. Ты сильный, и одной рукой ты обнимешь так, как не обнимет ее никто другой. Для женщины главное полюбить мужчину, и тогда каждое его прикосновение для нее радость, и не думает она ни о чем другом.
И пока Фархад думал над этими словами, Габриэлла вдруг прильнула к нему и, обняв, крепко поцеловала его в губы. Это было неожиданно, и Фархад от неожиданности опешил. Долгим был этот поцелуй, горячим, сладким, каким могут целовать женщины, познавшие любовь. Зря мужчина думает, что он в любви что-то решает, – миром правит женщина. И понимает он ее настолько, насколько она позволяет ему это. Даже отдаваясь ему, она остается неразгаданной тайной. Напрягшееся вначале тело Фархада постепенно стала расслабляться, и внезапно горячая волна желания охватила его. Крепко прижал он Габриэллу к себе и покрывал поцелуями ее прекрасное лицо, глаза, шею. Утонул он в ее волосах, и она, счастливая, смеялась, громко, открыто, обнажая жемчужины зубов, сверкавших под лунным светом, но предательские слезы текли из ее глаз по щекам к подбородку, и Фархад чувствовал их солоноватый привкус у себя на губах. И когда в сердцах у них, казалось, снова начала играть музыка, что недавно уже звучала в таверне, Габриэлла внезапно отстранилась от опьяневшего Фархада.
– Все, хватит, перестань, – оттолкнула она его, и видя, что он снова потянулся к ней, добавила, – я свое получила сполна. Теперь ты свободен и... возвращайся.
– Куда?
– Туда, к ней. К той, которая ждет тебя.
– А ты?
– А я останусь. Здесь.
Ошалело смотрел Фархад на Габриэллу и молчал. Ни одна мысль не промелькнула у него в голове, ни о чем он не думал, стоял и смотрел, как она, отвернувшись приводила себя в порядок и ничего не понимал. А Габриэлла повернулась и встретившись с его взглядом, виновата улыбнулась.
– Почему ты это сделала? -одними губами спросил Фархад.
– Я люблю тебя. – И видя, что Фархад покачал головой, отрицая это, повторила, – правда люблю. А теперь я знаю, и ты мог бы полюбить меня.
Фархад молчал, не зная, как назвать то, что бушевало сейчас в его душе. Любовь это или страсть одинокого мужчины? И кто отличит их? А разве то, что на время, на час или мгновение охватывает мужчину и женщину по отношению друг к другу, не достойно человека? Разве не прекрасны они оба, плененные огнем страсти, когда забывают они о войне, страданиях и разлуках, о своих увечьях и потерях, когда снова в их сердцах поет весна? И судить их никто не вправе, ибо правда сама на их стороне.
– Ты никогда меня не забудешь. Я знаю.
Фархад молчал, еще не осознавая, что случилось, но уже знал знал, что и на этот раз Габриэлла была права, это то, что навсегда теперь останется с ним. Отныне это его история. Бывают моменты, события, которые человек может прожить и в один день, и в несколько часов, но жить в них он потом будет вечно, время от времени возвращаясь к ним, думая о них, споря и оценивая свои в тот день поступки и слова.
– Так будет лучше, поверь мне.
И в следующий миг Габриэлла, повернувшись, так же быстро исчезла, как и появилась. Больше ни разу они не говорили на эту тему, а через два месяца, наладив через знакомых крестьян связь с республиканскими войсками, Фархада решили переправить в город.
Прощаться с ним пришли почти все жители села, а старый Хосе, в чей дом они приходили, принимал гостей так, словно это его сын уходил снова на фронт. Последней к Фархаду подошла Габриэлла и слегка коснулась его щеки губами, но обжег его этот поцелуй, и еще долго чувствовал он ее огонь.
... А еще через месяц он отплывал вместе с несколькими сотнями испанских детей, многие из которых лишились в этой мясорубке родителей на пароходе в Одессу. И когда Испания – его боль и страдания, его любовь и радость, осталась за горизонтом, Фархад заплакал.
Глава пятнадцатая
Когда поезд остановился на станции Хачмаз и Фархад понял, что до Баку осталось всего несколько часов, слабость охватила все его тело. Страх сковал его мышцы и хотелось ему выскочить тут, на незнакомом перроне, тут, где его никто не знает и не ждет, только бы отдалить тот миг, когда ему предстоит увидеть глаза матери, глаза Иды. Нет, он не сомневался, что они будут счастливы увидеть его живым, и его увечье они просто не будут замечать, всячески подбадривая его. Но этого он и боялся больше всего, что они будут относиться к нему как к больному, улыбаться в глаза и тихо вздыхать за спиною. Поэтому и телеграммы он им не послал о своем возвращении, чтобы они, чего доброго, не вздумали вдруг его встречать. А так у него всегда будет свободное время, чтобы все снова передумать, все взвесить и рассудить. Но он еще раз ошибся. На вокзале его ждали. Он их сразу узнал, еще издали. Шамсяддин Шахсуваров, начальник его отдела и два молодых офицера из их управления стояли в стороне от толпы встречавших прибывший состав, как раз там, где в соответствии с правилами и должен был остановиться восьмой вагон, в котором ехал Фархад. Рядом с ними он увидел свою мать и сердце его больно кольнуло, и если бы не окно, он бы сейчас, не дожидаясь остановки, выпрыгнул. В этот момент он забыл, что одной рукой сохранять равновесие было бы тяжело и он наверное упал бы, но какое это имеет значение, когда ты видишь мать, о которой не думаешь живя рядом и о которой не забываешь вдали. Наконец, поезд остановился, наполнив вокзал клубами пара, и пока он не рассеялся, Фархад был уже на перроне. Вещи ему мешали, и он побросал их там же, у вагона, и побежал к матери. Потом сквозь слезы он мутно различал лица друзей. Они что-то говорили ему, обнимали, стараясь осторожно касаться пустого рукава, заправленного за ремень и... плакали. Иногда он оглядывался, словно ища кого-то глазами, но вокруг он видел лишь незнакомые лица, с любопытством разглядывающие молодого, но почти седого, однорукого капитана.
По дороге домой, Фархад несколько раз пытался, спросить об Иде, но что-то удерживало его. Но чтобы как-то начать разговор, он спросил Шямсяддина:
– Как дома, все в порядке?
– Да, спасибо. Лейли вышла замуж.
– За Гудрята?
– Да, неделю назад.
– Ну, отлично! Поздравляю! Счастья им! Свадьба здесь была?
– Нет, в Вейсяли.
– Ну, как прошло?
– Не знаю. Меня не было.
– Что так?
– Дела, сам понимаешь.
– Молодожены уже вернулись?
– Нет, еще. Завтра вернется Айша. А дети и молодые пока в деревне.
Машина повернула на набережную. Проезжая мимо здания Управления, она остановилась Шямсяддин и молодые офицеры вышли, оставив в машине Фархада и его мать.
– Вы езжайте домой, Коля сегодня в твоем распоряжении, – кивнул он в сторону шофера, – куда надо отвезет.
– Куда вы? Прошу, поехали все вместе, – горячо попросил Фархад.
– Мы зайдем позже, вечером, – как-то робко ответил Шямсяддин. "Что-то не так, – подумал Фархад,– почему он сказал зайдем, а не отпразднуем?", и тоже вышел из машины.
– Мама, ты поезжай домой одна, я приду скоро.
– Но, сынок, отец болен, ждет тебя.
– Успокой его, я приду с ребятами.
...
В Управлении его узнавали все, по одному подходили, жали руку, обнимали, говорили нужные в этом случае слова, и у многих в глазах были слезы. Мужские слезы бывают не от боли и страха, а часто от вида незащищенной красоты, хрупкости и слабости. Глаза их, сухие в минуты опасности, наполняются влагой при виде младенца, уснувшего на груди матери и тихо посапывая сосущего палец вместо соски.
Они все вместе шли к парадной лестнице, и проходя мимо доски объявления Фархад внезапно остановился. Справа от нее в углу стояла тумбочка, задрапированная черным бархатом. На ней, в траурном обрамлении стояла чья-то увеличенная фотография, а рядом в вазе, стоявшей на полу, красные гвоздики. Фархад вначале не узнал его и только подойдя с удивлением прочел : " ... в неравной борьбе с врагами Советской власти, пал славный защитник его идеалов, наш боевой друг Гурген Левонович Саркисян...". На фотографии, которую скорее всего взяли из личного дела, Гурген выглядел значительно моложе, но страх, который всегда был в его глазах, читался и на этой фотографии.
– Когда его, – спросил Фархад, кивая на фотографию. В сердце у него ничего не шелохнулось, с Гургеном он никогда близок не был.
– Дней десять назад. Нашли у дома.
– Застрелили?
– Нет, два ножевых ранения и оба в сердце. Работали профессионалы.
– А мотив?
– Глухо, никаких концов.
Все молча двинулись дальше, и когда поднялись на второй этаж, Фархад, повернувшись к Шямсяддину вдруг сказал:
– Я его видел в последний раз, как раз перед отъездом. Мы тогда были с Идой ...– но не договорил, увидев как Шямсяддин остановился. Он тоже остановился.
– Что встали, пошли, – позвали их сверху.
– Вы идите, мы сейчас, – сказал им Шямсяддин и когда они остались одни тихо сказал:
– Ида погибла, – и потом, глядя прямо в глаза окаменевшего Фархада добавил: – год назад.
...
По-разному люди воспринимают печальное известие. У Фархада на лице не дрогнул ни один мускул. И сердце не затрепетало. Просто он поежился, словно северный ветер ворвался в него и пронесся по артериям, остужая кровь. Ни слова больше не спросил он, постоял, потом спустился и вышел, забыв закрыть за собой входную дверь. Шямсяддин не пошел за ним, не мог, не знал он, что говорить, да и нужны ли в этом случае какие-то слова, как успокоить, и возможно ли тут какое успокоение.
В тот же день он пришел в дом Исаака Самуиловича и, звоня в дверь, все еще надеялся на чудо. Ждал, что Ида сама откроет дверь, и все, как кошмарный сон улетучится, но дверь открыла Инесса Львовна, и застыла на пороге. Она не кричала, из открытого рта ее вырывались хриплые гортанные звуки, но это было страшнее, чем, если бы она зарыдала. И понял Фархад, что чуда не случится. Потом они долго сидели и говорили, точнее, говорила Инесса Львовна, а Фархад только слушал и курил...
...Теперь он стал часто приходить в этот дом. Для Инессы Львовны он теперь стал единственным успокоением, человеком с которым она могла без устали говорить о дочери. Лишь однажды, он удивился, когда услышал, что Ида узнавала о нем через какого-то человека из их управления.
– Ида узнавала обо мне?
– Да, я не помню подробности, Ида особо не рассказывала. Она сказала, только, что с этим человеком ее познакомил ты.
– Она виделась с этим человеком?
– Кажется, да. Точно, один раз точно помню, виделась. Я даже спросила ее об этом.
– Кто это был? – медленно спросил Фархад.
– Если не ошибаюсь, его звали Гурген. Ты его знаешь? – и видя как побледнел Фархад, добавила: – Он с вами работает?
– Его убили месяца два назад.
– О, Боже, – в ужасе отшатнулась Инесса Львовна, а Иссак Самуилович, неизменно участвующий на этих встречах, но большей частью молчавший и тихо, украдкой вытиравший большим батистовым платком с глаз набежавшие слезы, при этих словах встал, и тяжело опираясь на костыль, медленно вышел из гостиной в свой кабинет.
Глава шеснадцатая
Весь год, что прошел после смерти Иды, Исаак Самуилович в эту комнату не входил. Нет, комната в которой жила Ида не была заперта, просто ни он, ни супруга его Инесса Львовна не могли туда заходить. И тема дочери стала запретной. Они жили, стараясь не травмировать друг друга, избегая произносить ее имя, а если случайно это происходило, быстро меняли тему разговора и старались скорее уйти, она на кухню или в спальню, а Иссак Самуилович к себе в кабинет, и тут, запершись, давали волю слезам, которые столь долго хранили в себе. В эти дни они больше старались не встречаться, и вот так, в одиночестве, коротали вечера. Инесса Львовна теперь часто, по нескольку раз в неделю, приходила на кладбище, где рядом с могилами ее родителей, теперь покоилась Идочка, и каждый раз не могла удержаться от слез, хотя сильно крепилась вначале. За это время она резко подурнела, она больше не была той яркой, элегантной дамой с очаровательными формами, чуть полноватой, но именно такой, которая запоминалась мужчинам с первого раза.
За все годы их совместной жизни в глазах Исаака Самуиловича она не менялась, глядя на нее, он всегда видел лишь ту черноглазую девчонку, которая потупив взор входила в комнату после своей матери, неся на подносе чашки со свежезаваренным чаем. Он, Иссак, сидел тогда между своим отцом и свахой, по настоянию которых он и пришел тогда в дом почтенного Льва Абрамовича. Дочь ее Инессу он до того не видел, но родственники посчитали, что они подходят друг другу и вот теперь он сидел, обливаясь потом от напряжения и смущения, под пристальным взглядом своего будущего, если все сложиться удачно, тестя. Сваха что-то говорила, не давая молчанию, которое в таких случаях бывает тягостным, затянуться, когда Инесса, положив перед ним чашку чая, вдруг подняла глаза и заглянула прямо ему в душу. И еще она не сказала ни слова, не успела отвернуться, чтобы уйти, как Исаак стал лихорадочно кидать в стакан куски сахара, одновременно запихивая с рот шоколадную конфету, в знак своего полного согласия, чем значительно осложнил дело своим родственникам, так как родители Инессы, видя полную капитуляцию жениха, запросили от них значительно больше того, что собирались просить вначале. Но со всем согласился не споря старый Самуил Натанович, мудро решив не портить отношения с родителями своей будущей невестки, ибо если она одним взглядом сбила Исаака с ног, то что будет, если она ему ночью на ухо что-то проворкует? За все это время Исаак в Инессе ни разу не разочаровался, с каждым годом все сильнее и сильнее привязываясь к ней. Две дочки, что подарила ему Инесса были для него подарком небес и он каждый раз благодарил Бога за ниспосланную ему радость. Старшая, Сара, очень скоро вышла замуж и вскоре сделала еще совсем не старого Исаака дедушкой, чему он очень был рад и всегда, при каждом удобном случае это подчеркивал, получая удовольствие от удивленных взглядов окружающих: "Как, вы дедушка? Никогда бы не подумала". А сколько надежд было у него связано с Идой, его любимицей, надеждой и гордостью. Здесь, в ее комнате, ничего не изменилось. Все оставалось на своих местах, словно хозяйка ушла ненадолго и вот-вот вернется. Пыль здесь постоянно, дважды в неделю, вытирала Катя, приходящая прислуга, вытирала, и тихонько прикрыв, на цыпочках уходила, словно боялась нарушить царивший здесь покой. Исаак Самуилович постоял у двери, не решаясь пройти, затем, пересилив себя, переступил порог. Впервые за столько лет он зашел в комнату дочери не постучав, и сам же это сразу же отметил, и еще больше огорчился. Дочки еще были малыми детьми, когда он выработал в себе эту привычку, и никогда, ни разу в жизни не нарушил он заведенного правила. Перед трюмо стояло несколько флаконов духов и разные коробочки, секреты ее женской красоты, он видел их и раньше, но ни разу так и не спросил, зачем они ей. Сколько себя помнил, он старался удовлетворять все ее прихоти, покупая все, что она хотела, не отказывая ей ни в чем. Не знал он, почему перекладывал теперь эти вещицы с места на место, разглядывал их, но ни о чем они ему не говорили, они не были связаны в его памяти с Идой. Она и эти веши жили в его памяти отдельно, и он не хотел их соединять вместе. И вдруг спиной он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, от которого он вздрогнул и обернулся. Инесса Львовна стояла у дверей и зажав ладонью рот пыталась удержать слезы.
– Не надо, Инночка, перестань, прошу тебя.
– Почему? Почему так случилось, Исаак?
Что мог он ответить ей? Исаак опустил голову и отвернулся. Когда он снова повернулся, Инессы в дверях не было. Он не пошел за ней, "наверное, снова заперлась в спальне", подумал он.
Теперь он часто приходил в эту комнату. Садился в кресло, в котором Ида всегда любила сидеть и читать. Кресло было широким и сидя в нем, Ида обкладывала себя со всех сторон разными книгами, учебниками, словарями, справочниками и художественной литературой, которую Ида особенно обожала. Особенно в старших классах она увлеклась французскими романистами и читала их запоем в ущерб школьным предметам. Исаак знал эту ее слабость, и часто постучав, немного ждал, давая ей возможность спрятать или положить на них толстый учебник, так что, когда он заходил, она сидела с невинным видом с учебником физики или геометрии на коленях, только заплаканные глаза ее говорили, что мысли ее решают проблемы совсем других треугольников и витают где-то рядом с Собором Парижской Богоматери. Никогда ничего не говорил ей Исаак Самуилович, делая вид, что верит ее каждому слову, и уходил, тихо посмеиваясь. Теперь он снова и снова переживал те дни, и теплее становилось у него на душе. В одну из таких ночей он снова сидел в ее любимом кресле и не знал, что отныне нарушится покой, царивший в его сердце, и возненавидит он жизнь и день, когда родился на свет.
...
Как всегда он после ужина захотел посидеть "у Идочки", как он называл часы которые проводил в ее комнате. Поправляя подушку на сиденье, он заметил, что она немного приподнята с правого угла, на которое он никогда не обращал внимания. Он поднял ее, подбил с двух сторон, хотел положить обратно, когда заметил небольшой блокнот. Он узнал его. Это он сам привез его Иде из Москвы, куда ездил лет пять назад. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы понять, что это дневник ее дочери. Он тут же захлопнул его. Сердце учащенно забилось, казалось Ида снова заговорила с ним, и он тяжело опустился в кресло. Что делать, думал он, прочитать? Но ведь это некрасиво, может, Ида была бы против, нет, не могу. И он в этот день не посмел открыть его снова, и только после когда сердцебиение стабилизировалось, он осторожно спрятал блокнот в стол и запер на ключ, чтобы никто ненароком не нашел и не прочел. Ключ от стола он теперь постоянно носил в кармане своего выходного костюма, с связке с другими ключами. Прошло несколько дней, прежде чем он убедил себя, что имеет право прочитать дневник своей дочери.
Глава семнадцатая
Ида вела дневник не регулярно. Иногда, судя по датам, она не подходила к нему по месяцам, а порой в нем было по две записи на день. Теперь у Исаака Самуиловича стало две жизни, одну он старался прожить как можно быстрее, выполняя свои профессиональные обязанности, только бы скорее отделаться от них и вернуться домой. Тут он запирался в комнате дочери и вновь, уже вместе с ней, проживал день из прошлого. Многие эти дни он вспоминал отчетливо, но теперь через призму ее мыслей, глядя на все произошедшее уже глазами Иды, он по разному оценивал все произошедшие события, действия и слова людей, которые в свое время он слышал, но не придавал им значения. По-другому он смотрел теперь и на свои поступки, гордился ими если их отмечала Ида, и стыдился, когда смотрел на них глазами дочери, и в эти дни он весь остальной вечер ходил грустный, и не могла понять Инесса Львовна причину его печали. Читал он медленно, смакуя каждую страницу, каждое слово, как бы заново разговаривая со своей дочерью и счастье его было безмерно. Заново, совсем по другому он узнавал и Фархада Велиева, снова слышал его слова, говорил с ним, и полюбил его, как полюбила его Ида. Вместе с ней он переживал его отъезд, и вместе отныне они ожидали от него вестей. После отъезда Фархада Ида к дневнику долго не подходила. Потом, через полгода, появилась новая запись, где она писала, как ходила вокруг здания на набережной, в надежде, что-то услышать, узнать о Фархаде, и ... тут что-то насторожило Исаака Самуиловича в записях.
" ... Сегодня вечером Гурген Левонович обещал познакомить меня с человеком, который недавно вернулся из Испании. Он видел Фархада! Боже, какое счастье! Наконец я увижу человека, который был рядом с ним, говорил с ним. Он будет смотреть на меня, теми же глазами, которыми он смотрел на Него! Я, наверно, не смогу дождаться этого часа! Маме я все рассказала, она хотела пойти со мной, но я воспротивилась. Гурген Левонович предупредил, что человек этот секретный агент и его никто не должен видеть..."
Дальше Исаак Самуилович читать не мог, руки у него задрожали, слезы навернулись на глаза и он быстро зажег сигарету и глубоко затянулся. "Это что-то не то, – стучало у него в мозгу, – какой еще секретный агент? Зачем это?". Он догадывался, что это могло быть, но признаться в этом не хотел. "Нет, это шутка, он просто шутит над ней", – твердил он себе. Пройдя по комнатам и убедившись, что жена его уже легла, он снова вернулся в комнату Иды, запер дверь на ключ и со страхом открыл дневник на нужной странице и помутнел перед ним свет. " ... Почему нельзя вернуть вчерашний день? Он обманул меня! Не было никакого секретного агента, все это ложь. Неужели все люди такие подлые? Как он мог? Ведь он знает Фархада, как он будет смотреть ему в глаза? А Я? Как я смогу видеть его после всего что случилось? Обманывать его? Нет, я не смогу... Вчера мир принадлежал мне, сегодня я хочу только одного – смерти. Но что мне оставалось делать, он грозил посадить отца. А папа такой ранимый, больной. Тюрьмы он не выдержит. Умрет там, я знаю. А за ним умрет с горя и мама. Нет, я так их люблю! Фархада я уже потеряла. Их хотя бы спасу. Пусть я буду жертвой, но пусть с ними ничего не случиться..." А дальше еще страшней "...О Боже, как все было противно, ужасно, грязно! Меня тошнило. Теперь я знаю, как пахнет в аду. Ад пахнет Гургеном..." А на последней странице, датированной днем ее смерти, "... Он требует все новых и новых встреч, а я больше не могу. Это оказалось выше моих сил. Мне все опротивело. Я противна самой себе, когда гляжу в зеркало. О, если бы можно было поменять кожу, к которой прикасался Гурген... Родиться заново, вернуть все вспять. Теперь я бежала бы от него прочь. Но все поздно. Сегодня он обещал принести все документы на отца, но, наверное, снова обманет. Обманет, как обманывал всегда. Ни разу не сказал он правды. Наверно, и тогда лгал, нет у него ничего против отца!... А если есть? Ну, что же, пойду еще раз. Это мой ад..."
Прочтя эти строки Исаак Самуилович уронил из рук дневник и закрыл глаза. Тело его сотрясалось в беззвучных рыданиях и колотило его в ознобе. " Доченька, ангел мой, цветочек мой аленький, зачем ты это сделала? Чтобы спасти меня? От кого? От этого ублюдка? О, как подло, подло. Как мне больно, лучше бы я это не знал. Ангелочек мой, зачем ты это сделала?"– повторял он снова и снова.
В комнате Иды был большой старинный камин, весь покрытый немецкими керамическими плитками и широкой полкой, на котором стояли две большие фарфоровые вазы, а посередине часы в окружении хоровода нимф. Камином давно не пользовались, и он стоял теперь, скорее как украшение.
Утром, когда Инесса Львовна зашла в комнату, Исаак Самуилович все еще сидел в кресле и неотрывно смотрел на огонь, который ярко горел в камине. Изредка он приподнимался, что-то перемешивал в нем и снова садился на свое место. Вид его был страшен. За эту ночь он, казалось, постарел лет на двадцать, и теперь он не был ухоженный профессор, любимец всех работников кафедры, которого почитали и уважали его студенты, поклонялись больные. Теперь в кресле сидел старый, уставший еврей.
– Что с тобой? Ты не заболел?
Но молчал Исаак Самуилович, только слезы текли из его глаз.
– Никуда ты сегодня не пойдешь, – решительно сказала Инесса Львовна, немедленно ложись в постель. Почему ты разжег камин? На улице весна, ты что? Простыл, что ли, не дай бог?
– Простыл, – тихо согласился Исаак и медленно встав вышел из комнаты. Через два дня, домработница выгребет из камина остатки золы, среди которых будет небольшой кусочек кожи. Это все, что останется от дневника Иды. До самой смерти сохранит Исаак Самуилович тайну своей дочери, не сказав никому о том, что прочитал он в ее дневнике, даже жене своей. Пусть светлой будет для них память о ней, решил он.
Глава восемнадцатая
Исаак Самуилович стоял у окна. Внизу, в маленьком сквере, мальчик лет трех убегал от женщины, наверное, бабушки, которая хотела запихнуть что-то ему в рот. Он бежал проворней, и она в отчаянии остановилась и села на скамейку, тяжело дыша, и тогда мальчонок подошел к ней и покорно позволил себя кормить. Даже отсюда, профессор видел как счастливо улыбается женщина, сумевшая таки накормить свое любимое чадо тем, без чего в ее понимании он никогда не вырастит таким, каким она мечтала его увидеть. В другое время эта картинка развеселила бы его, но теперь он просто смотрел на них, ни о чем не думая, и внутри у него было пустота. На кафедре никого не было. Уже час как он отпустил всех. Снова Исаак Самуилович посмотрел на часы, было без пяти семь. Ему оставалось ждать еще около часа, и хорошо, что рядом никого не было. Можно было все снова хорошенько обдумать. Но думать тоже не хотелось, все уже было решено и ему не терпелось со всем этим закончить, раз и навсегда. Вахтеру он тоже ничего не сказал, не предупредил, что кого-то ждет. Человека, которого он ждал, он знал это по опыту, вахтер остановить никак не мог бы.
– Добрый вечер, доктор, – вдруг раздалось у него за спиной и он, вздрогнув, повернулся, – извини, что пришел раньше, так получилось.
– Добрый вечер, – тихо произнес Исаак Самуилович, – спасибо, что пришел.
– Мне сказали, ты ищешь меня?
– Да, Джаббар, мне очень нужна твоя помощь.
– Слушаю тебя, – сказал Железный Джаббар, и подойдя прихрамывая, сел в кресло напротив письменного стола.
Исаак Самуилович тяжело опустился в свое кресло, напротив него, и некоторое время молча смотрел на вошедшего.
– А ты почти не изменился.
– Тебе спасибо.
– Ноги не мучают?
– Весной и осенью побаливают немного, но твои мази просто чудо, как рукой все снимает.
Сам ты как? – спросил в ответ Железный Джаббар, – не нравишься мне, что-нибудь стряслось?
– Так заметно?
– На тебе лица нет.
Еще немного помолчал Исаак Самуилович, Железный Джаббар не мешал ему, терпеливо ожидая. Открыв ключом ящик стола, Исаак Самуилович достал оттуда небольшую шкатулку и положил ее перед Железным Джаббаром.
– Что это?
– Это тебе.
Железный Джаббар открыл шкатулку, она была полна драгоценных украшений. Это не был набор случайных безделушек, купленных по дешевке, на толкучке, у разных старушек, продававших в голодные годы свое самое дорогое. Здесь каждая вещица стоила внимания, в каждой чувствовался неповторимый талант ювелира. Они словно говорили всем, что обладатели их были люди со вкусом, ценящие красоту и знавшие в ней толк. Это был не ширпотреб, продающийся в ювелирторге, их собирали по крупице, поштучно, или передавали из поколения в поколение. Одно кольцо с крупным бриллиантом, величиной в ноготь, необычной, редкой окраски, переливающейся даже здесь, в полумраке кафедры, всеми цветами радуги, привлек особое внимание Железного Джаббара. Он узнал его. Он сам подарил его Исааку Самуиловичу для Иды, в день ее совершеннолетия несколько лет назад.
– Не понял, профессор?
– Я могу вас попросить кое о чем?
– О чем?
– Мне нужен человек, для одного дела.
– Что за человек?
– Который поможет мне избавится от одной мрази.
– Ты хочешь, чтобы кого-то убили?
– Это будет не убийство, дезинфекция.
– Что?
– Когда где-то заводятся клопы, место это дезинфицируют, чтобы зараза дальше не распространилась.
– Кто он? – спросил Железный Джаббар, подумав некоторое время, пристально разглядывая Исаака Самуиловича.
Профессор открыл блокнот, что-то написал на листке, вырвал его и протянул Железному Джаббару. Прочитав листок, тот положил его на стол и задумчиво посмотрел на своего врача. Молчание затянулось.
– Если мало, то я еще достану, – наконец нарушил молчание Исаак Самуилович и кивнул в сторону шкатулки.
– Да любой вещицы здесь достаточно для этого дела, – ответил Железный Джаббар. – Просто я хочу понять, что сделал он, что ты предлагаешь и кольцо покойной дочери и колье своей жены? – Железный Джаббар приподнял очень дорогое, старинное украшение. – Я видел это на вашей супруге, когда в первый раз пришел к вам.
– Он убил меня, – просто ответил Исаак Самуилович.
И тогда, после долгого молчания, железный Джаббар медленно закрыл крышку шкатулки, пока не раздался характерный щелчок замка, поднял ее, как бы взвешивая на руке, и положил перед Исааком Самуиловичем. Потом, взяв карандаш, он переписал все, что было на листке, а тот, который был написан рукой Исаака Самуиловича разорвав на мелкие кусочки, положил в пепельницу. Окончив это, Железный Джабар встал и хромая заковылял к выходу.