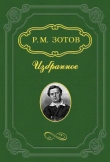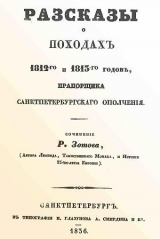
Текст книги "Рассказы о походах 1812-го и 1813-го годов, прапорщика санктпетербургского ополчения"
Автор книги: Рафаил Зотов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Глава II
Отправление в Полоцк. – Обозрение поля битвы. – Приезд.
– Перестрелка. – Наша квартира. – Отданная кровать. – Первая перевязка. – Раны выбриты. – Перевод раненых к Иезуитам. – Прекрасный прием. – Знакомство. – Русский Иезуит. – Вечера у Плац-Маюра. – Известие об освобождении Москвы и о ретираде Наполеона. – Наши чувства при известии. – Порывы в Армию. – Раны закрылись. – Баня. – Раны раскрываются. – Отправление в Армию. – Поля: Чашник и Смольян. – Прибытие на кануне Березинского сражения. – Переправа Наполеона. – Наши суждения. – Бездейственность паша. – Небольшое участие. Вид издали на знаменитую переправу во время битвы. – Переправа кончилась. – Следующий день. – Обоз на целую версту. – Вид у переправы. – Разбор обоза. – Мы переходим за Березину. – Жестокие морозы. – Решительное расстройство Французской Армии. – Спасение Швейцарского капитана. – Отъезд Наполеона. – Взятие Вильны. – Отпуск в Вильну. – Наставление Виленского коменданта. – Квартира в Петербургском форштате. – Хозяйские дочери. – Робость и неопытность. – Вечерние прогулки. – Выстрелы. – Отправление с командою. Походная логика. – Происшествия на пути. – Двухнедельная дневка в Шлипово. – Прусак Форштмкистер. – Хозяйская дочь. – Назначение свидания. – Сон. – Пробуждение. – Выступление – Переход в Пруссию. – Прием жителей. – Происшествие близ Велау. – Решение Бургомистра. – Поход к Висле. – Обозрение Прейсиш-Эйлау. – Мариенбург. – Прикомандирование к ополчению. – Поход под Данциг.
С 7-го на 8-го Октября не спали мы целую почти ночь. Радостное известие о взятии Полоцка и великолепный вид отдаленного пожара, произведенного бессильною злостью отступающего неприятеля, – все это волновало сердца наши. Притом же и чувство зависти сильно беспокоило нас. Город взят, неприятель бежит, – и мы не участвовали в этом подвиге, мы без пользы смочили Полоцкие поля нашею кровью. Преобидно! – Под утро зарево пожара погасло на небе – и мы заснули. – На другое утро получено приказание перевезти всех раненых в город. Многие не согласились на этот переход по болезненности ран, – и остались в лачужке Юревичей. Я же с большею частью товарищей – страдальцев горел нетерпением явиться в новопокоренный, обетованный Полоцк. Вчетвером уселись мы в тележку – и скромненькая, обозная лошадка с довольно веселым духом потащила нас по большой дороге. Толстый булыжник, которым изредка было вымощено это Белорусское шоссе, производил над нами очень неприятное действие. Мы поминутно вскрикивали, охали – и все-таки продолжали с жаром рассуждать о военных и политических происшествиях. Вскоре открылось нам наивеликолепнейшее зрелище. – Все поле сражения 6-го Октября – лежало перед нами, еще свежее, неубранное, заваленное грудами тел, подбитыми лафетами, ящиками, пустыми батареями и умирающими лошадьми. Осенняя трава полей имела местами почерневший от крови цвет. Везде царствовало мрачное безмолвие, уныние и разрушение. – Там где за два дня перед тем гремели 400 орудий, где воздух раздираем был беспрерывными ура! где земля дрожала под топотом тысячей коней, – там грустная тишина набросила на все пространство, на все остатки грозной битвы – печальный покров смерти и ничтожества, – там медленный стук колес телеги и говор четырех изувеченных, – одни нарушали унылое молчание. Влево от большой дороги виден был полуразрушенный костел, который 6-го числа так сильно поражал нас своими орудиями; далее у горизонта виднелось озеро, которое прикрывало наш левый Фланг, – но напрасно я напрягал всю силу зрения – моих достопамятных кирпичных шанцев не было видно. Это показалось даже обидно для моего самолюбия. То место, где я так храбро подставлял свою голову под палаши латников, где пал, искрошенный по-видимому под их ударами – то место сравнялось с землею.
– Бедная участь всех человеческих деяний! Хлопочут, трудятся, жертвуют всем, чтоб после блеснуть – и что ж? Чрез несколько времени не только забыты и они, и дела их, – но даже и самые памятники их действий исчезают с лица земли.
Въезжая в город чрез наскоро починенный мост, мы с гордым самодовольствием вспомнили, что первое войско, ворвавшееся в стены Полоцка – было Ополчение (12-я дружина). У заставы опросили нас и дали провожатого на квартиру. С этой стороны города все было так мирно, так спокойно, а вдали, на другом конце, слышны были ежеминутные выстрелы.
Там на Двине наше же ополчение работало под неприятельскими ядрами и пулями. – Французы при отступлении сожгли разумеется мост, – и наши торопились теперь построить другой. Неприятельские батареи, поставленные у опушки леса на той стороне, очень неприятным образом мешали, правда, работе, – но наши солдатушки уж привыкли к этому аккомпанементу и только что поругивались, когда выстрелы слишком часто прерывали их занятие.
В доме какого-то Еврея назначена была наша госпиталь-квартира. Четырнадцать раненых Штаб– и Обер-офицеров поместились в одной комнате, имевшей одну кровать и несколько израненных стульев. Но мы были в Полоцке – и эта мысль услаждала всякое горе. – Здесь мы в первый раз после последней дневки в Невеле – пообедали. У нас был суп – и битая говядина. Какая роскошь! Какое наслаждение! – К нам пришел Адъютант нашего Полковника – и рассказал нам бездну новостей, которые еще более увеличили наше веселое расположение. – Витгенштейн получил в этот день пакет от ГОСУДАРЯ, с надписью: распечатать по взятии Полоцка! – а он уж был взят. Пакет этот был: Указ о пожаловании его в полные Генералы. – Мы тотчас же разумеется выпили за здоровье ново-пожалованного, веселость наша еще усилилась – и мы до ночи провели время в дружеских разговорах. – Ввечеру принесли нам сена, соломы и несколько грязных матрасов. Кровать была одна – и все разумеется уступали ее старшему. Это был наш Подполковник, 60-ти летний старик, который ранен был в ту минуту, как Баварцы прорвали на штыках наш фронт (я в 1-й главе описал этот случай). Но добрый ветеран не хотел этого преимущества и повалился на пол, на мягкую солому. Кровать же советовал всему обществу уступить – мне! Какое торжество для моего самолюбия! Напрасно я с видом скромности отговаривался, – все единогласно подтвердили решение Подполковника – и кровать отдана была мне, как наиболее покрытому ранами, – Никогда не засыпал я в таких приятных мечтах, с таким гордым удовольствием.
Зато следующее утро было самое неприятное для всех. – Это был день первой перевязки всех раненых. – Признаки этой перевязки решают судьбу раненого. – Если рана у него загноилась, – то он по всей вероятности вылечится, – если же в ране не будет материи, а окажется одно воспалительное состояние, то он может писать свое завещание. Мучения, которые я терпел при этой перевязке, превосходят всякое описание. Длинные и густые волосы, корпия и запекшаяся кровь, составили такую плотную массу, что Доктору невозможно было приступиться. Он велел меня выбрить. Цирюльник тотчас же приступил к этой работе – и все шло хорошо покуда он не добрался до ран, – но тут он необходимо должен был задевать бритвою за раны – и боль была нестерпимая; страдальческий пот выступал на лице крупными каплями. Как ни совестно было кричать при всех, – но я не выдерживал мученья и поминутно кричал и ругался. Наконец ужасная операция кончилась; Доктор промыл, осмотрел раны – и объявил мне, что они кажется не опасны. – Какое-то собственное чувство давно мне говорило то же, но, признаюсь, Докторское подтверждение чрезвычайно меня обрадовало. Я уже решительно стал считать себя в числе живых, – и тотчас же начал писать письма к матери и к знакомым, рассказывая им о моих подвигах с самою напыщенною скромностью.
В тот же день перевели всех раненых в Иезуитский клястер. Это было одно из знаменитейших заведений в Европе знаменитого этого братства. Оно имело 6 т. душ в Витебской губернии, – и чтоб сохранить все в целости от жадности Французов – они заплатили им миллион франков контрибуции, – и четыре месяца продовольствовали всю Главную квартиру Маршалов Удино и Сен Сира, – И нас приняли они с радушием и заботливостью. Более 300 Штаб– и Обер-офицеров размещены были по кельям и залам этого огромного здания – и отличный стол обнаруживал искусство поваров и гастрономические склонности этих братьев во Иисусе. – ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР пожаловал нам тогда по рублю в день столовых всем раненым Офицерам – и мы разумеется ассигновали эту сумму нашим хозяевам, – но они с благородным бескорыстием отказались от платы – и целый месяц кормили нас даром, предоставив нам, пожалованные деньги на карманные расходы. – Сверх того дежурный Иезуит два раза в день посещал каждого из нас и спрашивал: не нуждаемся ли мы в чем-нибудь?
Я имел случай познакомиться с двумя из них несколько покороче. Один 60-ти летний Итальянец, – другой, – вообразите себе первоначальное наше удивление! – был Русский Дворянин и Костромской Помещик. – Воспитываясь у них, он так напитался духом братства, что решился остаться в нем. Сначала вид его производил на нас какое-то неприятное действие, но мало помалу мы свыклись с этим чувством и даже подружились с этим полу-ренегатом, потому что беспрестанные его попечения об нас были нам очень полезны и приятны. – Оба мои новые знакомца доставили мне по просьбе моей множество самых редких и любопытнейших книг, – и чтоб время страдальческого затворничества провести с пользою, я брал у них уроки Греческого и Польского языка. – Когда же состояние ран позволило уже выходить из Кляштера, то лучшее общество офицеров собиралось у Коменданта и Плац-Майора. Оба были из Ополчения. – 12-я дружина, первая ворвалась в Полоцк и за это Полковник её Николев был сделан Комендантом, а Майор Галченков – Плац-майором в новозавоеванном городе. Последний в особенности отличался истинно Русским гостеприимством и благородным радушием.
Вскоре получили мы известие радостное, восхитительное. Москва была свободна, – и Наполеон отступал!! – Сражение при Тарутине и Малоярославце достигнув до нас в самых преувеличенных видах, уверяли нас, что Французская Армия вконец разбита, и что нам останется только доколачивать бегущих. – Тогда-то мы вспомнили наши чувства, наши разговоры в Епифаньевской пустыне, где впервые узнали о взятии Москвы. Какое уныние, какая мрачная безнадежность овладели тогда нашими сердцами. Теперь же вдруг какой неожиданный переворот войны! Вся вооруженная Европа, предводимая первым Полководцем, вторгшаяся в Россию, как на верную и неизбежную добычу, бежит теперь, бросая пушки, обозы и тысячи пленных. – Невозможно описать нашей радости. – Это надобно было чувствовать, – и чувствовать в то время– единственное, священное! – Все мы как сумасшедшие бегали, смеялись, обнимали друг друга, – и только изредка сожалели, что наши старшие братья в Главной Армии победами своими мало оставили нам работы. – Мудрено ли, что при таком расположении духа, мы выздоравливали, как богатыри в сказках.
Сила молодости и здорового телосложения вскоре начали заживлять и мои раны самым быстрым образом. Менее нежели в месяц я уже мог везде прогуливаться, – и что ж? первым и беспрестанным желанием моим было поскорее отправиться в Армию. Все отговаривали, бранили, хотели даже насильно отправить в Псков (там жила моя мать), – но я сам бранился, храбрился и не слушался. Головные мои раны затянулись, – об остальных я очень мало беспокоился. Чего ж еще было думать? – Я хотел удивить всех. Через месяц явиться в Армию с полузалеченными ранами. – Одно небольшое обстоятельство задержало меня еще на неделю. Решившись непременно отправиться, я по Русскому обычаю, за два дня до назначенного мною срока к отъезду, пошел в баню, – и как уж третий месяц не пользовался этим высоким наслаждением, то и пустился париться с сильным чувством Русского молодечества, – Вдруг кто-то из товарищей с испуганным видом сказал мне; – что у меня по лицу кровь течет. – Голова моя разумеется была обвязана и часто обливаема холодною водою, – не смотря на это одна рана раскрылась, – и кровь пробив бандажи, текла по щекам. – Весь жар моей банной поэзии мгновенно простыл; холодная трусливость вступила в права животного самосохранения, – недавнее самохвальство превратилось в самую скромную рассудительность – и я спешил поскорее домой. Все дело кончилось однако одним почти страхом. Доктор побранил меня за то, что я без совета его пошел в баню, перевязал голову – и чрез неделю я уже опять требовал своего отправления в Армию. – Никому разумеется не нужно было удерживать меня, – и я по прекраснейшему зимнему пути полетел в свою Дружину.
В 1812 году переход от осени к зиме был удивительно скор. Еще 10 Октября смотрели мы из своей кельи в растворенное окно – и любовались теплым, прекрасным вечером и живописными берегами Двины, увенчанными батареями и оканчивающимися весьма прозаическим лесом и болотами. 18-го Октября Двина уже замерзла, поля покрылись снегом и Русская зима вступила в число вспомогательных сил нашей Армии. – С каким весельем летел я, чтоб поскорее догнать наш корпус! С каким восторгом (и тайною досадою, что меня тут не было), смотрел я на поля Чашник и Смольян, где еще недавно Витгенштейн побеждал третьего Французского Маршала (Виктора), ему противопоставленного. Снег прикрыл половину кровавых следов здешних битв, но зато оставшаяся на виду была еще разительнее, живописнее. – И здесь Ополчение оказало много опытов храбрости, – но уже более рассудительной, лучше направленной.
Чем ближе подъезжал я к нашему корпусу, тем известия об нем становились важнее. Казаки рассказывали мне, что сам Наполеон кажется попадется в руки Витгенштейна. У меня дух захватывало от нетерпения, чтоб поскорее поспеть к такой знаменитой развязке. 15-го Ноября достиг я до бивака нашего отряда. – Сколько радостных новостей ожидали меня? Знаменитые дни под Красным, давшие Кутузову наименование Смоленского, гремели во всех рассказах. Армия Наполеона была, как говорили, в щепки разбита, пушки все захвачены и остатки рассеянных полков гонимы к Березине, где их ждет окончательное поражение. – Погода способствовала вполне оружию Русских. Ранняя зима оказалась ненадежною; сделалась оттепель, – и все говорили, что это обстоятельство решительно погубит Наполеона, потому что река Березина, недавно еще ставшая, снова вскрылась. Наполеону непременно надобно было через нее отступать. В виду Армии Чичагова, ждавшей его на той стороне надобно было строить мосты. Сражаясь с Витгенштейном, ожидающим его с правой стороны и отделываясь от натисков Платова, свистящему ему в уши с затылка, надобно было переправляться через Березину. – Мы заранее торжествовали плен Наполеона. Событие показало нам, что мы не много ошиблись.
Когда я явился к Полковнику, то никто не хотел верить моему скорому выздоровлению. Когда же увидели бандажи, не снятые еще мною из предосторожности и для теплоты, то все меня бранили, – и говорили, что мое раннее прибытие – или хвастовство, или глупость. – Я не оправдывался, потому что сам не умел дать себе отчета в настоящей причине моей торопливости; теперь только я понимаю ее. – Это была просто – молодость, – и больше ничего.
Дружина наша, чрезвычайно уменьшившаяся даже и с прибылью из Госпиталей (200 человек из 800), была в арьергарде. Я несколько затруднялся в своем костюме, но Полковник позволил мне оставить его в том виде, как я приехал. Именно: у меня не было теплой шинели, (т. е. ни холодной, потому что взятую из Петербурга отдал я после Полоцкого сражения нашему батальонному Адъютанту, раненому пулею в живот; этот бедняк не поехал за нами из Юревичь в Полоцк – и через несколько дней умер: – разумеется мне было тогда не до шинели), – а ротный Начальник дал мне свой овчинный тулуп, крытый китайкою, – и с ним-то я явился, подпоясанный саблею, (первоначальная шпага, свидетельница и содействовательница моих храбрых дел, осталась без моего ведома у кирпичных шанцев под Полоцком). На голове был у меня широкой меховой чепчик с ушами; одни ноги оставались в беззащитном от холода положении, – но днем они грелись ходьбою, а ночью близостью к костру.
И так самое пламенное мое желание сбылось: я был опять в Армии! – и в какую прекрасную минуту! Кровавая Драма нашествия приближалась по-видимому к развязке, – и я был в числе действующих лиц, хоть правда в числе Статистов, но все-таки на сцене. Какой разгул для воображения 17-ти летнего Офицера! Какие случаи могли тут быть, чтоб отличиться и прославиться. – И что ж? – Бывал ли кто так больно, так ужасно обмануть в своих надеждах и ожиданиях? Весь день 15 го Ноября гремела вокруг нас сильнейшая канонада, – а наш арьергард смирнехонько стоял на месте. Напрасно мы кусали себе губы и грызли ногти от нетерпения, напрасно останавливали каждого проезжающего казака, – об нас никто и не подумал. Что могло быть обиднее? Ночью узнали мы однако чрез пленных, что Наполеон завтра только явится. В эту ночь сдалась целая дивизия Партуно, окруженная нашими войсками. – Новое горе! – Мы даже и в этом подвиге не участвовали. – Впрочем 16-го Ноября надеялись мы быть счастливее – и вознаградить себя за все.
С рассветом снова загремела канонада со всех сторон, – и вообразите себе нашу радость! Нам велено было двинуться вперед. Сколько сцен, подобных Полоцким, ожидали мы теперь! Притом же сам Наполеон был на этот день нашим противником! Сколько славы! сколько случаев отличиться! Но судьба и на этот раз решилась быть к нам жестокою. – Знаменитая переправа, которую сохранят тысячелетия, которую с тех пор столько уже описывали и исторически, и романтически, которая и будущим легионам писателей будет таким обильным материалом для разительных картин, трогательных сцен и философических рассуждений, – эта переправа – происходила от нас грешных, верстах в 2-х, а мы, стоя на высоте у прикрытия 12-ти пушечной батареи Генерала Фока, видели только издали, нестройные, волнующиеся массы неприятеля, толпившегося около реки и напирающего к мостам. Пред этою массою стояли несколько колонн Французских – и с удивительным мужеством отражали все наши усилия: добраться поближе к переправе. Наконец от наших выстрелов, или от тяжести бросившихся на мосты людей, один из них обрушился и переправа кончилась. Я говорю переправа, но тут то именно и начались картины ужасов, плача и отчаяния. Французская Армия почти вся уже успела перебраться на ту сторону в эти два дня, – но обозы и все не боевые люди остались на нашей. – Все они толпились, теснились, пробивались к реке, к мосту, – но его уже не было – и передовые толпы, сдавливаемые задними массами низвергались в воду, боролись с волнами, старались переплыть, хватались за льдины – и с криками отчаяния погибали. рассказать, описать эти картины – невозможно, они принадлежат в область поэзии, самой чудовищной, самой исступленной. Историк, прозаик – не опишет вам и слабого очерка этой грозной переправы. Уже одно это обстоятельство заставит содрогнуться каждого писателя. Мы стояли за две версты от моста, на высоте; худо могли видеть и понять в чем дело, – но ужасные крики отчаяния всей этой массы погибающих людей так явственно были нам слышны, так сильно потрясали наши чувства, что мы имели глупость не раз проситься туда у Полковника для спасения несчастных. Мы забывали, что между ними и нами стоят неприятельские колонны.
К вечеру все замолкло. – Корпус наш весь собрался на биваки, зажгли костры, – и тут то начались рассуждения, споры и догадки. Что ж это все значит? Каким образом допустили Наполеона переправиться? Почему позволили ему даже мосты свои выстроить? От чего Армия Чичагова не втоптала его опять в реку когда он стал переправляться? Как Кутузов не по пятам его пришел к реке, чтоб доколотить его? Все это занимало нас почти целую ночь. – Разумеется все мы, как важные и знающие люди, осудили сперва Чичагова, потом Кутузова, а наконец даже и своего Витгенштейна. Все Березинское дело казалось нам слабо, вяло, – не чисто.
Избави Бог от этаких судей!
На другое утро опять возобновилась канонада. Но это было уже последнее отдание празднику, последнее прощание Французской Армии, последний привет её Русской земле. Тут еще видели мы остатки этой великой Армии, сильно борющейся, храбро сопротивляющейся, одним словом тут еще блеснул гений Наполеона и дух его воинов. За Березиною – все это исчезло. После получасового прощания пушечными выстрелами, Французы зажгли остальной мост, – и пальба прекратилась. Это значило, что и остальные перебрались. – Тут мы уже были вполне хозяевами на правом берегу – и спешили к месту вчерашнего боя и ужасной переправы. Что же? – Картины ужасов сделались еще разительнее, потому что погибающие были не в массе, а отдельными группами. За целую версту нельзя было подойти к берегу от оставленного Французами обоза. Кареты, телеги, фуры, щегольские коляски, дрожки, все это нагруженное Русским добром, награбленным в Москве и по дороге; подбитые орудия, пороховые ящики, тысячи обозных лошадей, спокойно ищущих пищи под снегом, или в какой-нибудь фуре; наконец груды убитых и умирающих, толпы женщин и детей, голодных и полузамерзших, все это так загромоздило дорогу, что надобно было отрядить целую дружину ополчения, чтоб как-нибудь добраться до места переправы. Здесь картины были еще ужаснее. Вся река наполнена была мертвыми. В отвратительнейших группах торчали из реки, погибшие в ней вчера, а по берегу, как тени Стикса, бродили толпами другие, которые с какою-то бесчувственностью посматривали на противоположную сторону, не заботясь о нашем появлении и не отвечая на наши вопросы. – И офицеры и солдаты брали с собою этих несчастных, чтоб покормить их, окутать чем-нибудь потеплее и сдать для отправления в Витебск. – При всем тогдашнем ожесточении нашем на Французове, бедствия Березинской переправы казались нам достаточными, чтоб примириться с ними за пожары и истребление городов и сел, за бесчисленные убийства, совершенные над жителями, за тысячи погибших в битвах. – Мы не воображали тогда, что Березинские ужасы только начало гибельного их периода, что это только вступление в бедственную главу Истории их нашествия, что за Березиною ждет их гибель и истребление стократ ужаснейшие.
При разборе и расчистке обоза многие из наших обогатились. Иные случайно, другие умышленно. Некоторые офицеры собирали книги, картины, атласы. Набожные отыскивали церковные ризы и утвари. Хозяйственные люди – любили деньги серебренную посуду, ложки, миски, самовары, и т. п. Ленивые не получили ничего (я грешный был в числе последних)! Целые два дни продолжали мы разбирать и расчищать обоз – и все больше половины осталось на месте;
В эти два дня исправлены были мосты на Березине – и мы пустились вслед за Французами, на выручку Армии Чичагова, который истощив все свои усилия, принужден был пропустить Наполеона, бывшего все еще гораздо его сильнее. 20-го Ноября сошлись мы с войсками Чичагова и пропустив их вперед, предоставили им все лавры преследовать – С этой минуты начался ужаснейший период Французской ретирады. – Оттепель, так много мешавшая Наполеоновой переправе чрез Березину, вдруг превратилась в жесточайшие морозы, каких мы и в Петербурге редко видывали. Стужа ежедневно усиливалась и постоянно остановилась на 25°—25° реомюра. Это уж был последний, неотразимый удар для Французской Армии. Нравственное её состояние совершенно упало, уничтожилось. Каждый привал, каждый ночлег её – был ужасным полем проигранной битвы; тысячи погибали в величайших мучениях. Воины, пережившие может быть Аустрелиц, Эйлау и Бородино, доставались нам теперь очень дешево. Каждый казак брал их десятками в плен и приводил их в каком-то бесчувственном состоянии. Они ничего не ждали, не помнили, не понимали. Дороги были усеяны их трупами, – во всякой хижине валялись они без призрения.
В переходе из Касина в Долгиново спас я нечаянно одного Швейцарского Капитана. Мы проходили мимо леса. Снег был крепок и не глубок, и потому мы пользовались прекрасною погодою, сворачивая иногда с большой дороги и гуляли по опушке леса. Трупы замерзших Французов кучами валялись по всем направлениям. Это зрелище было уже самое для нас обыкновенное, – и никого более не трогало, ничьего внимания не привлекало. Вдруг мне показалось, что в лесу у дерева, какое-то существо шевелится, качается. С машинальным любопытством побрёл я туда, – и что же? Прислонясь к сосне, стояло на коленях какое-то загадочное существо. Одежда его была самая Фантастическая; – теперь она бы показалась презабавною. На голове привязана была тряпкою женская муфта; на плечах болталась душегрейка; нижнее платье было все в лохмотьях, все сквозное и едва оставлявшее сомнение к какому полу принадлежало видимое существо. На ногах оставались одни голенища обвернутые в солому, сквозь которую виднелись голые пальцы. Этот получеловек держал в руках маленькое распятие, вперял в него мутные и неподвижные свои глаза и по шевелившимся губам видно было, что он молится, чувствуя приближающуюся смерть. – Давно уже мы были равнодушны ко всем видам страданий и кончины [4]4
Так например Г*** К**** приказал на биваках подкладывать себе под головы и с наветренной стороны несколько замерзших Французов, – и это вовсе не казалось тогда ни странным, ни ужасным
[Закрыть], но молитва воина умирающего на снегах чужбины, – имела что-то необыкновенно трогательное. – Я кликнул нескольких солдат, спросил, было умирающего кое о чем, – но он не мог мне дать никакого известия, – Стужа и голод лишали его всякого чувства и понятия; мы его подняли, перенесли на сани, окутали всем возможным, влили ему в рот несколько рому, – и на авось привезли на ночлег. Он еще был жив, – но надобно было вынуть его из саней, принести на руках в избу и положить. Тут новый прием рому возвратил ему способность языка. Он слабым голосом заговорил по-немецки, и кое-как объяснил нам, что он Капитан, Швейцарец, служить в III полку – и прочие военные и семейные подробности. Мы его покормили – и подобного восторга от нескольких ложек плохого супа, верно, еще никто не видывал на свете! – Его осмотрели, – но к счастью оказалось, что он еще не успел себе ничего отморозить. Одно крайнее изнурение от голода было бы причиною его смерти. На другое утро, собрав ото всех товарищей все, что можно было отдать ему из одежды, мы заставили идти с нами до первого отправления большого отряда пленных во внутренность России. – Что с ним после случилось – никто из нас не знает. Дай Бог, чтоб помощь наша возвратила его в объятия семейства и друзей.
Пропустив вперед Армию Чичагова, мы уже шли вовсе не по военному. Всякий ночлег располагались мы по деревням, ночевали в теплых избах, ели порядочно, а иные и пили до удовольствия. Наши военные действия ограничивались собиранием по дороге пленных, а эта работа была самая миролюбивая. Они рады были сдаваться, потому что имели в перспективе пищу, – а может быть и одежду. Да и передовая наша Армия не больше нас делала. Морозы действовали за нас вдесятеро сильнее – и от Березины до Немана погибли более 60 т. неприятелей, не сделав ни одного выстрела!
Вскоре, мы узнали, что Наполеон уехал в Париж – и оставил несчастные развалины огромной своей Армии на произвол судьбы. Он вверил ее Мюрату (Неаполитанскому Королю), – но и тот последовал его примеру. Евгений, (Вице-Король Итальянский) взялся быть Главнокомандующими и доказал свои отличные способности, доведя плачевные эти остатки до Эльбы, без значительным уже потерь.
Сильные ли морозы или худо зажившие мои раны были тому причиною, – но здоровье мое в это время очень расстроилось – и меня отправили отдохнуть и полечиться в Вильну, (28-го Ноября, город был занят Генералом Чаплицом и Полковниками Сеславиным и Теттенборном). Я оставил мою Дружину, и не знал что навсегда!
В санях, в сопровождении одного денщика, поехал я в древнюю столицу Литвы, – и это двухдневное путешествие дало мне случаи видеть столько новых эпизодов Французской ретирады, что при воспоминании об них невольный холод пробегает по жилам. И Физическое, и нравственное состояние этих несчастных воинов – превосходит всякое вероятие, всякую возможность к описанию. Во всякой избе, где я останавливался, чтоб погреться, (потому что морозы все еще были самые жестокие), находил я кучи погибших, – и по большей части все около затопленных печей лежащих. Отмораживая ноги, руки, нос и уши, – страдальцы, не зная тайны северного климата: оттирать пораженные члены снегом, спешили отогревать их у огня; тотчас же делался антонов огонь, апоплексический удар – и несчастные, вместо спасения, находили всякий раз смерть, у разведенного ими огня. Другие же бродили по дорогам как привидения, не зная сами куда и зачем? У многих я спрашивал: куда они идут? Все отвечали: в Вильну! Зачем? – «Там Император!» – вы ошибаетесь, в Вильне Русские, а Император ваш уехал в Париж.» Недоверчиво качали они головою и продолжали путь вовсе в противоположную сторону от Вильны. Никто не думал собирать их как военнопленных. Они очень спокойно шли между Русскими колоннами, – и вовсе этим не занимались.
Наконец прибыл я в Вильну, – и явился к Коменданту со свидетельством от своего Полковника. Комендант покачал головою. «Лечиться здесь!» сказал он, неудачная мысль! Здесь все еще заражено пребыванием Французов, – и люди и дома. В госпиталь я вас не помещу, – там мрут сотнями от госпитальной Лихорадки. У жителей вряд ли вы найдете хороший присмотр и радушие. Все они на нас что-то косятся, а втихомолку и больше рады сделать.» Я отвечал Коменданту, что желал бы быть помещен у кого-нибудь из незначащих обывателей, у которого скромностью и самыми умеренными требованиями постараюсь не возбуждать мстительности. «Хорошо! Я вас пошлю в Петербургский форштат, там смирнее. Но все-таки берегитесь и будьте осторожны. При малейшем признаке каких-нибудь замыслов, уведомьте меня в ту, же минуту.» – Я откланялся – и поехал в новое свое жилище. Оно было за городом, почти в средине Петербургского форштата на правой руке. Домик чистенький, светленький, предупреждал меня в пользу хозяина, потому что наружная чистота очень выгодная рекомендация для душевных качеств обитателей. Хозяин встретил, и меня, и мой квартирный билет – очень хладнокровно. Не чему ж впрочем было и радоваться. Особенной комнаты мне не дали, а расположился я в общей большой зале и на вопросы хозяина о моих требованиях на стол и питье, отвечал, что я вовсе не взыскателен и буду тоже самое есть и пить, что у него за столом будут подавать. Ответ мой несколько разгладил его лоб. Осмотревшись хорошенько, и не надоедая никому своими расспросами, увидел я, что хозяин мой купец, незначительного состояния. Он был вдов, имел двух дочерей – и не более двух дней как освободился от нескольких Русских постояльцев. Мудрено ли, что появление нового жильца ничуть его не обрадовало. Он был пасмурен и неговорлив, – но не оказывал однако никаких признаков явного недоброжелательства, – при конце же обеда, даже стал со мною заговаривать. Будучи сам от природы не словоохотлив, я не распространялся вдаль – и политические наши суждения оканчивались очень скромными: да, и нет! За то с дочерьми его я гораздо скорее познакомился. Известно, что с сотворения мира между постояльцами – Офицерами и хозяйскими дочерьми всегда существует какая-то врожденная симпатия. Легче всего она развивается с Польками, усовершенствуется с Француженками, а приводится к окончанию с милыми Немочками. К сожалению я был по этой части самый неопытный Офицер во всей Русской Армии, и верно Стыдливее и боязливее всех моих походных хозяек, который по военно-походной логике, всегда составляют принадлежность квартирующих Офицеров. Я узнал однако же тотчас, что старшую дочь зовут Барбою, (Варвара), а меньшую Юзефою. Старшая была красивее, веселее, смелее, а может быть и опытнее. Меньшая застенчива, боязлива, рябовата и задумчива. 17-ти летний офицер, покрытый множеством ран, довольно интересное существо для девушки, – и потому обе взглядывали на меня довольно умильно. Сначала я отпускал им также нежные взгляды, крошечные вздохи, выбирал в уме своем, к которой обратить свою привязанность – и решился – на меньшую. Многие может быть расхохочутся при этом выборе, – но как быть! Юзефа больше сходствовала с моим характером, – тогда как живость и веселость старшей меня изумляли и пугали. Барбара скоро заметила мое предпочтение, – но вместо того, чтоб этим обидеться, огорчиться, она начала помогать мне, подшучивать над моею робостью и бранить сестру за её молчаливость. – Отец всегда спал после обеда и в это время мы оставались в зале моем одни. Часы летели быстро, весело. Но… bonny soit qui mal ypense, – да не оскорбится ни чье скромное воображение этими часами! я был тут настоящим Молчалиным с Софиею. «Как думаешь, чем заняты?…. «Он руку к сердцу жмет, из глубины души вздохнет – ни слова вольного!…» Не знаю, довольны ли были внутренне мои собеседницы, что судьба послала, им такого робкого и неопытного обожателя: помню, что они поминутно смеялись между собою, – перешептывались, – но самолюбие не допускало сознаваться, чтоб это было на мой счет, а несносная застенчивость уверяла, что иначе и поступать нельзя. Конечно 17-ти летнее воображение рисовало мне часто гораздо приятнейшие картины я в уме своем вел предлинные разговоры, отпускал страстные тирады и доводил слушательниц до сознания во всепобедимой моей любезности, – но когда дело доходило, чтоб все эти умные фразы и восторги повторить материальным образом, то какой-то страх стеснял мою грудь; я откладывал до другого дня – и все оставалось по прежнему.