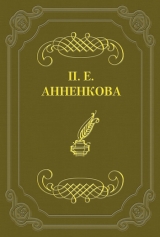
Текст книги "Воспоминания (СИ)"
Автор книги: Прасковья Анненкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Из этого города выехала я 4 января 1828 года, в 12 часов ночи, и были в Перми 6-го. Везде, где я ни появлялась, все изумлялись, с какою быстротою я ехала. Мне самой непонятно теперь, как могла я выносить такую быструю езду, при таком ужасном холоде, какой был в ту зиму. Из Москвы до Иркутска я доехала в 18 дней и потом узнала, что так ездят только фельдъегеря. Зато однажды меня едва не убили лошади, а в другой раз я чуть-чуть не отморозила себе все лицо, и если бы на станции не помогла мне дочь смотрителя, то я наверное не была бы в состоянии продолжать путь. Эта девушка не дала мне взойти в комнату, вытолкнула на улицу, потом побежала, принесла снегу в тарелке и заставила тереть лицо. Тут я только догадалась, в чем дело. В этот день было 37° мороза, люди тоже оттирали себе лица и конечности, и мы мчались снова.
Выезжая из Перми, я заметила, что нам заложили каких-то необыкновенно маленьких лошадей (башкирских), но таких бойких, что они не стояли на месте. Между тем повозку мою тщательно закупорили от холода и крепко застегнули фартук. Степан сидел на козлах, Андрей ехал в другой повозке, ямщик был молодой мальчик. Я стала наблюдать, что он все греет себе руки, заложив вожжи под себя. Вдруг лошади, почуя, что ямщик распустил вожжи, помчались с необыкновенной силой, мигом сбросив ямщика и человека с козел. Постромки у пристяжных оборвались, и осталась одна коренная, которая, спускаясь с пригорка, упала, повозка полетела вместе с нею и опрокинулась. Тогда все чемоданы, уложенные в повозке, свалились на меня. Со мной была неизменная моя собака Ком, она страшно выла, и я начинала буквально задыхаться, когда услышала шаги около повозки и увидала человека. Тогда я стала просить помочь мне поскорее. Человек этот, вероятно, был очень силен, потому что не затруднился поднять повозку и поставил ее на полозья. Я увидела пред собой башкирца, который ни слова не говорил по-русски. Мы смотрели друг на друга с недоумением. Я второпях, не подумав о том, что делаю, движимая чувством признательности к человеку, спасшему мне жизнь, вынула свой портфель, довольно туго набитый, и подала ему 25-рублевую ассигнацию. Но оглянувшись, спохватилась, что мы были с ним одни с глазу на глаз в дремучем лесу. Воздух был так густ, что кругом ничего не было видно. Со мною была сабля, которую я достала и встала у экипажа, оперевшись на нее. Так мы простояли целый час с моим спасителем. Он ехал с возом соломы, когда увидал меня в опасности и подоспел на помощь. Через час я услышала какой-то непонятный для меня в то время шум, но впоследствии слишком знакомый. Шум этот происходил от оков, в которых подвигалась целая партия закованных людей, иные были даже прикованы к железной палке. Вид этих несчастных был ужасен. Чтобы сохранить лица от мороза, на них висели какие-то грязные тряпки, с прорезанными дырочками для глаз.
Наконец я увидела и моих людей. Другую повозку лошади тоже понесли, ямщик, как и мой, свалился с козел, а лошади примчались на следующую станцию, с которой уже люди возвращались, разыскивая меня. Станция находилась в трех верстах, мы скоро добрались до нее, отдохнули и, оправившись от испуга, продолжали путь. Совершив переезд через Уральский хребет, мы достигли Екатеринбурга. Здесь люди мои потребовали остановки, чтобы отдохнуть, в чем, по справедливости, я не могла им отказать и в чем сама также очень нуждалась.
Недалеко от Екатеринбурга нас чуть-чуть не остановили какие-то люди, вероятно, не с добрым намерением. Из лесу выехало человек пять или шесть верхом и закричали на нас: «Стой!» Но ямщики наши не оробели, погнали лошадей с криком и свистом, отвечая, что едут не купцы, и мы ускакали.
В Барабинской степи, чтобы как-нибудь заставить меня выйти из экипажа, Степан на одной из станций убеждал меня зайти посмотреть на красавицу, а так как я часто высказывала, что в России мало красивых женщин, то Степан действительно подстрекнул мое любопытство. Я зашла в комнату и была поражена, увидев девушку лет восемнадцати, которая сидела за занавескою и пряла. Это была раскольница, и замечательно красивая.
В Томск приехали мы в воскресенье рано утром и остановились на день. Я воспользовалась остановкой, чтобы сходить к обедне и встретила в церкви двух сенаторов: Безродного и князя Куракина, которые производили тогда в Сибири ревизию.
Между Томском и Красноярском на одной из станций я встретила молодого человека с фельдъегерем. Это был Корнилович, отправленный сначала вместе с другими в Читинский острог. Теперь фельдъегерь, который год спустя после того, как были отправлены все декабристы в Сибирь, привез Вадковского в Читу, вез обратно Корниловича в Петропавловскую крепость, как я узнала потом. Позднее из Петропавловской крепости Корнилович был отправлен на службу на Кавказ, где вскоре скончался. Фельдъегерь, везший Корниловича, был гораздо человечнее, чем тот, который вез Ивана Александровича Анненкова с товарищами, так что при встрече со мною Корнилович был без оков, о чем, впрочем, он очень просил меня не говорить коменданту Читы Лепарскому.
В Красноярске Степан и Андрей доказывали мне, что необходимо починить полозья у экипажей, но я более не хотела останавливаться и, несмотря на их уверения, что полозья не дойдут до Иркутска, доехала благополучно. Вопреки уверениям Александра Дюма, который в своем романе говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами.
Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которые встречала везде. Была я поражена и тем богатством и обилием, с которым живет народ и поныне (1861 г.), но тогда еще более было приволья всем. Особенно гостеприимство было сильно развито в Сибири. Везде нас принимали, как будто мы проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, – сколько должна за них заплатить, ничего не хотели брать, говоря: «Только Богу на свечку пожалуйте». Такое бескорыстие изумляло меня, но оно происходило не от одного радушия, а также и от избытка во всем. Сибирь – чрезвычайно богатая страна, земля необыкновенно плодородна, и не много надо приложить труда, чтобы получить обильную жатву.
В Каинске мне рассказал почтмейстер, как княгиня Трубецкая, рожденная графиня Лаваль, проезжая летом, должна была бросить в этом городе карету свою, которая сломалась дорогой и некому было починить ее. Таким образом, эта женщина, воспитанная в роскоши, выросшая в высшем кругу, изнеженная с детства, проскакала 1750 верст в сквернейшей тележке, потому что в Каинске, кроме перекладной, она ничего не могла достать, а кто знает, что такое перекладная!
Около Красноярска я съехалась на одной из станций с губернатором Енисейской губернии. Подстрекаемый любопытством, прочитав мою иностранную фамилию и предполагая, что я еду к кому-нибудь гувернанткою, он подошел ко мне и, очень извиняясь, что обращается с расспросами, сознался, что не может устоять против желания узнать, каким образом, не говоря по-русски, я решилась ехать так далеко. Я отвечала ему шутя – мой веселый характер беспрестанно брал верх, несмотря ни на какое горе. Но когда я ему объяснила, куда именно я еду, то он с большим участием отнесся ко мне и просил поклониться всем осужденным, особенно барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю и братьям Николаю и Михаилу Александровичам Бестужевым.
Немного далее я встретила одного молодого человека в военном платье, который, узнав о цели моей поездки, прослезился, говоря, что у него много там товарищей, что он тоже участвовал в обществе, но сослан в Сибирь на службу. Сожалею, что я забыла его фамилию.
Наконец достигла я Иркутска, к величайшей радости моих людей, которые очень утомились дорогой, а главное – страдали от морозов.
Глава двенадцатая
Губернатор Цейдлер – Новые препятствия в Иркутске – Письмо матери – Пророчество Ленорман – Купцы Наквасины – Показная роскошь – Проделки Андрея
Когда губернатор иркутский Цейдлер прочел мою подорожную, то не хотел верить, чтобы я, женщина, могла проехать от Москвы до Иркутска в восемнадцать дней, и, когда я явилась к нему на другой день моего приезда, в 12 часов, он спросил меня, не ошиблись ли в Москве числом на подорожной, так как я приехала даже скорее, чем ездят обыкновенно фельдъегеря. Просмотрев все мои бумаги, которые я должна была ему показать, а также и письма, Цейдлер объявил мне, что письма должен оставить у себя. Мы сидели в его кабинете, где в это время топился камин. Между разными незначительными письмами были те два, которые я получила от великого князя Михаила Павловича. Прежде чем Цейдлер успел их прочитать, я поспешно взяла все эти письма с его стола и со словами: «Раз я не могу их сохранить, то позвольте мне их сжечь», – так же поспешно бросила их в камин. Цейдлер так был озадачен моим поступком, что только мог выговорить: «Как вы прытки, сударыня». Таким образом, я должна была расстаться с письмами великого князя Михаила Павловича, которые мне, понятно, очень хотелось сохранить.
В Иркутске остановилась я в семействе купца Наквасина, к которому имела из Москвы письмо. Едва ли на всем земном шаре найдется другая страна, как Сибирь, по своему гостеприимству. Наквасины приняли меня как самую близкую родственницу, с полнейшим радушием, окружили таким вниманием, заботами, что я со слезами благодарности вспоминаю всегда то время, которое провела в их семье и которое было для меня очень тягостно, так как губернатор, под разными предлогами, задерживал меня очень долго в Иркутске, несмотря на то, что все бумаги из Петербурга были им получены. Сначала он отзывался тем, что генерал-губернатор Лавинский был в отсутствии, но потом я убедилась, что это была одна придирка, так как он отпустил меня все-таки ранее, чем вернулся Лавинский. Настоящей причины – почему меня задерживали – я понять никак не могла, но позднее узнала, что из Петербурга было сделано распоряжение, чтобы нас, всех дам, последовавших за осужденными, старались бы задерживать и уговаривать не ездить далее Иркутска и убеждать вернуться назад. Но, однако ж, несмотря на все старания начальства, ни одна из нас не отступила от исполнения своего долга. Одно осталось для меня загадкою, почему Александру Ивановну Давыдову, которая прибыла при мне в Иркутск, отпустили ранее меня, тогда как меня, несмотря на все мои просьбы и мольбы, продержали очень долго.
Однажды вечером, когда я сидела у губернатора, принесли при мне письма. От меня не ускользнуло, что один конверт, довольно толстый, был из Франции. Прочитав издали на нем свое имя, я взяла его, хотя это было довольно бесцеремонно с моей стороны. Губернатор заметил тогда, что обязан просматривать письма наши, прежде чем передать нам их, но все-таки взятый мною конверт оставил у меня в руках. Распечатав его, я нашла несколько писем моей матери, одно из них было ответом на мою просьбу. Перед отъездом из Москвы я писала ей и просила сходить к m-lle Ленорман, тогда известной гадальщице, и спросить ее о моей участи. Мать писала, что исполнила мое желание и что m-lle Ленорман удивила ее, во-первых, тем, что сказала прямо, что она спрашивает ее о своей дочери, которая очень далеко и которой судьба очень странная; что много придется ей испытать, много пережить, что предстоит ей опасность, которая, однако ж, минует. Действительно, вскоре по приезде в Читу меня чуть не убили, и мне кажется, что об этом именно и говорила m-lle Ленорман. Но самое интересное в предсказании m-lle Ленорман было то, что она говорила матери, что после долгих испытаний, когда мужу моему будет 50–60 лет, он получит то, что потерял, хотя не все. Ивану Александровичу Анненкову было 55 лет, когда он вернулся в Россию, и родственники возвратили ему довольно значительную часть из его состояния.
Время между тем шло своим обычным течением, а губернатор Цейдлер не трогался моими мольбами. Наступила масленица, я все время жила у Наквасиных. Они, видя мое горе о том, что не пускают меня ехать далее, всячески старались развлекать меня, катали каждый день по Иркутску в великолепных санях, с великолепной упряжью и такими же лошадьми, угощали всем, что только можно было найти в Иркутске. Вообще они жили очень богато, наряжались страшно, выписывая все наряды из Москвы, и любили похвалиться своим богатством. Но роскошь их была только наружная и ограничивалась парадными комнатами, а вообще они жили очень грязно. Что кидалось мне более всего в глаза, это столовое белье, которое было очень грубое, очень редко менялось и совершенно не отвечало, как и вся вообще сервировка стола, очень вкусным и великолепным обедам.
Мне весьма хотелось им высказать, что при их богатстве следовало прежде всего обратить внимание на белье, но, почти не говоря еще ни слова по-русски, я не знала, как выразить то, что желала им сказать, а они часто повторяли, что они богаты, и это слово я уже твердо знала. Однажды, когда было человек до 40 гостей, и обед был действительно на славу, я не воздержалась от потребности высказаться, и на расспросы хозяйки, нравится ли мне их обед, отвечала, взяв скатерть в руки: «Богат, богат, а это – свинья». Потом, испугавшись, что я обидела людей, которые меня так ласкали, и совершенно не желая этого сделать, я горько заплакала. Наквасины поняли мою мысль, но выходка моя их насмешила, и они были так деликатны, что, нисколько не обижаясь на мои слова, старались меня же утешить.
Девять лет спустя, когда из Петровского завода нас перевели на поселение, и мы остановились проездом в Иркутске, Наквасины пригласили меня со всей моей семьей обедать. Они были совсем уже другие люди, говорили по-французски, а я уже по-русски могла выражаться, и они высказали, что обязаны не кому другому, как мне, своей цивилизацией, что со времени моего пребывания в их доме им многое сделалось понятным, и с гордостью показывали мне свое белье, которое, действительно, было превосходное: все из лучшего батиста и полотна.
Наконец Цейдлер решился выпустить меня из Иркутска: 28 февраля 1828 года я получила бумаги, без которых выехать не могла. Конечно, после этого я стала немедленно собираться в дорогу. Тогда только мне сделалось известным, что я должна ехать в Читу. Наквасины предупредили меня, что там ничего нельзя будет достать. Тогда я закупила в Иркутске всякой провизии, посуды, одним словом, что только могла взять с собою. Особенно старалась захватить вина побольше, зная, насколько пребывание в крепости до отсылки в Сибирь изнурило всех и расстроило здоровье как Ивана Александровича Анненкова, так и других.
Людей, которые провожали меня, я не имела права везти далее. Из Петербурга было распоряжение оставлять их в Иркутске или отправлять обратно. Но Андрей бросился к моим ногам, со слезами просил взять его с собою и уверял, что он желает видеть своего барина и служить ему. Я поддалась его уверениям, хотя не любила его и знала некоторые его проделки еще в доме Анны Ивановны Анненковой, которые мне очень не нравились. Но он так упрашивал меня, что я наконец уступила просьбам и решилась оставить при себе, а Степана отправила обратно в Москву.
Глава тринадцатая
Отъезд из Иркутска – Обыск – Переправа через Байкал – Задержка в Верхнеудинске – Буряты – Встреча с тайшею
Выехала я из Иркутска 29 февраля 1828 года, довольно поздно вечером, чтобы на рассвете переехать через Байкал. Наквасины выехали далеко за город проводить меня. Губернатор заранее предупреждал, что перед отъездом вещи мои все будут осматривать, и когда узнал, что со мною есть ружье, то советовал его запрятать подальше. Но, главное, со мною было довольно много денег (2 тыс. руб.), о которых я, понятно, молчала. Тогда мне пришло в голову зашить деньги в черную тафту и спрятать в волосы, чему весьма способствовали тогдашние прически. Часы и цепочку я положила за образа так, что когда явились три чиновника, все в крестах, осматривать мои вещи, то они ничего не нашли.
К Байкалу подъезжают по берегу реки Ангары. Эта река, замечательная по своему необыкновенно быстрому течению, вследствие чего она зимой не замерзает, по крайней мере до января месяца. Около Иркутска Ангара очень широка, но в том месте, где она вытекает из Байкала, она течет очень узко, между двух крутых берегов. Все это было для меня так ново, так необыкновенно, что я забывала совершенно все неудобства зимнего путешествия и с нетерпением ожидала увидеть Байкал, это святое море, которое наконец открылось перед нами, представляя необыкновенно величественную картину, несмотря на то, что все было покрыто льдом и снегами. Признаюсь, что я с не совсем покойным чувством ожидала переезда через грозное озеро, так как мне объяснили, что на льду образуются часто трещины, очень широкие, и хотя лошади приучены их перескакивать и ямщики запасаются досками, из которых устраивают что-то вроде мостика через трещину, но все-таки переезды эти сопряжены с большой опасностью. На мое счастье, мы не встретили ни одной трещины и переехали Байкал с невероятною быстротою и остановились отдохнуть в Посольске, где находится монастырь.
В Верхнеудинске меня задержали, несмотря на то, что я привезла письмо к казачьему атаману от Цейдлера. Но утром проехал генерал-губернатор иркутский Лавинский и забрал всех лошадей, так что мне пришлось прождать весь день, что меня очень огорчило. (Я остановилась у купцов и весь день проплакала. Меня угощали, я ничего не принимала. Они были так дики, что вывели заключение, что я пьяна, и рассказывали об этом Н. Д. Фонвизиной.) Тут я провела несколько очень приятных часов в семействе Александра Николаевича Муравьева, который был сослан на службу в Сибирь, а впоследствии, в начале 1860-х годов, был губернатором в Нижнем Новгороде.
От Верхнеудинска до Читы 700 верст. Я с трудом подвигалась даже в своих легких повозках, так как снегу было очень мало, и мы ехали буквально по мерзлой земле. В Восточной Сибири никогда не бывает глубоких снегов, тогда как в Западной, напротив, выпадает очень много снегу. На всем протяжении от Верхнеудинска до Читы, в то время, как я ехала, почти не было никакого населения. Я встретила только три деревни, остальные станции состояли из бурятских юрт и станционного дома. Бурят вообще я встречала очень много по дороге: они или перекочевывали с многочисленными табунами, состоящими из коров, лошадей и преимущественно баранов, которыми они и питаются, или, раскинув свои юрты, отдыхали. Из этих юрт постоянно показывались совершенно голые ребятишки, несмотря на сильнейший мороз; нередко показывались с куском бараньего сала в руках, который они с наслаждением сосали. Я с любопытством смотрела на этих дикарей самого кроткого, миролюбивого нрава. Местами, где по дороге не было совершенно снегу, и лошади не в силах были стащить экипажи мои, нагруженные множеством разных вещей, буряты являлись нам на помощь со своими лошадьми и ничего не хотели брать за оказанные услуги. Если их ребятишки были совершенно голые, то женщины по костюму нисколько не отличались от мужчин: они все носили платье одного покроя, сшитое из овчин, и только волосы у женщин были заплетены в мелкие косички, украшенные кораллами, называемыми ими моржанами.
Когда мы подъехали к Яблоновому хребту, была совершенная ночь, и ямщики отказались продолжать путь. Но верное мое средство – «на водку» – помогло и здесь. Мы тронулись, но с большим трудом стали подыматься в гору, которая была страшной высоты. Далее мне объявили, что на полозьях ехать невозможно, и я вынуждена была остановиться, чтоб поставить экипажи мои на колеса.
В то время как я взошла на станцию, в комнате было совершенно темно, так что трудно было различить что-нибудь, но мне показалось, что тут кто-то был до меня и при моем появлении исчез за перегородку, затворив дверь и задвинув задвижку. Это меня так напугало, что я не могла заснуть, приказала Андрею достать свечи, которые были с нами, и просидела всю ночь на лавочке, прислонившись к стене. Когда начало светать, я позвала Андрея и велела подать чай. Тогда из-за перегородки вышел ко мне молодой человек, наружность которого и костюм поразили меня. Высокого роста, стройный, очень красивый, он мне вежливо и чрезвычайно ловко поклонился, хотя совсем не по-европейски. Лицо его, хотя совершенно азиатское, выражало очень много кротости, одет он был очень изящно, и чрезвычайно богато: на нем был халат азиатского покроя из голубой камфы, затканный шелком с серебром и обшитый бобровым мехом. Голова была обрита кругом, и коса, как носят китайцы. В руках бурятская шапка, тоже обшитая великолепным бобром. Это был тайша, бурятский князь, начальник этих инородцев.
Я предложила ему выпить со мною чаю, и он с видимым удовольствием принял мое предложение, но едва докончил чашку, как вышел из комнаты поспешно, даже не поклонившись мне. В окно я видела, как ему подали повозку с тройкою самых бойких и необыкновенно красивых лошадей. Он только успел сесть, как лошади помчались с быстротой молнии. Не прошло и получаса, как он уже вернулся с толмачом своим (переводчиком), через которого расспрашивал меня, кто я такая, куда еду, зачем, и когда человек мой удовлетворил его любопытство и сказал, что я еду к Анненкову, который в Читинском остроге, он был крайне удивлен, очень задумался, потом просил передать, что глубоко уважает меня и желает мне всех благ. Мы расстались. Я села в одну из повозок, а другую, так как она еще не была готова, оставила с казаком и кухаркой, которую везла из Иркутска.
До Читы оставалась только одна станция, и сердце во мне все сильнее и сильнее билось по мере того, как я приближалась к цели моего путешествия.
Глава четырнадцатая
Приезд в Читу – Знакомство с А. Г. Муравьевой – Первое разочарование – Благородство Лекарского – Подписка жен декабристов – В ожидании встречи – Грубость караульного – Радость первого свидания
Чита стоит на горе, так что я увидела ее издалека, к тому же бурят, который вез меня, показал мне пальцем, как только Чита открылась нашим глазам. Это сметливые люди: они уже успели приглядеться к нашим дамам, которые туда ехали, одна за другою. Чита ныне (1861 г.) уездный город. Тогда это была маленькая деревня, состоявшая из восемнадцати только домов. Тут был какой-то старый острог, куда первоначально и поместили декабристов.
Мы переехали маленькую речку и въехали в улицу, в конце которой и стоял этот острог. Недалеко от острога был дом с балконом, а на балконе стояла дама. Заметя повозку мою, она стала подавать знаки, чтобы я остановилась, и стала настаивать, чтобы я зашла к ней, говоря, что квартира, которую для меня приготовили, еще далеко, и что там может быть холодно. Я приняла приглашение и таким образом познакомилась с Александрой Григорьевной Муравьевой. Это была чрезвычайно милая женщина, молодая, красивая, симпатичная, но ужасно раздражительная. Пылкая от природы, восприимчивая, она слишком все принимала к сердцу, с трудом выносила и свое, и общее положение, и скоро сошла в могилу, оставя по себе самую светлую память.
В Читу я спешила приехать к 5 марта – день рождения Ивана Александровича – и мечтала, что тотчас же по приезде увижу его. На последней станции я даже принарядилась, но Муравьева разочаровала меня, объяснив, что не так легко видеть заключенных, как я думала. Потом она расплакалась и сказала мне, что я, должно быть, очень добрая, потому что привезла с собою собачку, а она оставила свою.
Когда твоему отцу сказали, что я приехала, он сидел за обедом. У него ложка выпала из рук, и он едва не упал.
В начале их пребывания в Читинском остроге, потом в Петровской тюрьме соблюдались большие строгости, всегда, правда, смягченные справедливым, благородным и великодушным характером коменданта Лепарского, который относился к нам, особенно к дамам, с полнейшим снисхождением, а мы часто употребляли во зло его деликатность и высказывали ему иногда очень неприятные вещи, когда находили какое-нибудь распоряжение несправедливым. Добрый старик с величайшим терпением выслушивал нас и старался успокоить. А как много зависела от него наша жизнь! Тихая и покойная, она могла сделаться невыносимою при других отношениях Лепарского к заключенным. Но он умел согласовать исполнение своего долга, своих обязанностей с такой деликатностью, что не давал никому чувствовать тяжелого положения, в каком мы находились, щадил всегда самолюбие, а с дамами обходился, как самый нежный отец. Но все это мы поняли позднее и позднее оценили старика, а в ту пору, когда я приехала, дамы относились к нему с сильным предубеждением и называли «сторожем».
Все правила, которым мы должны были подчиняться тогда, я узнала от Александры Григорьевны Муравьевой и от Елизаветы Петровны Нарышкиной, которая тогда жила с Муравьевой. Нарышкина (рожденная Коновницына) была не так привлекательна, как Муравьева. Нарышкина казалась очень надменной и с первого раза производила неприятное впечатление, даже отталкивала от себя, но зато, когда вы сближались с этой женщиной, невозможно было оторваться от нее, она приковывала всех к себе своею беспредельною добротою и необыкновенным благородством характера.
Комендант Лепарский сейчас же высказал свою заботливость, которою неутомимо окружал нас во все время своего начальства, прислав сказать мне, что квартира моя готова, и на другой день пришел ко мне и сам, прочел разные бумаги, официальный смысл которых я не могла усвоить, но поняла, что мы не должны ни с кем сообщаться, никого не принимать к себе и никуда не ходить, а главное, запрещалось передавать в острог вино и что бы то ни было из спиртных напитков. Тогда я сказала коменданту, что готова подчиниться всем правилам, но что насчет вина он подал мне прекрасную мысль – употреблять его в кушаньях, какие я, как француженка, умею приготовить. Это очень насмешило старика, хотя он уверял меня, что и в кушаньях запрещено употреблять вино. Наконец я сказала ему, что желаю видеть Ивана Александровича, что не напрасно же я приехала за шесть тысяч верст. Он объяснил, что сделает распоряжение, чтобы привели мне его. В то время без особенного распоряжения коменданта не приводили мужей к женам, и чтобы выпросить такое разрешение, надо было представить важную причину.
Вот подписки, которые давали дамы по приезде своем в Читу:
Я, нижеподписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, государственного преступника NN, Верховным уголовным судом сужденного, и жить в том заводском, рудничном или другом каком селении, где он содержаться будет, если то дозволится от коменданта Нерчинских рудников г. генерал-майора и кавалера Лепарского, обязуюсь по моей чистой совести соблюсти нижеписанные, предложенные мне им, г. комендантом, статьи; в противном же случае и за малейшее отступление от постановленных на то правил подвергаю я себя законному осуждению.
Статьи сии моей обязанности суть следующие:
1. Желая разделить (как выше изъяснено) участь моего мужа, государственного преступника, и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна я отнюдь искать свидания с ним никакими происками и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то от г. коменданта дозволению и токмо в назначенные для того дни, и не чаще как через два дня на третий.
2. Не должна доставлять ему (мужу) никаких вещей, денег, бумаги, чернил, карандашей, без ведома г. коменданта или офицера, под присмотром коего будет находиться муж мой.
3. Равным образом, не должна я принимать и от него никаких вещей, особливо же писем, записок и никаких бумаг для отсылки их к тем лицам, кому оные будут адресованы или посылаемы.
4. Не должна я ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было моих писем, записок и других бумаг иначе как токмо через г. коменданта. Равно, если от кого мне или мужу моему через родных или посторонних людей будут присланы письма и прочее, измененное в сем и 3-м пункте, должна я их ему же, г. коменданту, при получении объявлять, если оные не через него будут мне доставлены.
5. То же самое обещаюсь наблюсти и касательно присылки мне и мужу моему вещей, какие бы они ни были, равно и деньги.
6. Из числа вещей моих, при мне находящихся и которым регистр имеется у г. коменданта, я не вправе без ведома его продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же моим собственным, оставленным для нужд моих теперь, равно и вперед от коменданта мне доставленным, я обязуюсь вести приходно-расходную книгу и в оную записывать все свои издержки, сохраняя между тем сию книгу в целости; в случае же востребования ее г-м комендантом, оную ему немедленно представлять. Если же окажутся вещи излишние против находящегося у г-на коменданта регистру, которые были мною скрыты, в таком случае как за противо (сего) учиненный поступок подвергаюсь я законному суждению.
7. Также не должна я никогда мужу моему присылать никаких хмельных напитков, как то: водки, вина, пива, меду, кроме съестных припасов; да и сии доставлять ему через старшего караульного унтер-офицера, а не через людей моих, коим воспрещено личное свидание с мужем моим.
8. Обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера; не говорить с ним ничего излишнего, и паче чего-либо не принадлежащего, вообще же иметь с им дозволенный разговор на одном русском языке.
9. Не должна я нанимать себе никаких иных слуг или работников, а довольствоваться только послугами приставленных мне одного мужчины и одной женщины, за которых также ответствую, что они не будут иметь никакого сношения с моим мужем и вообще за их поведение.
10. Наконец, давши таковое обязательство, не должна я сама никуда отлучаться от места того, где пребывание мое будет назначено, равно и посылать куда-либо слуг моих по произволу моему, без ведома г-на коменданта или, в случае отбытия его, без ведома старшего офицера.
В выполнении сего вышеизъясненного в точности под сим подписуюсь. Читинский острог. 1828 года.Копию сверял плац-адъютант штаб-ротмистр Казимирский.
После того как ушел от меня Лепарский, часа через два провели мимо моих окон несколько молодых людей, окруженных солдатами, но на этот раз без оков, так как они шли в баню. На возвратном пути один из них отстал от солдат и, подойдя к моему окну, в котором я открыла форточку, проговорил торопливо, что скоро поведут Ивана Александровича Анненкова. Тогда я поставила на крыльцо человека, с приказанием предупредить меня, как только он увидит своего барина, а сама превратилась вся в ожидание.








