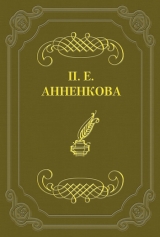
Текст книги "Воспоминания (СИ)"
Автор книги: Прасковья Анненкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Я услыхала звон колокольчиков и свист ямщиков. Не будучи в состоянии отдать себе отчета в том, что так поразило меня, я упала на диван в каком-то мучительном предчувствии. В это самое время вбежала ко мне жена Виктора Васильевича и старалась объяснить (она не говорила по-французски), что Ивана Александровича увезли. Я не могла прийти в себя и думала, что она говорит, что скоро увезут его, но она в отчаянии повторяла, что уже увезли. Этой женщине было предложено мною 2 тысячи рублей вознаграждения, если только она предупредит меня заранее, когда должны будут увезти Ивана Александровича. Понятно, что, не успев этого сделать, она приходила в отчаяние. Наконец, после больших усилий, я поняла, что говорят мне, и узнала от нее, что не успела я выйти из крепости, как приехало несколько повозок с фельдъегерем и жандармами, потом вывели узников, закованных в цепи, в числе которых был Иван Александрович, посадили их в повозки и помчались.
Это были первые из осужденных второй категории декабристов, которых увозили в Сибирь. Ранее, до коронации, но тотчас после сентенции, в июле 1826 года, было отправлено восемь человек: князь Трубецкой, князь Волконский, князь Оболенский, Василий Давыдов, два брата Борисовых, Артамон Муравьев и Якубович. По первому зимнему пути были отправлены Никита и Александр Муравьевы, Торсон-моряк и Иван Александрович Анненков. Потом уже одних за другими отправляли и остальных. Тогда носились слухи, что Муравьевых и Анненкова не без причины поспешили отправить, а именно потому, что мать Муравьевых, Екатерина Федоровна, которая безумно любила сыновей своих, потом жена одного из них, Никиты, Александра Григорьевна, рожденная графиня Чернышева, и наконец, я – были самые беспокойные, самые смелые. Мы всем из властей в С.-Петербурге решительно надоели, и от нас не знали, как отделаться.
Когда я наконец сознала всю истину, слушая жену Виктора Васильевича, я потеряла голову и не могла положительно сообразить, что мне делать. Всего ужаснее была мысль, что могли увезти осужденных не в Сибирь, а в одну из крепостей, и там оставить их, если не навсегда, то надолго. Я знала, что всего более их пугала возможность оставаться в крепости, и все они смотрели, как на большое облегчение их участи, если их сошлют в Сибирь. Сама я вполне разделяла их страхи и опасения и в эту минуту сгорала желанием и нетерпением узнать, куда их увезли.
Тогда я вспомнила, что Николай Николаевич Анненков, которого раньше не было в Петербурге, должен был вернуться в это время. Он был адъютантом при великом князе Михаиле Павловиче. Я послала за извозчиком и приказала везти себя во дворец. Приходилось делать большой объезд, чтобы переехать Неву в том месте, где уже встал лед, это, кажется, было около Смольного. Хозяйка квартиры уговаривала меня подождать до утра и убеждала, что мне необходимо одеться, но я отвечала, что она с ума сошла, что я одета очень хорошо, позабыв совершенно и не сознавая, что на мне был надет старый халат Ивана Александровича, который я очень любила, но в котором, конечно, невозможно было показаться во дворец. Хозяйка, испугавшись, видя меня в таком состоянии, более не противоречила, и через час (то было еще раннее утро, часов восемь) я была во дворце великого князя. Там в мужском халате вбежала я в ярко освещенный зал, где в то время находился Николай Николаевич Анненков и множество военных. Он бросился ко мне навстречу, обнял и увлек в другую комнату, стараясь успокоить (потом он говорил, что был уверен в эту минуту, что я помешалась). Я умоляла сказать, куда могли увезти Ивана Александровича – в Сибирь или в крепость. Он уверял, что не знает, но дал слово известить меня и, действительно, через час, не позже, после того, как я уехала от него, дал знать, что увезли в Сибирь. Я осталась глубоко благодарна Николаю Николаевичу за участие, которое он оказал мне в эту ужасную для меня минуту.
От него я поехала к Титову, и как только получила известие, что Иван Александрович отправлен в Сибирь, так просила Титова послать за лошадьми, и мы тотчас же поскакали с ним на первую станцию, но, как и надо было ожидать, никого уже там не застали (К. Ф. Муравьева и невестка ее, Александра Григорьевна, рожденная гр. Чернышева, виделись со своими на первой станции). Титов спросил почтовую книгу, там была записана только фамилия фельдъегеря Желдыбина и города: Омск, Красноярск, Иркутск.
(Да, вот еще. Недалеко от Вятки отец твой встретил почтальона, молодого мальчика, лет 19, просил его зайти ко мне в Москве, сказать, что он видел его здоровым. Я дала почтальону 25 рублей.)
Фельдъегерь Желдыбин был ужасный человек. Он обходился жестоко с теми, кого вез, не давал им ни есть, ни отдохнуть, бил ямщиков и загонял несколько лошадей. И все это для того, чтобы успеть доскакать с одними до места назначения, кажется, до Иркутска, и вернуться за другими: так соблазнительны были для этого изверга прогоны и разные сбережения от сданных на его руки арестантов. Как ни был смел его расчет, однако же, удался. Позднее Иван Иванович Пущин был отправлен с этим самым фельдъегерем. Так он, когда вез Пущина, так избил ямщика своей саблей, что ямщик вскоре умер. Он за это был под судом.
Мало, что этот зверь Желдыбин заставлял беспощадно мчаться первые жертвы свои, но он еще чуть не заморозил всех. Никто из них не имел шубы. Иван Александрович был в офицерской шинели, между тем морозы стояли жестокие, и у него руки, и особенно ноги, закованные в железо, распухли страшным образом. А главное, с ним не было денег, так что на одной из станций он отдал свой носовой платок женщине, которая накормила его. (Фельдъегерь нигде не кормил их, только в Вятке губернатор велел накормить, и дали порядочный обед.)
Впрочем, Муравьевым, которых ждали на первой станции мать их, Екатерина Федоровна, и жена Никиты, Александра Григорьевна, было передано много денег, и они при первой возможности, когда только можно было запастись теплым платьем и всем необходимым, делились со своими товарищами. Екатерина Федоровна задарила также и Желдыбина, но и это не помогло. Он до самого Омска мчался, не обращая внимания на то, что его упрашивали остановиться где-нибудь, чтобы купить еще теплого платья. Только в Омске удалось им это сделать. Тут был Степан Михайлович Семенов, участвовавший также в их обществе, но переведенный в Омск на службу. Семенов купил им сибирские шубы-дохи. Тут их накормили очень хорошо и наделили запасами провизии на дорогу.
Глава восьмая
«Соединиться или умереть» – Встреча в дилижансе – Равнодушие Анны Ивановны к судьбе сына – Неудача с паспортом – Интриги родственников – История с шестьюдесятью тысячами – Костюмированный бал – Решение обратиться к императору
Вернувшись домой, после напрасной поездки на станцию, я тотчас же взяла билет в дилижанс и на другой день выехала. Перед отъездом, однако ж, успела получить через одного из солдат в крепости записку от Ивана Александровича, в которой было сказано: «Соединиться или умереть».
В дилижансе со мною ехал полковник Глазенап и кавалергардский офицер. Они говорили по-французски и все время о том, что происходило 14 декабря. Я с любопытством слушала их. Полковник спросил, много ли было кавалергардов, замешанных в этой истории. Кавалергард отвечал, что довольно, но что более всего они сожалеют об Анненкове, которого очень любили в полку. При этом я не могла выдержать более и зарыдала. Это их очень удивило и заинтересовало, как видно, потому что, когда мы встретились на следующей станции с знакомыми мне французами, они тотчас же спросили их, кто я такая. После этого были очень любезны со мной и предупредительны, оказывали мне разные маленькие услуги. На одной из станций, где был большой зал, кавалергард сказал мне, что тут недавно Анненков давал им великолепный обед, где много было выпито шампанского…
Вернувшись в Москву, я прямо поехала в дом Анны Ивановны Анненковой. Она уже знала, что сын ее отправлен в Сибирь, казалась опечаленною, даже плакала, но не предавалась горю. Напротив, еще утешала меня и всячески старалась рассеять мои мрачные мысли, но, несмотря на все ее старания, я ни на минуту не могла забыть, что Ивана Александровича везут закованного в Сибирь. В это время воображение мое следовало за ним и рисовало самые ужасные картины. Я впала в болезненное состояние, лишилась совершенно сна и аппетита. У меня оставалось только одно желание, одна мысль, на которой я вся и сосредоточилась, это ехать в Сибирь во что бы то ни стало. А Анна Ивановна все меня отговаривала. То путала Сибирью, представляя все ужасы страны дикой, холодной, уверяя, что я не в состоянии буду ни преодолеть все трудности такого дальнего путешествия, ни вынести всех лишений, какие меня там ожидают; то утешала меня тем, что сын ее не может долго оставаться в ссылке, и уверяла, что он должен возвратиться не позднее, как через два года.
(Тогда никто не понимал еще колоссального деспотизма Николая, все ожидали, что он еще опомнится, что он это только так – захотел попугать, пошутить. Но Николай шутил шутки нехорошие, как узнали потом.) Тогда все родственники сосланных питали надежду, что ссылка не будет продолжительной. Известно уже, как они ошиблись: декабристы пробыли в Сибири 30 лет, вплоть до восшествия на престол незабвенного Александра II Освободителя.
Хотя я невольно поддавалась уверениям как Анны Ивановны, так и многих других, что Иван Александрович пробудет в ссылке не более двух лет, однако ж решила все-таки ехать в Сибирь и обратилась к Шульгину, московскому обер-полицеймейстеру, который бывал часто у Анны Ивановны, с просьбою выдать мне паспорт. На мои расспросы, – как ехать и могу ли я это сделать беспрепятственно, – Шульгин отвечал, что, конечно, задерживать меня никто не имеет права и что до Иркутска я, наверное, доеду свободно, но что он не ручается, пустят ли меня далее. Тогда я решила добраться хотя бы до Иркутска и там до времени оставаться. Конечно, я не могла себе представить, какое расстояние отделяло бы меня еще от Ивана Александровича, и воображала, что таким образом я во всяком случае буду к нему ближе. Шульгин был так любезен, что через несколько дней привез мне паспорт, но вскоре явился за ним и просил возвратить ему, говоря, что было получено из Петербурга приказание не пускать меня в Сибирь. Приказ был прислан из собственной его величества канцелярии, что заставляло думать, что тут был сделан какой-нибудь донос. Когда Шульгин остановил меня, я уже успела все приготовить к отъезду, и даже экипаж был куплен, но препятствие являлось непреодолимым, и приходилось уступить необходимости.
Горе и отчаяние овладели мною. Я не в силах была более владеть собой и слегла в постель. От сильной потери крови сделался такой упадок сил, что я не могла подняться с постели без того, чтобы не упасть в обморок, пока наконец молодость и громадный запас здоровья не взяли верх. Болезнь уступила лечению, и я стала поправляться, хотя очень медленно. Как только я почувствовала, что силы возвращаются, так сейчас же стала придумывать, как устроить свои дела. Мысль ехать в Сибирь не оставляла меня, это сделалось положительно моею idee fixe, но после явившегося препятствия мне невозможно было двинуться иначе, как выхлопотав высочайшее разрешение на поездку в Сибирь. Я сознавала, что для этого было только одно средство: обратиться к милости самого государя, но в то же время знала, что очень трудно, почти невозможно дойти до него. В то время все боялись напомнить императору Николаю Павловичу чем бы то ни было о декабрьской истории и о тех, кто участвовал в ней.
Положение мое в эту минуту было невыносимое. Я удивлялась тогда, и позднее мне несколько раз приходилось задумываться над тем, зачем и для чего люди так много друг другу делают зла. Как объяснить, что заставляло всех в то время так сильно восставать против моего желания, в сущности, очень естественного и никому решительно не приносившего ни малейшего ущерба ни в чем, – ехать в Сибирь. Я еще понимала, что те, которые имели право унаследовать состояние Ивана Александровича Анненкова, после того как он считался политически умершим, могли желать, чтобы я не следовала за ним, но надо отдать им справедливость, что они никогда не восставали против моих намерений приехать к нему в Сибирь.
Впрочем, надо объяснить, что здесь я говорю о наследниках со стороны Анненковых, тех именно, которые имели право на состояние после отца Ивана Александровича.
Другое дело те, которые могли претендовать на состояние якобиевское, то есть со стороны его матери. От этих лиц я встретила бездну неприятностей и в особенности от всех, живших тогда в доме Анны Ивановны. Последние положительно интриговали против меня и старались запугать, уверяя, что не только меня не пустят в Сибирь, но, что, если я буду хлопотать об этом, то прикажут выслать за границу. Признаюсь, что более всего я боялась последнего, потому что такая мера должна была разлучить меня навек с тем, кого я так глубоко любила.
Что заставляло меня более всего страдать, так именно то, что сама мать любимого мною человека восставала против моего желания следовать за ее сыном в Сибирь. «Зачем хотите вы ехать, – говорила она мне, – сын мой молод, здоров и легко перенесет свою ссылку, к тому же, поверьте, что он долго не останется. Поверьте, вы гораздо более принесете пользы и ему самому, если останетесь со мною. Вы мне еще нужнее, чем сыну, иначе вы меня бросите совершенно одну. Нет ни одной души из всех окружающих меня, которая была бы ко мне привязана. Когда вы уедете, они отравят меня». (Она всякое утро пила воду святую и заставляла меня прежде пробовать.)
И еще много подобного говорила старуха, в которой эгоизм заглушал голос матери. Впрочем, была доля справедливости в ее эгоистических желаниях. После ссылки сына и моего отъезда разорение ее пошло быстрыми шагами благодаря окружавшим. Но что я могла сделать, чтобы спасти ее? Молодая, неопытная, не имея никакого понятия о русских законах, разве я могла остановить ее разорение? Наконец, я не в состоянии была принести чувства, которые питала к ее несчастному сыну, в жертву каким бы то ни было расчетам. Я думала только о том, что будет с Иваном Александровичем, если я его оставлю.
В это время я узнала, что Наталья Дмитриевна Фонвизина, жена генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина, сосланного по делу 14 декабря, собирается ехать в Сибирь к своему мужу. Тогда я решилась идти к ней и просила дать совет, как действовать. Она находила, что самое будет лучшее обратиться к императрице Александре Федоровне, но мне казалось, что лучше идти прямо к государю. Какой-то тайный, непонятный для меня самой голос руководил мною в эту минуту, и я решила идти, броситься к ногам того, перед которым в то время все трепетали. Однако ж после моего свидания с Фонвизиной я провела еще почти шесть месяцев в страшных колебаниях, все не зная, на что мне решиться. Время шло невыносимо медленно.
Я забыла сказать раньше, что когда Иван Александрович был арестован в декабре 1825 года, то при нем находились те ломбардные билеты, которые он взял с собою, когда мы расставались с ним в Москве. Билетов было на 60 тысяч, и они были отобраны с прочим имуществом его. Все это хранилось в собственной его величества канцелярий. Я знала, что Иван Александрович несколько раз просил графа Бенкендорфа, чтобы билеты эти были переданы мне. Просил и барона Фитингофа, бывшего его эскадронного командира, который бывал у него в крепости, Чтобы он похлопотал об этом. Потом Фитингоф даже предлагал мне свои услуги и хотел просить государя приказать положить эти деньги в банк на мое имя. Но я отказалась от предложения Фитингофа, говоря, что у меня будет к государю гораздо важнее просьба, что я буду просить разрешения императора ехать в Сибирь и потому ни о чем другом не хочу хлопотать, боясь возбудить против себя неудовольствие, а может быть, и гнев государя. Анна Ивановна писала государю и просила его дозволения на передачу 60 тысяч в ее руки. Государь отвечал: «Если у нее есть право на эти деньги, пусть хлопочет».
(Не одна бабушка хлопотала о 60 тысячах. Те, которые считали себя наследниками отца твоего, боялись, что эти деньги ускользнут от них, и добивались забрать в свои руки, однажды утром прислали за мною карету от г-жи Вадковской, двоюродной сестры отца твоего. Я нашла у нее Н. Н. Анненкова. Мне тотчас же бросилось в глаза, что они немного чересчур любезны. Вадковская, после некоторых приготовлений, сказала мне: «Не правда ли, моя дорогая, что ты не захочешь те 60 тыс. рублей, которые мой кузен поручил вам передать?» Я отвечала, что никаких претензии не имею на то, что принадлежит Анненкову, и что, конечно, не буду хлопотать о 60 тысячах. Мы стояли все трое у стола. Когда Н. Н. услыхал мой ответ, то сделал такое самодовольное движение, что оно не ускользнуло от меня. Потом я узнала, что билеты в это время были уже в руках его отца, Николая Никаноровича. Тогда родственники заявили свои права, и деньги были переданы им. Дальше я расскажу в свое время, как милостью государя деньги эти были переведены на мое имя, и на проценты с этого капитала мы и жили все время в Сибири.)
Анна Ивановна объясняла мне свои хлопоты о 60 тысячах рублей тем, что она желала этими деньгами заплатить проценты, накопившиеся на одном из ее имений, потом продать его и вырученные деньги положить на мое имя. Но она умерла, не сделав никаких решительно распоряжений ни в пользу сына, ни в мою. Впрочем, когда спросили ее согласия на то, чтобы 60 тысяч были переведены на мое имя, она не замедлила ответить утвердительно.
Когда я жила у нее, в 1827 году, она более всего хлопотала, чтобы меня рассеять и развлечь. Понятно, что для меня положительно никакое развлечение не было возможно. Я старалась убедить в этом Анну Ивановну и хлопотала отклонить ее от непонятного желания устроить бал, в то время как мы не имели даже известий о ее сыне. Мне казалось это чудовищным. На время о бале замолчали и приостановили приготовления, но потом Анна Ивановна объявила, что бал будет непременно, и назначила его на 6 января 1827 года. Мало того, она пожелала, чтобы бал был костюмированный, и приказала всем, жившим у нее в доме, готовить себе костюмы.
Я уже говорила, что дом Анны Ивановны был наполнен разными приживалками при ней, а также близкими и дальними родственницами. Между ними было много молодых и хорошеньких девушек, они, конечно, были рады потанцевать и нарядиться. Все оживилось снова, начались приготовления, более всего хлопотали выбором костюмов. Анна Ивановна приказала подать себе книги с рисунками из разных опер и балетов, сама пересматривала их, выбирала костюмы, давала советы, но потом вдруг отсылала книги, надувалась и не говорила со мною. Я никак не могла понять, что с ней делалось, и в душе своей думала, что она занимается всем этим только для того, чтобы заглушить тоску о сыне, но что мысли ее так же, как и мои, уносятся далеко. К сожалению, я ошиблась. Те, которые знали ее лучше, чем я, наконец объяснили мне в чем дело: «Мадам сердится потому, что вы не выбираете себе костюма. Вы же видите, что она делает этот бал для вас». Нечего было делать, я скрепя сердце наконец сказала, что наряжусь, как только ей будет угодно.
Тогда она повеселела, приказала снова принести книги и выбрала для меня костюм из оперы «Волшебная Лампа». Костюм был действительно великолепный и очень дорогой, но это не смущало Анну Ивановну. В ее кладовых находилось все, что было нужно и для этого и для всех остальных костюмов. Даже были такие вещи, каких нельзя было найти в то время в магазинах. Мне надели на голову кружевной вуаль, который стоил 14 тысяч франков. В день бала тоска душила меня, я не могла видеть всего, что делалось, и беспрестанно обливалась слезами. Танцевать, понятно, я была не в состоянии. Тогда Анна Ивановна надулась и не говорила со мною весь вечер. Под конец бала я сделала тур вальса и подошла к ней спросить, довольна ли она мною. Она отвечала: «Нет, сударыня, очень недовольна, я желала и просила вас, чтобы вы танцевали весь вечер». Это было слишком, я убежала в свою комнату и залилась слезами. После бала она несколько времени не говорила со мною, потом понемногу успокоилась и снова начала ласкать меня.
Однажды, когда на мне было темное бархатное платье (к ней всегда надо было являться разодетою, как на бал), она нашла, что цвет платья очень шел ко мне, позвала свою Надежду, у которой хранились все ее драгоценности, приказала принести одну из шкатулок с бриллиантами и надела на меня не менее как тысяч на 100 вещей. Это был целый парюр из великолепных камэ, обложенных крупными бриллиантами, даже кушак был такой же. Позднее, когда я рассказывала Ивану Александровичу об этой забаве его матери, у нас с ним уже ничего не было. Мы жили тогда в Чите, около Нерчинска, и нуждались во всем. Он мне сказал шутя: «Ты напрасно не откланялась ей и не ушла со всеми этими бриллиантами».
Между тем мысль ехать в Сибирь не покидала меня. Наступала весна. Наконец в мае месяце узнала я, что император Николай Павлович собирается в Вязьму, где готовились большие маневры. Мне внезапно пришла мысль скакать туда, чтобы подать просьбу государю. В Петербурге в то время подойти к государю было немыслимо, и я рассудила, что в Вязьме он будет доступнее, и не ошиблась.
Мне удалось тогда сделать такое дело, которое все считали невозможным. Но в этом, конечно, я вижу волю Провидения, оно мною и руководило всегда. Когда я сказала Анне Ивановне о своем намерении ехать в Вязьму, она еще с большей настойчивостью стала удерживать меня и, чтобы поколебать, не щадила ничего. Наконец сказала: «Вы не знаете еще моего сына, сударыня, он ревнив. Вы собираетесь ехать туда, где будет 70 тыс. мужчин, и, конечно, он будет сомневаться в вас».
Эти слова привели меня в такое отчаяние, что я убежала в свою комнату и машинально, не зная, что делать, чем успокоить себя, раскрыла книгу, которая лежала на столе. Это было «Подражание Иисусу Христу». Я прочла, не помню что именно, но смысл был такой: дерзай – и достигнешь. Меня так это убедило, что я позвала человека и приказала идти за подорожной в Вязьму. Между тем я послала также за одним французом, m-r Лефевр, и просила его написать мне просьбу на имя государя, что он и сделал тотчас с большою любезностью и, отдавая, сказал: «Я ехал в дилижансе вместе с Шарлоттой Кордэ, когда она направлялась в Париж, чтобы убить Марата». Я отвечала ему, смеясь, что еду в Вязьму вовсе не с этим намерением. На другой же день, а именно 12 мая 1827 года, я выехала из Москвы.
Глава девятая
Вяземские маневры – Беспрестанные тревоги – Содействие Лобанова-Ростовского – Просьба на высочайшее имя – Упражнения великого князя – Решительный день – Полина Гебль и Николай I – Посещение Дибича – Бородинское поле – Встреча со стариком крестьянином
15 мая 1827 года я была уже в Вязьме, несмотря на то, что лошадей было очень трудно доставать, но деньги везде помогают. Я платила сверх прогонов и давала щедро на чай. Таким образом перегоняла беспрестанно полковников и генералов, которые скакали также в Вязьму. Подъехав к самой Вязьме, я вообразила, не знаю почему, что меня не пропустят, и от страха и волнения у меня так сильно билось сердце, что темнело в глазах. Но шлагбаум подняли, и я вздохнула свободнее.
В Вязьме я знала, что была гостиница, которую содержал француз, и велела вести себя прямо туда. Но в гостинице было такое множество военных, и положительно ни одной женщины, что неприятно было оставаться там. Тогда знакомый мой француз предложил мне отдельную квартиру, приготовленную им для французского консула Веера, который почему-то не приехал, и квартира оставалась свободной. Несмотря на то, что она была страшно дорога, и условия были такие, что пробыть день или месяц, все равно надо было заплатить 400 рублей, я все-таки согласилась взять ее, тем более, что квартира эта была в двух шагах от дворца и рядом с тем домом, где помещался великий князь Михаил Павлович.
Как только я немного устроилась в своей квартире, так сейчас же послала за m-r Палю – французом, которого я также знала, когда еще раньше жила в Москве. Он не замедлил явиться, сообщил все, что делалось в это время в Вязьме, и сказал, что m-r Мюллер уже тут. Государь должен был приехать на другой день. Мюллер был метрдотель при покойном государе Александре Павловиче и в то время находился при императоре Николае Павловиче. С ним я встречалась по приезде в Москву на балах, которые давали тогда французы, и просила Палю привести мне его непременно. Палю был прелестный старик, чрезвычайно обязательный, вежливый до тонкости, настоящий француз старых времен. В нем я нашла большую нравственную поддержку, он был для меня самым нежным отцом в те ужасные минуты, которые пришлось мне пережить в Вязьме.
Нелегко было решиться в то время подойти к государю Николаю Павловичу с такою просьбою, какова была моя. К тому же я была так изнурена от душевной тревоги, что едва держалась на ногах. Палю не оставлял меня ни на минуту, и только опираясь на его руку я была в состоянии двигаться. Он привел мне и Мюллера. Тот изумился, когда увидел меня, так я в то время изменилась. Он не хотел верить, чтобы я была та самая, которую он когда-то встречал на балах. Я просила Мюллера посоветовать мне, как и когда будет удобнее подать просьбу государю. Он отвечал, что даст мне ответ через полчаса, и действительно, вскоре после того как вышел от меня, вернулся и сказал, что я должна непременно прежде всего обратиться к князю Алексею Лобанову-Ростовскому, так как он более всех любим государем.
Тогда, поблагодарив Мюллера, мы тотчас же с Палю отправились разыскивать князя Лобанова. Но очень было трудно застать князя дома. Первый раз, когда мы с Палю подошли к дому, где он остановился, нам сказали, что он на маневрах, но меня это не испугало. Немного погодя, когда мы вернулись, отвечали, что он обедает у государя. Таким образом, мы в этот вечер подходили семь раз к его квартире и только в восьмой раз застали его наконец у подъезда, разговаривавшего с крестьянами. Когда он кончил, я подошла. Он просил подождать немного и ушел к себе. Через несколько минут нас позвали, и князь вышел в мундире, тогда как раньше был в военном сюртуке.
На его вопрос, чем он может быть полезен, я отвечала:
– Князь, мне сказали, что я должна обратиться к вам, чтобы узнать, как подать просьбу его императорскому величеству.
– О чем вы просите, сударыня?
– Соблаговолите познакомиться с моею просьбой, князь.
Он пробежал просьбу, но не совсем поняв смысл ее, обратился ко мне со словами:
– Но другие дамы получили ведь разрешение следовать за своими мужьями.
– Да, князь, но они – законные жены. У меня же нет прав на это имя, а за меня говорит только моя любовь к Анненкову, а это чувство, в котором всегда сомневаются.
– Но, сударыня, вы хотите меня заставить верить в будущее.
Потом прибавил он:
– Собственно говоря, сударыня, в вашей стране эти господа были бы приговорены к смерти.
– Да, князь, но у них были бы адвокаты для защиты.
Тогда князь Лобанов-Ростовский посмотрел на меня выразительно; у него были прекрасные черные глаза. Он не прерывал меня, я хотела продолжать и высказать, что во Франции Иван Александрович не был бы осужден так строго, потому что не был взят с оружием в руках и 14 декабря находился в своем полку, который не возмущался, но в это время вошел Строганов, тоже флигель-адъютант. Тогда я поклонилась Лобанову, а он сказал, чтобы я оставила ему просьбу. Мы с Палю вышли, но едва отошли от квартиры князя, как услыхали за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидели князя Лобанова, который, казалось, догонял нас. И действительно, он отдал мне просьбу, говоря, чтобы я прибавила на ней «в собственные руки его величества», и прибавил, чтоб на другой день я была бы непременно с просьбою у подъезда дворца в то время как государь будет садиться в коляску. Наконец посоветовал написать также великому князю Михаилу Павловичу и пробить его ходатайствовать за меня.
Мы с Палю поспешили вернуться домой и принялись немедленно сочинять письмо к великому князю. Вот оно:
«Ваше высочество! Блестящая похвала вашей доброте, известной в моей стране, дала смелость обратиться за помощью к вашему императорскому высочеству. Я умоляю на коленях просить за меня у его императорского величества исполнить просьбу, которая будет подана его величеству. В ней я прошу разрешения следовать в ссылку за государственным преступником и нам обвенчаться с ним, чтобы навсегда соединить свою судьбу с его судьбой и никогда с ним не разлучаться. Я льщу себя надеждой, что вы не оставите несчастную мать, которая вот уже девятнадцать месяцев не имела минуты покоя и у которой нет никаких надежд, кроме надежды на милость его величества и на доброту вашего императорского высочества. Я отказываюсь от родины и буду свято исполнять все, что закон мне предпишет. Анненков обещал жениться на мне. Он не имел возможности исполнить свое обещание, и я не сомневаюсь, что он не изменил своему намерению. Его величеству стоит только приказать, и я буду ждать с величайшей покорностью. Ваше высочество, простите смелость вашей покорной просительницы и не откажите сочувственно отнестись к ее просьбе. Глубоко вас уважающая и преданная слуга вашего императорского высочества».
Письмо это было мною отправлено с человеком к Николаю Николаевичу Анненкову, адъютанту великого князя, с просьбой передать его высочеству, что Николай Николаевич не замедлил сделать, как пришел мне сказать человек, которого я посылала. В это время я подошла к окну и увидала, что великий князь садился в коляску с Лобановым, чтобы ехать к государю. Князь Лобанов говорил что-то с оживлением, а великий князь, казалось, внимательно слушал его. У меня нервы так были расстроены и напряжены, что мне показалось, что они говорят обо мне. Эта мысль так меня встревожила, что я вскрикнула вслух, несмотря на то, что была одна в комнате: «Это они говорят обо мне». Человек прибежал на мой крик и спрашивал, что со мной, но я сама не знала, что со мною делается.
Через час Палю пришел за мной, и мы пошли с ним к дворцу приискивать место, где встать, так как на другой день я должна была подать просьбу государю. Перед дворцом была такая толпа, что мы с трудом могли пробраться к подъезду. Едва остановились мы, как я увидела на балконе Лобанова с великим князем. На этот раз я не ошиблась, что Лобанов говорил обо мне, потому что он с балкона показывал на нас. Услышав в то же время за собой какой-то шум, я обернулась и увидала верхом жандармского генерала. Это был граф Бенкендорф. Он горячился и, опять-таки указывая на нас, подозвал к себе квартального, который тотчас же подошел. В эту минуту я жестоко струсила: мне представилось, что меня приказывают схватить и отправить за границу. Я до такой степени растерялась, что совершенно бессознательно сняла с себя часы, деньги и отдала все это человеку моему, который очутился тут, следуя за нами, конечно, из любопытства.








