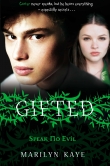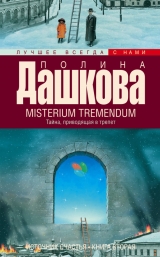
Текст книги "Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Она включила камеру. На двух из пяти кадров ей удалось запечатлеть Радела, анфас и в профиль. Он заметил, лицо его мгновенно изменилось, налилось кровью, губы сжались, зрачки сузились до точек. Соне показалось, он не просто ударит ее сейчас. Он ее убьет.
– Тебе нехорошо? – сочувственно спросила она.
– Дай я посмотрю, что получилось, – он протянул руку, чтобы отнять у нее мобильник.
– Да, конечно, я покажу, если тебе интересно, правда, я никудышный фотограф, но собор такой красивый, я должна послать маме, она очень любит готику. – Соня ловко отскочила, спряталась за спину какой-то толстой фрау, успела очень быстро отправить снимки на номер Зубова.
Толстая фрау остановилась и прикуривала на ветру. Она сыграла роль защитного щита. Радел не мог ее обойти, не задев, не толкнув, а привлекать внимание посторонних он явно не собирался. Соня сохранила снимки в специальном файле и отключила телефон. Фрау наконец прикурила и двинулась вперед. Соня оказалась лицом к лицу с Раделом. Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки.
– Можно я посмотрю, как получился собор в твоем аппарате? – спросил он спокойно и вежливо.
– Ужасно, – сказала Соня и покачала головой, – ничего вообще не получилось. У меня села батарейка.
* * *
Москва, 2007
«А ведь я никогда не верил в интуицию, – подумал Иван Анатольевич Зубов, разглядывая картинки, присланные Соней, – никогда не верил, особенно в чужую».
Он сидел в квартире на Брестской, у ног его тихо порыкивал и ворчал черный пудель. Пуделя звали Адам. Он не любил Зубова. Всякий раз, когда Иван Анатольевич являлся сюда, Адам поднимал хриплый возмущенный лай и потом не отходил от гостя ни на секунду, следил за ним воспаленным слезящимся глазом, словно опасался, что он стащит что-то или обидит обожаемого хозяина.
Кто из них был старше, хозяин или пес, неизвестно. Оба давно пережили все возможные сроки человеческой и собачьей жизни. У хозяина были парализованы ноги. Пес тяжело волочил задние лапы, но еще кое-как ковылял по квартире. На прогулку его выносил на руках дважды в день капитан ФСБ, служивший постоянной сиделкой при хозяине.
– Ну! – произнес хозяин, хмуро глядя на Зубова. – Покажи, что она прислала.
– Подожди, я перегоню в компьютер, на большой экран.
– Перегонишь потом. Покажи.
– Слишком мелко. Потерпи несколько минут.
– Ничего, у меня отличное зрение. – Старик улыбнулся, оскалил голубоватые фарфоровые зубы. – Это я заставил тебя позвонить ей. Ты не хотел. Ты глупый и бесчувственный чекушник. Дай мне телефон сию минуту.
Снизу послышался грозный рык. Адам готов был вцепиться подозрительному гостю в ногу.
– Адам тебя укусит, и правильно сделает, – сказал хозяин.
Зубов тяжело вздохнул и протянул старику телефон.
– Смотри, ничего не нажимай, а то нечаянно сотрешь снимки, – предупредил он.
– Без тебя разберусь, – старик близко поднес к глазам маленький экранчик, долго разглядывал, хмурился, жевал губами.
– Все? Налюбовался? – спросил Зубов.
Старик, не обращая на него внимания, принялся быстро нажимать кнопки на мобильнике.
– Что ты делаешь? Прекрати! Это мой телефон! – Зубов вскочил, подошел к старику, встал так, чтобы видеть экран.
«Не выходи из дома. Не ходи в лабораторию!» – прочитал он послание, которое старик отправил Соне.
– Зачем ты ее пугаешь? Что значит – не выходи из дома? Она сейчас в Мюнхене. Сначала ей надо до дома доехать.
– Она доедет. Но потом ей выходить нельзя. А ты, чекушник, срочно лети к ней.
– Я и так лечу завтра.
– Лети и забирай ее в Москву!
– Почему?
– Слушай, что я говорю! Забирай!
– Да в чем дело? Ты можешь объяснить по-человечески? – рассердился Зубов.
– Звони Петру. Пусть он приедет. Объяснять дважды, сначала тебе, потом ему, у меня нет сил.
* * *
Москва, 1918
Таня и Михаил Владимирович шли пешком, по знакомым, но теперь совершенно чужим улицам, мимо длинных мрачных очередей, разбитых домов. Под ногами шуршали листовки, клочья газет, подсолнечная шелуха.
– Я правда был похож на сумасшедшего? – тихо спросил Михаил Владимирович.
– Ну, конечно, я слегка преувеличила. – Таня улыбнулась и взяла отца под руку. – Просто ты, папочка, последняя моя надежда, возможно, на всю Россию ты сейчас единственный здравомыслящий человек, и когда у тебя лихорадочно блестят глаза, дрожат руки, срывается голос, мне страшно, земля уходит из-под ног. Ну их к черту, этих тварей. Ой! – Таня вдруг резко качнулась, нога провалилась в открытый люк канализации.
Михаил Владимирович едва успел удержать ее.
– Папа! Подожди, у меня каблук оторвался.
Она стояла на одной ноге, опираясь на отцовскую руку, смотрела на старый, залатанный ботинок. На месте каблука торчали гвозди.
– Беда, – Михаил Владимирович покачал головой, – других ботинок у тебя нет.
– Буду ходить босиком. Вполне в духе времени. – Таня заковыляла, опираясь на его руку.
– Что-нибудь придумаем, – сказал Михаил Владимирович. – У фельдшера Сысоева двоюродный брат служит в Чеквалапе.
– Где?
– Есть такая Чрезвычайная комиссия по заготовке и распределению валенок и лаптей. Чеквалап. Очень серьезная организация.
Кое-как дошли до госпиталя. Там пожилая санитарка одолжила Тане самодельные чуни, сшитые из рукавов солдатской шинели. Они сваливались с ног, Таня ступила и чуть не упала на грязный пол.
– Подвяжи у щиколоток, – посоветовала санитарка.
Таня оторвала тесемки от старого халата, морщась, стянула узлы на жестких чунях, убрала волосы под косынку. Халат висел на ней мешком. Несколько секунд Михаил Владимирович смотрел на нее и вдруг спросил:
– Интересно, сколько ты сейчас весишь?
– Не знаю. Какая разница? Мне все равно.
«Ей все равно. Еще немного, и у нее начнется дистрофия, – думал Михаил Владимирович во время обхода. – Спит не более пяти часов в сутки. Работает в госпитале. Занятий в университете нет, но она упорно сидит за учебниками, ночами, при ужасном свете. Зрение портит. Почти ничего не ест и при этом кормит Мишу, умудряется нацедить молока для него на целый день. Она не щадит себя совершенно, как будто нарочно сжигает. Почему я с этим мирюсь?»
Палаты были заполнены сыпнотифозными. Они лежали и в коридорах, и в хирургическом отделении. Мест не хватало. Прачечная давно не работала, не было мыла, щелока, горячей воды. Дрова экономили с весны, чтобы как-то обогреваться зимой. Больные лежали в своем белье, в одежде, все это кишело тифозными вшами. Врачи, сестры, сиделки заражались часто. Перед обходами пропитывали рукава и воротники халатов керосином, но это не спасало.
Сыпнотифозные в кризисе, в горячке, становились буйными. Их мучили галлюцинации, они ловили чертиков, метались, вскакивали. За неимением успокоительных их привязывали к кроватям. Больные кричали, выли, пели. В палате стоял такой шум, что невозможно было разговаривать. Чтобы дать указания двум фельдшерицам, Михаил Владимирович вышел с ними в коридор.
– Почему вы не записываете? Надеетесь на свою память? – раздраженно спросил он.
– Так лекарств нет. Чего ж записывать?
Михаил Владимирович отправился к главному врачу. Это был молодой человек по фамилии Смирнов, когда-то окончивший полтора курса на химическом факультете, большевик с долгим партийным стажем. Пять лет царской каторги за плечами. Надежные связи где-то на самом верху, то ли в ЧК, то ли в ЦК.
Из всех кабинетов Смирнов выбрал для себя тот, что когда-то принадлежал Михаилу Владимировичу. Там осталось все, как прежде, только на месте киота с образом Пантелиимона Целителя висели портреты Ленина и Троцкого. Да еще печка стояла новая, жаркая. Смирнов так любил тепло и запах дыма, что подтапливал даже летом, не заботясь об экономии дров.
В кабинете хранилась часть личной библиотеки Михаила Владимировича. Смирнов ничего, кроме газет, не читал, однако книг не отдал, так и пылились они в запертых шкафах.
Одним из первых декретов новой власти «всякое как опубликованное, так и не опубликованное научное, литературное, музыкальное или художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось», было объявлено государственным достоянием. Забрать книги профессор Свешников не мог.
Еще недавно заходить в свой бывший кабинет казалось мучением. Михаил Владимирович избегал встреч со Смирновым. А теперь стало безразлично, кто там сидит за столом, какая подлая физиономия багровеет на фоне зеленой плюшевой шторы. Больных было жалко, они страдали, умирали, и хотелось что-то для них сделать.
Все в больнице знали, что Смирнов торгует больничными продуктами и лекарствами, но никто не смел мешать ему. Одни боялись, считали бесполезным делом обращаться в какие-то вышестоящие инстанции с жалобами, другие были в доле.
Смирнов никогда не здоровался и вид имел надменно-отрешенный, словно постоянно думал о высоких материях, о классовой борьбе и мировой революции и бытовые мелочи его не заботили.
– Слушаю вас, товарищ Свешников.
– Три дня назад в больницу завезли лекарства, инструменты, перевязочные средства и белье, – сказал Михаил Владимирович и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив стола.
– Ну?
– Теперь ничего нет. Я не спрашиваю вас, куда оно все подевалось. Я хочу спросить только, чем мне лечить больных?
– Да будет вам, профессор. – Смирнов скривил в улыбке пухлые красные губы. – Что вам-то до этих вшивых? Угощайтесь! – Он пододвинул к краю стола пачку дорогих французских папирос.
Курить хотелось, но угощаться из этой пачки Михаил Владимирович не стал. Он вытащил из кармана листки серой бумаги, исписанные каракулями сестры-хозяйки, и положил на стол.
– Вот копия накладной. Перечень того, что получила больница. За три дня такое количество морфия, глюкозы, спирта и всего прочего, что здесь перечислено, израсходовать больница не могла. Предупреждаю вас, что сам документ я приложил к письму на имя наркома Семашко.
– Стало быть так? – Смирнов прищурился. – Стало быть, донос на меня настрочили? Не ожидал. Честное слово, не ожидал. Где совесть русского интеллигента? Где ваша офицерская честь? Ну-с, что скажете, ваше благородие, господин бывший царский генерал?
Михаил Владимирович блефовал. Никакого письма не было. Впрочем, он готов был его написать, ради тех, кого товарищ Смирнов называл вшивыми.
– Что скажу? Посоветую как можно скорее вернуть больничный запас медикаментов. Доставайте лекарства, где хотите, выкупайте на собственные средства у барыг, которым вы их продали. Сейчас для вас это единственный способ уцелеть.
Смирнов открыл рот, часто, быстро заморгал, принялся чиркать спичкой. Руки его дрожали, бумажный мундштук прилип к губе. Михаил Владимирович не стал ждать, когда он опомнится и ответит. Встал и вышел.
«Храбрец, молодец, поздравляю, – повторял он про себя, пока шел по коридору, спускался по лестнице, – хорошо, что няня заранее приготовила узелок с сухарями и сменой белья. Впрочем, вряд ли это понадобится. У Смирнова связи. Он добьется, чтобы меня сразу к стенке».
Глава пятая
Германия, поезд, 2007
Соня поставила на стол бумажный стакан. Кофе был жидкий и приторно сладкий.
«Я не могла положить столько сахару. Стоп. Что я делала пять минут назад? По коридору проехала тележка из буфета. Чипсы, орешки, шоколад. Я попросила кофе. Но я не хотела. Я знаю, в поездах он всегда паршивый. Ой, мамочки, я ничего не помню. Я не понимаю, откуда взялся этот стакан и что вообще со мной происходит?»
Провал в памяти так изумил Соню, что она даже не испугалась. Никогда ничего подобного с ней не случалось. Фриц Радел сидел напротив и смотрел на нее из-под лохматых бровей.
«Я просто задумалась и заказала кофе машинально, не отдавая себе отчета. Я заказала, а он заплатил. Конечно, заплатил он, я совершенно не помню, как доставала мелочь из сумки. Господи, кто он такой? Что ему от меня надо? Почему я никак не могу от него избавиться?»
В купе никого, кроме них двоих, не было. Радел молчал и смотрел на Соню. Мерно стучали колеса, слышались приглушенные голоса за стенкой, в соседнем купе. Давно стемнело. За черным окном промелькнули огни маленькой станции. Соне показалось, что она вынырнула из тяжелой воды или зыбучих песков и эта неведомая субстанция съела все ее силы. Тело стало другим, чужим, вялым. Ей было лень шевельнуться.
– Тебе плохо, Софи, – это прозвучало без всякой вопросительной интонации.
Он не спрашивал. Он давал команду. Установку. Соня пыталась ответить, но не могла.
– Я предупреждал тебя, кофе здесь ужасный, но ты не послушала. Ты должна меня слушаться, Софи, иначе тебе будет еще хуже.
– Что? Что ты сказал?
Соне с трудом удалось произнести эти несколько слов, и только тут до нее дошло, что они оба говорят по-русски.
– Тебе очень плохо. Тело тяжелое, слабое, болит голова. Она болит так сильно, что ты не можешь вспомнить, откуда взялся этот стакан, зачем в нем столько сахару. Ты думаешь, я мог подсыпать что-то в твой кофе? Нет, милая, это было бы слишком просто. – Он протянул руку через стол, взял стакан и залпом выпил все, что там осталось.
«Я сплю, мне снится кошмар. Мне снится этот вкрадчивый упырь, сейчас открою глаза и он исчезнет», – думала Соня.
Но глаза ее были открыты, и Фриц Радел упорно не исчезал.
– Ужасная гадость. Сироп, а не кофе. Слушай меня внимательно, Софи. Только я могу помочь тебе, я сниму боль, если ты будешь хорошо себя вести.
Соня хотела встать, слегка подалась вперед, оперлась рукой о подлокотник, напрягла ноги.
– Сидеть! – тихо приказал Радел.
Последовал такой сильный приступ головной боли, что брызнули слезы. Лицо Радела стало мутным, зыбким.
– Я предупреждал, что будет хуже. Сиди смирно. Слушайся меня, тогда боль пройдет. Послушание или боль. Я могу сделать больно, могу снять боль. Вот она отпускает, уходит, ее почти нет. Но если ты не будешь слушаться, она вспыхнет с новой силой, она станет такой нестерпимой, что тебе захочется умереть. И это в моей власти.
Боль немного стихла.
«Он сумасшедший или я? Что он бормочет? Почему мне так плохо? Я не поддаюсь гипнозу. Хотя – откуда я знаю? Еще никто никогда не пробовал меня гипнотизировать», – подумала Соня и снова попыталась встать.
На этот раз удалось. В ушах звенело, глаза слезились, все расплывалось в радужной зыбкой дымке, голова кружилась, она чуть не упала. Фриц Радел сидел, развалившись, вытянув ноги поперек прохода.
– Что с тобой, Софи? Куда ты? – спросил он по-немецки.
– Мне надо выйти, – ответила она по-русски.
– Извини, я не понял.
– Ты только что отлично говорил по-русски, почти без акцента.
– Софи, если ты обращаешься ко мне, то напрасно. Я не знаю русского языка.
Он произнес это с искренним недоумением, улыбнулся растерянно и смущенно. Поезд дернулся, Соня не удержалась на ногах, опустилась на лавку.
– Кажется, я чем-то обидел тебя? – спросил он и тронул ее руку. – Объясни, что не так?
– Все в порядке, – сказала Соня по-немецки, – просто мне надо выйти.
– Погоди. Туалет все равно пока занят, а ты, я вижу, немного не в себе. Тебе лучше посидеть и успокоиться.
– Я спокойна. Дай мне пройти.
– Пройти? Да, конечно, извини, – он убрал ноги, – иди, но будь осторожна. Ты определенно плохо себя чувствуешь.
Держась за поручни, качаясь, едва не падая, Соня добрела до конца вагона. Туалет действительно был занят. Она вышла в тамбур, прижалась лбом к холодному стеклу. Так хотелось убедить себя, что ничего не было и голова болит сама по себе, от перепада давления, от усталости. Достаточно принять таблетку, и все пройдет. Через полтора часа поезд остановится в Зюльте. Дед встретит ее на платформе. Она вежливо попрощается с Фрицем Раделом и никогда больше не увидит его.
– Надо еще раз позвонить Зубову, – пробормотала она, обращаясь к своему смутному отражению, – вдруг он успел что-то узнать и объяснит мне, кто такой этот Радел?
Но телефон она оставила в купе.
Когда она вернулась, Фриц встретил ее открытой улыбкой, словно ничего не произошло. Соня села, принялась рыться в сумке. Нашла телефон. Хотела включить, но передумала. При Раделе делать этого не стоило. За полтора часа все равно ничего не изменится. Вряд ли Зубов успел узнать что-нибудь и уж точно никак ей сейчас, здесь, не поможет.
– На чем мы остановились? – вдруг спросил Радел и тут же сам ответил: – Кажется, на Парацельсе.
«Парацельс? Разве мы говорили о нем? О чем вообще мы говорили до того, как мне стало плохо? Либо он издевается надо мной, либо я схожу с ума».
– Фриц, ты мог бы зарабатывать приличные деньги фокусами с гипнозом, – быстро произнесла она по-русски, стараясь не отводить взгляда от его глаз.
Она хотела разглядеть там, в глубине желтой мути, какую-нибудь эмоцию, движение мысли. Но не могла. Глаза были пусты и мертвы, словно перед Соней в уютном купе первого класса сидело нечто неодушевленное, сложный хитрый механизм, человекообразное чудо кибернетики из далекого будущего.
Он слегка кашлянул и продолжил говорить ровным механическим голосом:
– Тебя интересовало, был ли Альфред Плут знаком с учением Парацельса и насколько серьезно это учение на него влияло.
Соне казалось, что ничего подобного она не спрашивала, вообще не произносила ни слова о Парацельсе и Альфреде Плуте, однако она решила не возражать. Пусть болтает что хочет, терпеть осталось полтора часа.
– Так вот, Плут родился через шесть лет после кончины Парацельса. Весьма показательно, что величайший врач умер сравнительно молодым, особенно по нынешним меркам. Ему было всего сорок восемь. В отличие от некоторых алхимиков он действительно умер. В девятнадцатом веке в Зальцбурге, на кладбище Святого Себастьяна, эксгумировали его останки. Кстати, оказалось, что рост его не превышал ста пятидесяти сантиметров и телосложение он имел весьма женственное. Узкие хилые плечи, широкий таз.
– Бедняга, наверное, поэтому не было у него семьи, детей, вообще никакой любви, – тихо заметила Соня.
Она была почти уверена, что Радел ее не услышит. Но он услышал, шевельнул бровями, повторил:
– Никакой любви.
– Но все-таки больных своих Парацельс любил, жалел, – сказала Соня, продолжая вглядываться в желтые мертвые глаза. – Он лечил сифилис и проказу, пытался помочь, спасти, облегчить страдания.
– Помочь. Спасти. Облегчить страдания. Зачем? – Радел повел плечом и брезгливо скривил губы.
– Низачем. Просто так, – Соня вздохнула и отвернулась.
Возражать, спорить вовсе не хотелось. Это было скучно и бессмысленно.
– У Парацельса случались великие прозрения, – сообщил Радел и легко притронулся к Сониной руке.
– О, да, безусловно, – кивнула Соня и отдернула руку.
Прикосновение его пальцев было неприятно. Она отодвинулась подальше, спрятала руки в рукава свитера. Он не обратил на это внимания, продолжал вещать, четко выговаривая каждое слово, правильно расставляя паузы и интонационные ударения.
– Альфред Плут, безусловно, читал труды Парацельса и почерпнул из них много полезного. Парацельс утверждал, что медицина есть алхимия микрокосма. Внешнее небо является путеводителем по небу внутреннему. Небо внутри нас, оно лежит не перед нашим взором, а за ним, поэтому мы свое внутреннее небо видеть не можем, ибо никто не в силах видеть сквозь живую плоть. Но, изучая движения светил, мы можем соотнести их с тем, что происходит у нас внутри. Луна влияет на мозг, сердце связано с Солнцем, Венера – это почки, Юпитер – печень, Марс – желчный пузырь. Единство внешнего и внутреннего космоса – основа классической алхимии, идущая от «Tabula smaragdina». Небо наверху, небо внизу. Звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня, известный категорический императив Канта. Впрочем, старик Иммануил лукавил. Небесные светила не знают морали, у них иные законы. Скажи, что тебе приходит на ум, когда ты слышишь имя Парацельса?
– Желудок – алхимик в животе, – произнесла Соня, продолжая смотреть в темное окно.
Это высказывание она нашла на последних страницах лиловой тетради. Михаил Владимирович Свешников выписывал для себя кое-что из Парацельса в феврале 1919 года.
– Разумеется, – Радел кивнул, – переваривание пищи в определенном смысле процесс алхимический. Вообще человеческий организм – самое наглядное подтверждение того, как, в сущности, убога и беспомощна позитивистская наука. Вот ты занимаешься биологией, наукой о живом. Чем отличается живое от неживого, ты можешь объяснить?
– Определение живого есть в любом школьном учебнике. Если ты изучаешь историю медицины, должен знать.
– В учебниках перечислены признаки живого. Метаболизм, деление клеток, размножение, старение. Но нет строгого определения. Между тем ни один из названных признаков не является абсолютно специфическим именно для живого. Размножаются и кристаллы. Сложные химические каталитические реакции происходят и в неживых системах. Тебе никогда не приходило в голову, что биология – наука, предмет которой до сих пор не определен?
– Да, я читала об этом. Эрвин Бауэр, «Теоретическая биология». В тридцатые годы это направление стало модным. Но ненадолго.
– Нет, Софи. Это не просто модное направление. Это одна из истин, которая помогает победить первобытный трепет перед неведомым и стать творцом, а не тварью. Кстати, как ты относишься к алхимии?
– Хорошо отношусь. С интересом.
– Надеюсь, ты согласна, что без нее не было бы ни химии, ни медицины. Алхимия породила науку.
– Ей за это большое спасибо.
– Ты напрасно иронизируешь. Настоящий ученый, исследователь, должен опираться на вечные неизменные принципы. Они есть в алхимии, но их нет и не может быть в науке, которая вся сплошь состоит из зыбких догадок, смутных теорий. Одна гипотеза противоречит другой, каждая следующая опровергает предыдущую. Они рождаются, умирают, теряют смысл. Подумай об этом, Софи.
– Да, непременно. Но сейчас мне лень думать. Я устала и хочу спать.
– Голова все еще болит?
– Нет. Она и не болела. С чего ты взял?
– Ты очень бледная, глаза красные. Вообще выглядишь плохо.
– Да? – Соня взглянула в зеркало над спинкой сиденья. – По-моему, я выгляжу вполне нормально. Просто здесь такое освещение. Ты тоже бледный как мертвец.
За окном мелькали огни, ровный ряд фонарей вдоль дамбы, соединяющей остров с материком, а дальше, по обе стороны, холодное неспокойное море. Радиоголос объявил, что через несколько минут поезд прибудет в Зюльт-Ост.
Лицо Фрица странно заерзало, словно кто-то поправил невидимой рукой мягкую резиновую маску.
– Как мертвец. Мертвец, – повторил он и тихо засмеялся.
* * *
Москва, 2007
– Проверь еще раз! – сердито сказал Зубову старик.
– Послушай, хватит дергаться. Рано или поздно она должна включить телефон.
– Ты предупредил ее, чтобы она его вообще никогда не выключала, чтобы постоянно была на связи? Предупредил или нет?
– Да, да, успокойся, ты же знаешь, насколько она рассеянная.
Зубову сейчас больше всего хотелось домой. Дома его ждала трехлетняя внучка Даша. Ее редко привозили к бабушке с дедушкой. Полчаса назад позвонила жена и сказала: если он хочет пообщаться с внучкой, должен ехать сию секунду. Ребенку пора спать. Даша взяла трубку и успокоила его, что спать не ляжет, будет ждать деда хоть до утра.
Утром Зубов улетал в Германию, и ко всему прочему ему нужно было поспать этой ночью хоть немного.
Иван Анатольевич поглядывал на часы. Он не мог уехать до тех пор, пока не явится его шеф, Петр Борисович Кольт. Но когда он явится, придется еще сидеть часа полтора, слушать вредного многословного старика, обсуждать то, что он соизволит поведать, принимать какие-то важные решения.
– Если тебе невмоготу, можешь уматывать, – сердито проворчал старик, – мы с Петром обойдемся без тебя.
Зубов ничего не ответил, в очередной раз набрал номер Кольта.
Петр Борисович присутствовал на некоем особенном мероприятии, с которого рад был бы удрать, но не мог. Под Москвой, в бывшем дворце графа Дракуловского, проходила презентация книги Светика, дочери Петра Борисовича.
Зачем понадобилось балерине создавать художественное произведение о собственной жизни, вопрос сложный, почти философский. Но произведение было создано, книга вышла. Петр Борисович основательно потратился на творческий порыв своей красавицы дочки. Он оплатил издание книги, рекламную кампанию, несколько презентаций. Петр Борисович был человек разумный, прагматичный, но и ему приходилось иногда делать глупости.
Во дворце, в музейных интерьерах, собрался шикарный московский бомонд, самые жирные и желтые сливки. Публику развлекали цыганский хор с медведем, несколько модных эстрадных групп и популярный телеведущий в качестве конферансье.
Иван Анатольевич имел несчастье позвонить шефу в самый ответственный момент, когда в бывший графский бальный зал вынесли книгу Светика, роман «Благочестивая: Дни и ночи» в виде двадцатикилограммового торта.
Сквозь приглушенное рычание Петра Борисовича в трубку прорывался усиленный микрофоном жизнерадостный баритон телеведущего:
– Чтобы вам было так же сладко читать, как кушать этот кондитерский шедевр, пупсики мои драгоценные.
– Резать должен я, – рычал шеф, – миссия у меня почетная, понимаешь ли. – Он то ли матюкнулся, то ли икнул. – Погоди, Ваня, еще минут пятнадцать здесь побуду и попробую тихо умотать.
– Петр Борисович! Мы вас ждем! Пожалуйста, возьмите нож в руки! – громко потребовал ведущий.
– Все, Ваня. Извини, – просипел в трубку шеф.
– Ну, что он там? – спросил старик, сердито хмурясь.
– Торжественно режет «Благочестивую», – вздохнул Зубов, – разрежет и сразу сбежит. Если пробок не будет, явится к нам через час.
* * *
Москва, 1918
Корреспондент «Правды» не пожалел красок, описывая пышные похороны комиссара по делам печати. До роковых выстрелов Володарский был известен лишь тем, что закрыл все оппозиционные газеты. После смерти он мгновенно преобразился в легендарного героя революции.
«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи, злобы. Ибо плачет сегодня петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и трибуна своего. Беспрерывной чередой проходят мимо гроба сотни и тысячи рабочих, красноармейцев, женщин. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся у гроба на память».
– Похоже, они рады, они торжествуют, – шепотом заметил Агапкин, встретившись с Мастером через пару дней в том же трактире, – они празднуют эту смерть как свою личную победу.
Колбасы в трактире уже не подавали, но картофельные оладьи оказались вполне съедобными. К ним принесли топленое масло в маленьких соусниках. Оно было старым, горчило, пахло плесенью, однако Федор, жмурясь от удовольствия, съел все, до последней крошки.
– Всякая религия нуждается в святых мучениках, – грустно усмехнулся Мастер и чуть слышно добавил: – Нет страшнее греха, чем воровать у своих.
– Володарский воровал? Они сами его устранили? – шепотом спросил Федор, поперхнулся куском и мучительно закашлялся.
– Какая разница? – Мастер сильно хлопнул его ладонью по спине. – Правды все равно никто никогда не узнает. Останутся официальные мифы и невозможная путаница слухов. Будьте осторожны, Дисипль. Это только начало. Молчите, слушайте, мотайте на ус.
Мрачно возвышенный тон большевистских передовиц вполне отражал то общее настроение возбуждения, приподнятости, траурного торжества, которое царило в Кремле.
После убийства Володарского вождь бегал по кабинету, голос его стал сиплым, руки тряслись так сильно, что писать он не мог. Он диктовал приказы, распоряжения, бесконечные записки, выступал на заседаниях, кричал в телефонную трубку, одинаково нервно, шла ли речь об арестах, расстрелах, дипломатических переговорах или о норме отпуска хлеба и хозяйственного мыла железнодорожным рабочим.
Рядом с энергичным вождем Агапкин чувствовал себя вялой бесплотной тенью. Формально его начальником был Дзержинский, но еще ни разу Железный Феликс не отдал ему ни одного приказания, не потребовал отчета, даже вопроса ни одного не задал. После быстрого знакомства, сухого рукопожатия они лишь здоровались, встречаясь в кремлевских коридорах, в зале заседаний, в кабинете или в квартире Ленина.
Польский дворянин, невысокий худой блондин с жидкой бородкой, лицом полинявшего монгольского хана и вкрадчивыми повадками то ли тайного иезуита, то ли карточного шулера, улыбался Агапкину, вежливо раскланивался с ним. Всякий раз при встрече Федора слегка знобило.
Остальные обитатели Кремля и Лубянки старались смотреть мимо Агапкина, редко кто перекидывался с ним парой слов. Чужак, беспартийный, без революционного стажа, но с законченным высшим образованием. По их разумению, он не имел никакого права так легко и стремительно взлететь на самый верх их номенклатурной пирамиды, стать доверенным лицом Ильича.
Послания для Бокия вождь никогда не писал при свидетелях. Никто, кроме Агапкина, не знал об этой переписке. Федор передавал маленькие, сложенные вчетверо, не запечатанные в конверты клочки бумаги Гайду, тот доставлял их в Питер и привозил ответы от Бокия, точно такие же клочки. Ленин быстро читал, потом Агапкин жег бумажки в большой медной пепельнице. Он перестал заглядывать в записки, чтобы больше не бледнеть и не вздрагивать.
Кроме связного, Федор был еще и личным врачом вождя, и это тоже держалось в строжайшей тайне.
Доктор Агапкин многому научился у профессора Свешникова. Он стал неплохим диагностом, но не мог понять, чем именно болен вождь. Приступы головной боли удавалось облегчать специальным массажем. Федор, смазав руки мятным бальзамом, по тридцать—сорок минут разминал ленинские виски, ушные раковины, затылок, заднюю часть шеи. Горячие ножные ванны с отварами трав расширяли сосуды. Истерические припадки удавалось купировать настойкой мелиссы, пустырника и валерианового корня, массажем кистей рук и стоп. Особая дыхательная гимнастика под руководством Федора помогала вождю уснуть.
Иногда перед сном Ленин вдруг брал с полки альбом с семейными фотографиями, долго, молча перелистывал, поглаживал пальцем лица матери, отца, братьев, сестер, вглядывался в кудрявого, ангельски хорошенького мальчика, которым он был когда-то, и по щекам его текли настоящие, крупные слезы. Он шумно сморкался, мягкий курносый нос краснел, он поднимал лицо, глядел в стену, и глаза его, обычно узкие, сощуренные, становились огромными, как блюдца.
Такими же огромными стали эти глаза, когда однажды Ленин развернул очередное послание от Бокия. Клочок бумаги выпал из толстых пальцев, подхваченный легким сквозняком, пролетел в другой конец кабинета.
– Проститутка! Сволочь! Предатель! – выкрикнул вождь, побагровел и стал заваливаться на бок.
Федор едва успел подхватить его, не дал грохнуться со стула. Припадок был таким мощным, что у Федора мелькнула мысль: один не справлюсь, надо звать на помощь.
На руках он дотащил бьющееся в судорогах державное тело до дивана, влил в рычащую мокрую пасть успокоительную настойку, принялся за массаж, мял горячие ушные раковины, натирал виски бальзамом, ловил дергающиеся маленькие ступни, массировал, бормотал, как заклинание: