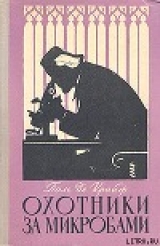
Текст книги "Охотники за микробами"
Автор книги: Поль Генри де Крюи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но творцам нужна аудитория. Он знал, что эти скептики из Королевского общества будут так же корпеть и стараться над тем, чтобы опровергнуть существование его маленьких животных, как он старался их открыть. Он был очень задет... Но творцам нужна аудитория.
Он ответил им длинным письмом, уверяя, что абсолютно ничего не преувеличил. Он изложил им все свои вычисления (и современные охотники за микробами со всеми своими аппаратами делают их лишь чуть-чуть точнее); он проделал так много этих вычислений – делений, умножений и сложений, – что его письмо было похоже на упражнения школьника в арифметике. Он закончил сообщением о том, что многие из жителей Дельфта смотрели – и не без одобрения – на этих странных маленьких животных; он может прислать им удостоверения от видных и почтенных граждан города Дельфта – двух духовных лиц, одного нотариуса и восьми других человек, заслуживающих полного доверия. Но он не может им открыть, как он устроил свой микроскоп.
Это был очень подозрительный человек. Он разрешал некоторым людям смотреть через свои маленькие приборы, но если бы кто-либо из них позволил себе прикоснуться к микроскопу, чтобы поставить его по своим глазам, он, вероятно, предложил бы гостю оставить дом.
Он был похож на ребенка, с ревнивой гордостью показывающего своим товарищам большое красное яблоко, но не разрешающего им взять его в руки, из страха, чтобы они не откусили кусочек.
Тогда Королевское общество поручило Роберту Гуку и Нехемии Гру соорудить самые лучшие микроскопы и приготовило перечный настой из высшего сорта черного перца. 15 ноября 1677 года Гук принес в собрание свой микроскоп, а вместе с ним и большое волнение... ибо оказалось, что Левенгук не соврал. Да, они были здесь, эти волшебные зверьки! Почтенные члены собрания вскакивали со своих мест и толпились вокруг микроскопа. Они смотрели, изумлялись и восклицали: «Этот человек поистине великий исследователь!..» Это был день славы для Левенгука. Спустя некоторое время Королевское общество сделало его своим членом, приславши пышный членский диплом в серебряной шкатулке, с гербом общества на крышке. «Я буду верно служить вам до конца своей жизни», – ответил он им. И он сдержал свое слово, не переставая снабжать их оригинальной смесью болтовни и научных открытий до самой своей смерти, которая последовала в возрасте девяноста лет... Но послать им свой микроскоп? Ни за что на свете! Ему очень жаль, но, пока он жив, он не может этого сделать. Королевское общество дошло до того, что командировало к нему одного из своих членов, доктора Молинэ. Молинэ предложил Левенгуку круглую сумму денег за его микроскоп, – он, конечно, согласится уступить один из них, – ведь их же целые сотни стоят рядами в его лаборатории...
– О, нет! Может быть, джентльмену из Королевского общества угодно что-нибудь посмотреть? Вот здесь, в бутылке, находятся в высшей степени интересные зародыши устриц, а здесь вот замечательно проворные маленькие животные...
И голландец приготовил для англичанина свои линзы, косясь в то же время одним глазом, как бы этот высокопочтенный посетитель к чему-нибудь не прикоснулся... или что-нибудь не стянул...
– Но ведь ваши инструменты прямо изумительны! – воскликнул Молинэ. Они показывают в тысячу раз яснее, чем лучшие линзы у нас в Англии!
– Как бы мне хотелось, сэр, – сказал Левенгук, – показать вам лучший из своих микроскопов и продемонстрировать свой особый метод наблюдения, но я держу это про себя и не показываю никому, даже членам своей семьи.
IV
Эти маленькие животные были везде и повсюду! Он сообщил Королевскому обществу, что нашел целые скопища этих невидимых существ у себя во рту. «Хотя мне исполнилось уже пятьдесят лет, – пишет он, – но у меня очень хорошо сохранились зубы, потому что я имею привычку каждое утро натирать их солью, а после очистки больших зубов гусиным пером хорошенько протирать их еще платком...» Но небольшие кусочки какого-то белого вещества все же оставались между его зубами, когда он смотрел на них в увеличительное зеркало.
Что это за белое вещество? Он соскреб со своих зубов кусочек этого вещества, смешал его с чистой дождевой водой и насадил в маленькой трубочке на иглу своего микроскопа.
На сером фоне линзы он увидел массу невероятно маленьких созданий, извивавшихся «наподобие рыбы, именуемой щукой». Все они двигались, все были живые, в этом не могло быть никакого сомнения! У него во рту был настоящий зверинец! Там были и крошечные согнутые палочки и гибкие змейки, двигавшиеся взад и вперед с такой же величавостью, как движется в процессии карета епископа, и маленькие спиральки, бешено вертевшиеся в воде, как живые пробочники...
Каждый человек, которого он встречал, был, так же как и он сам, объектом для удовлетворения его любознательности. Однажды он пошел прогуляться под высокими деревьями, склонявшими свою желтую листву над темным зеркалом каналов. Эта новая забава все-таки порядочно его утомила, нужно немного отдохнуть! Но вдруг ему попался навстречу старик, оказавшийся в высшей степени интересным экземпляром. «Я поговорил с этим стариком, пишет Левенгук Королевскому обществу. – Он трезво прожил свою жизнь, никогда не пил водки, не курил табаку и лишь изредка пил вино; но тут мой взгляд упал на его зубы, которые некрасиво выдавались вперед, и это навело меня на мысль спросить его, когда он в последний раз чистил свой рот. Он ответил мне, что никогда в жизни не чистил зубов...»
Сразу были забыты и усталость и больные глаза. Какой зоологический сад во рту у этого старикашки? Он потащил грязную, но добродетельную жертву своего любопытства в лабораторию, и, конечно, в этом рту оказались мириады разных крошечных зверьков, но что он особенно хотел подчеркнуть Королевскому обществу, это то, что он открыл во рту этого старикашки «новую породу микробов, которые скользили среди других, грациозно извиваясь всем телом, как вертлявые змейки, и вода в узенькой трубочке прямо кишела этими маленькими сорванцами!»
Нужно только удивляться тому факту, что Левенгук ни в одном из своих бесчисленных писем ни разу не высказал мнения о возможной вредности для человека этих маленьких таинственных животных. Он находил их в питьевой воде, он выследил их во рту, в течение последующих лет он открыл их в кишечнике лягушек и лошадей и даже в собственных испражнениях, где он находил их особенно много тогда, когда, по его выражению, «он бывал обеспокоен поносом». Но он ни на минуту не предположил, что это беспокойство может быть вызвано маленькими зверьками, и из этой его осторожности и нежелания перейти к быстрым выводам современные охотники за микробами – если бы они дали себе труд познакомиться с его писаниями – могли бы многому научиться. Ибо в последние шестьдесят лет буквально тысячи видов микробов были описаны в качестве возбудителей разных болезней на основании лишь того факта, что их зародыши встречаются в организме именно тогда, когда этот организм болен.
Левенгук был осторожен в установлении причинной связи между явлениями природы. Его здоровый инстинкт говорил ему о бесконечной сложности каждого явления и об опасности опрометчиво, без тщательного анализа, принимать за главную какую-либо причину из запутанного лабиринта многих причин, регулирующих жизнь.
Шли годы. Он по-прежнему торговал в своей небольшой мануфактурной лавке и следил за тем, чтобы полы в ратуше были чисто выметены. Он становился все более угрюмым и подозрительным, все больше и больше времени проводил за своими микроскопами и сделал массу новых поразительных открытий. В хвосте маленькой рыбки, попавшей в его стеклянную трубочку, он первый из всех людей увидел те капиллярные кровеносные сосуды, по которым кровь переходит из артерий в вены, и таким образом дополнил открытие англичанина Гарвея[12]12
Гарвей Вильям (1578-1657) – известный английский анатом и хирург, учением о движении крови в теле животных положивший начало физиологии.
[Закрыть] о циркуляции крови. Левенгук открыл человеческое семя. Самые интимные стороны жизни были только материалом для неутомимого испытующего ока его линзы.
Время шло, и мало-помалу о нем узнала вся Европа. Петр Великий, посетивший Голландию, счел нужным засвидетельствовать ему свое уважение, и английская королева совершила путешествие в Дельфт исключительно для того, чтобы посмотреть на диковинные вещи под его микроскопами. Он разоблачил массу лженаучных теорий и суеверий и наряду с Исааком Ньютоном и Робертом Бойлем считался одним из самых уважаемых членов Королевского общества. Вскружили ли ему голову все эти почести? Они не могли вскружить ему голову уже по той простой причине, что он сам был достаточно высокого мнения о себе. Но если его самомнение было безгранично, то оно уравновешивалось таким же бесконечным смирением, когда он думал о великой тайне, окружавшей его и все человечество. Он преклонялся перед голландским богом, но его настоящим богом была истина.
«Я отнюдь не намерен упрямо носиться со своими идеями и всегда готов от них отказаться, если для этого представляются достаточно солидные основания. Подобный образ действий я считаю для себя единственно правильным, поскольку моей целью является познать истину в тех пределах, в каких я в состоянии ее охватить. И с помощью того небольшого таланта, который мне дан, я стараюсь лишь вырвать мир из власти старых, языческих суеверий и направить его на путь знания и истины».
Он был поразительно здоровый человек, и в возрасте восьмидесяти лет его рука лишь чуть заметно дрожала, когда он придерживал ею микроскоп, демонстрируя своих маленьких зверюшек или восхитительных зародышей устриц.
Но он был большой любитель выпить (а какой голландец не пьет?), и единственным нездоровьем, какое он знал, была некоторая разбитость по утрам после этих возлияний. Он презирал и ненавидел врачей: как они могут что-нибудь знать о болезнях организма, если они не знают об его устройстве и тысячной доли того, что знал он сам? И у Левенгука были свои теории – в достаточной степени дикие – относительно причин этой разбитости. Он знал, что в его крови плавает масса маленьких шариков, – он был первым человеком, который их увидел. Он знал также, что эти шарики должны проходить через очень узенькие капилляры, для того чтобы попасть из артерий в вены, – разве не он открыл эти крошечные кровеносные сосуды в рыбьем хвосте? Ну вот, стало быть, вполне ясно, что после бурно проведенной ночи его кровь делается слишком густой для того, чтобы свободно проходить из артерий в вены! Значит, нужно ее как-нибудь разжижить!
Вот что он писал по этому поводу Королевскому обществу:
«Если я на ночь слишком плотно поужинал, то я выпиваю с утра несколько больших чашек кофе, и притом такого горячего, как только можно глотать. Это, естественно, вызывает у меня сильную испарину; и если таким образом мне не удается восстановить свой организм, то и целая аптекарская лавка не в состоянии сделать больше. Это единственное средство, к которому я прибегаю вот уже много лет, когда чувствую в себе лихорадку».
Этот горячий кофе привел его к новому интересному открытию относительно маленьких животных. Во всем, что бы он ни делал, он всегда старался подметить какое-нибудь новое, таинственное явление природы. Он погружался в мир маленьких драм, которые проходили под линзами, совершенно так же, как ребенок с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами погружается в волшебный мир сказок старой няни. Ему никогда не надоедало читать одну и ту же сказку природы, в которой он всегда находил что-нибудь новое, и все страницы увлекательной книги природы были измяты и истрепаны его ненасытным любопытством. Через несколько лет после открытия микробов в своем рту, предаваясь в одно прекрасное утро высокоцелебному потению с помощью кофе, он вздумал еще раз посмотреть на белое вещество из промежутков между зубами...
Но что это? Он не нашел в нем ни одного маленького животного! Или, вернее сказать, он не нашел ни одного живого, потому что его микроскоп явно показывал ему мириады мертвых микробов, и лишь один или два из них еле-еле двигались, как тяжело больные.
– Святые угодники! – пробормотал он. – Надеюсь, что какой-нибудь большой лорд из Королевского общества не станет искать их в своем рту, чтобы потом, ничего не найдя, опровергнуть мои прежние утверждения?
Но подождите! Как было дело? Он пил кофе, и притом такой горячий, что почти сжег себе губы... Ему вздумалось посмотреть на маленьких животных из белого вещества, находящегося между передними зубами... И это случилось сейчас же после того, как он выпил кофе... Ага!
Схватив увеличительное зеркало, он занялся задними зубами...
«С величайшим удивлением я увидел под микроскопом невероятное количество маленьких животных, и притом в таком крошечном кусочке вышеуказанного вещества, что этому почти невозможно было поверить, если не убедишься собственными глазами».
Затем он проделал тщательный опыт со стеклянными трубочками, нагревая в них воду с ее крошечными обитателями до температуры, которая чуть выше температуры горячей ванны. Маленькие создания моментально прекратили свою оживленную беготню взад и вперед. Он охладил воду, Они не ожили. Так! Значит, горячий кофе убил маленьких зверюшек из его передних зубов!
С каким наслаждением он теперь снова ими любовался! Но он был огорчен тем, что не мог отличить головы от хвоста ни у одного из своих маленьких животных. Он видел, как они скользили сначала в одном каком-нибудь направлении, потом останавливались, поворачивались на месте и плыли так же быстро назад, не делая больше никаких поворотов. Значит, у них должны быть головы и хвосты! У них должна быть печень, должны быть мозг и кровеносные сосуды! Он перенесся мыслью на сорок лет назад, когда с помощью своей всемогущей линзы он обнаружил, что мухи и сырные клещи, казавшиеся такими простыми невооруженному глазу, почти так же сложно и совершенно устроены, как большие животные. Но как он ни изощрялся с самыми лучшими линзами, его маленькие животные оставались все теми же простыми палочками, шариками) и пробочниками. Он утешался тем, что стал вычислять для Королевского общества предполагаемую величину диаметра невидимых кровеносных сосудов у микробов, ни разу не позволив себе, конечно, ни малейшего намека на то, что он когда-либо видел эти кровеносные сосуды; ему хотелось только поразить воображение своих «патронов» рассуждениями об их невообразимо малой, сказочно ничтожной величине.
Если Антони Левенгуку не удалось обнаружить зародышей человеческих болезней, если у него не хватило воображения для того, чтобы предсказать своим ничтожным зверюшкам роль убийц, он все-таки доказал, что еле-еле видимые зверьки могут пожирать и убивать живые существа, которые во много раз больше их самих. Однажды он затеял возню с ракушками и моллюсками, которых он выуживал из каналов Дельфта. Внутри каждой матери он находил массу зародышей. Он пытался искусственно вырастить эти зародыши в стакане воды, взятой из канала.
– Удивляюсь, – бормотал он, – почему наши каналы не набиты битком этими ракушками, если внутри каждой матери такая масса зародышей?
День за днем он шарил в своем стакане с вязкою массой эмбрионов[13]13
Эмбрион – зародыш, развивающийся в яйце или теле матери животного.
[Закрыть]; он наводил на них свою линзу, чтобы проверить, насколько они выросли... Но что это? Он с изумлением увидел, что мягкое вещество моллюсков исчезло из их твердых оболочек: оно было уничтожено мириадами микробов, жадно атаковавших ракушки...
«Жизнь существует за счет жизни, – это жестоко, но такова божья воля, размышлял он. – И все это, конечно, к нашему благополучию, потому что если бы маленькие животные не съедали молодых моллюсков, то наши каналы оказались бы переполненными ими до самых краев, – ведь в каждой матери живет такая масса зародышей».
Таким образом, Антони Левенгук покорно принимал и восхвалял высшую премудрость природы, и в этом он был сын своего времени, потому что в его век искатели еще не вступили в поединок с богом, подобно Пастеру, пришедшему после них, и не грозили кулаками по адресу матери-природы за ее бессмысленную жестокость к человечеству и ко всем ее многочисленным детям.
Ему минуло восемьдесят лет, и, несмотря на исключительно крепкий организм, его зубы все-таки расшатались; он не жаловался на приход неумолимой зимы в его жизни; он вырвал старый зуб и направил свою линзу на маленькие создания, копошившиеся в его пустом корне, – почему бы лишний раз на них не взглянуть? Может быть, в них окажутся такие детали, которых он не заметил во время прежних тысячекратных исследований! Когда ему исполнилось восемьдесят пять лет, собравшиеся к нему в этот день друзья стали уговаривать его бросить занятия и уйти на покой. Он нахмурил лоб и широко открыл свои еще блестящие глаза.
– Плоды, созревающие осенью, сохраняются дольше всех! – сказал он им.
Он называл восьмидесятипятилетний возраст своею осенью!
Левенгук был природным демонстратором. Ему очень нравилось слышать ахи и охи людей, главным образом, конечно, философов и любителей науки, которым он разрешал смотреть в свой еле видимый фантастический мир и которым он писал свои нескладные, удивительные письма. Но он не был учителем.
«Я никогда никого не учил, – писал он знаменитому философу Лейбницу[14]14
Лейбниц (1646-1716) – немецкий философ-идеалист и математик, юрист, богослов, историк, политический и общественный деятель, многостороннейший ученый XVII века.
[Закрыть], – потому что, если бы я стал учить одного, мне пришлось бы учить и других... Мне пришлось бы отдать себя в рабство, а я хочу оставаться свободным человеком».
«Но искусство шлифования линз и наблюдения над открытыми вами маленькими созданиями исчезнут с лица земли, если вы не будете обучать ему молодых людей», – ответил Лейбниц.
«Профессора и студенты Лейденского университета уже много лет тому назад были заинтересованы моими открытиями; они наняли себе трех шлифовальщиков линз для того, чтобы они обучали студентов. А что из этого вышло? – писал в ответ упрямый голландец. – Насколько я могу судить, ровно ничего, потому что конечной целью всех этих курсов является или приобретение денег посредством знания, или погоня за славой с выставлением напоказ своей учености, а эти вещи не имеют ничего общего с открытием сокровенных тайн природы. Я уверен, что из тысячи человек не найдется и одного, который был бы в состоянии преодолеть всю трудность этих занятий, ибо для этого требуется колоссальная затрата времени и средств, и человек должен быть всегда погружен в свои мысли, если хочет чего-либо достичь...»
Таков был первый охотник за микробами. В 1723 году, лежа на смертном одре в возрасте девяносто одного года, он послал за своим другом Гугли. Он не мог поднять руку. Его когда-то блестящие глаза были подернуты мутной пеленой, и веки начинали быстро склеиваться цементом смерти. Он еле слышно прошептал:
– Гугли, друг мой... будь так добр... Переведи эти два письма на столе... на латинский язык... Пошли их в Лондон... Королевскому обществу...
Он сдержал свое обещание, данное пятьдесят лет тому назад, и Гугли, отправляя эти последние письма, сделал к ним следующую приписку:
«Я посылаю вам, ученые милорды, этот последний дар моего покойного друга в надежде, что вам приятно будет услышать его заключительное слово».
Так умер этот первый охотник за микробами.
Вы прочтете в этой книге о блистательном Спалланцани, о Пастере, который обладал во много раз большим воображением, о Роберте Кохе, который принес гораздо больше прямой и непосредственной пользы, показав, какие страшные мучения микробы причиняют человеку. Все эти ученые и многие другие пользуются в настоящее время широкой известностью. Но ни один из них не был так безукоризненно честен и так изумительно точен, как этот привратник-голландец.
Глава вторая
Спалланцани. У микробов должны быть родители
I
«Левенгук умер... Это тяжелый удар для науки, это потеря, которую трудно возместить. Кто теперь займется изучением маленьких животных?» спрашивали себя ученые люди из Английского королевского общества, спрашивал Реомюр[15]15
Реомюр (1683-1757) – французский натуралист и физик; изобрел способ приготовления матового стекла, устроил термометр со шкалой от 0 до 80°.
[Закрыть] вместе с блистательной Парижской академией. Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать: в 1723 году прекратились упорные искания неутомимого привратника из Дельфта, а в 1729 году на расстоянии тысячи миль от него, в Скандиано, в северной Италии, родился новый охотник за микробами. Преемником Левенгука был Лаццаро Спалланцани – в детстве странный ребенок, лепетавший стихи во время лепки глиняных кукол и оставлявший своих кукол для жестоких детских опытов над жуками, клопами, мухами и червями. Вместо того чтобы докучать вопросами старшим, он занимался изучением живых существ в натуре, обрывая им лапки и крылышки и стараясь их снова приставить на место. Он не так интересовался вопросом о том, что они собою представляют, как ему важно было выяснить их устройство и механизм действия.
Молодому итальянцу пришлось немало бороться за то, чтобы сделаться охотником за микробами против воли своей семьи. Отец его был юристом и прилагал все старания к тому, чтобы заинтересовать молодого Лаццаро неподражаемыми красотами объемистого свода законов, но юноша упорно увиливал от этой премудрости, предпочитая пускать плоские камни по поверхности воды и размышлять о том, почему камни подпрыгивают и не тонут.
По вечерам ему приходилось сидеть с отцом за своими нудными уроками, но всякий раз, как отец поворачивался к нему спиной, он смотрел в окно на звезды, мерцающие в черном бархате итальянского неба, и на другое утро читал о них лекцию своим товарищам, которые прозвали его за это «астрологом».
По праздникам он устремлялся в леса близ Скандиано и с бьющимся сердцем пробирался к бурно пенящимся горным ключам, при виде которых он забывал о всех своих шалостях и буйных играх, и возвращался домой, погруженный в глубокое, недетское раздумье. Откуда берутся эти ключи? Его домашние и священник говорили, что они образовались в древние времена из слез несчастных, покинутых прекрасных девушек, заблудившихся в лесу.
Лаццаро был очень почтительным и достаточно политичным сыном для того, чтобы не спорить со своим отцом или священником, но про себя он совершенно забраковал это объяснение и решил, что рано или поздно он непременно откроет истинную причину происхождения этих ключей.
Но если молодой Спалланцани с не меньшей решительностью, чем Левенгук, стремился проникнуть в чудесные тайны природы, то свою карьеру будущего ученого он начал совсем в ином духе. Он сказал себе:
«Отец настаивает, чтобы я изучал юриспруденцию? Хорошо, пусть будет так!»
Он сделал вид, что очень интересуется юридическими науками, но каждую свободную минуту посвящал изучению математики, греческого и французского языков и логики, а во время каникул всецело отдавался созерцанию прыгающих по воде камней и естественных родников и втайне мечтал постигнуть причину бурного извержения вулканов. Затем он не без задней мысли отправился к знаменитому ученому Валлинсьери и рассказал этому великому человеку все, что знал.
– Но ведь ты же рожден для того, чтобы быть ученым, – сказал Валлинсьери, – ты только зря тратишь время на изучение законов.
– Ах, учитель, но мой отец настаивает...
Возмущенный Валлинсьери отправился к Спалланцани-старшему и принялся его ругать за то, что он зарывает в землю таланты Лаццаро, навязывая ему крайне узкую, хотя и доходную профессию юриста.
– Ваш мальчик прирожденный исследователь; он когда-нибудь станет гордостью Скандиано и создаст ему бессмертную славу. Ведь это же второй Галилей!
И ловкий юноша с отцовского благословения был послан в университет, в Реджио, чтобы там начать свою карьеру будущего ученого.
В те времена научная профессия считалась уже более почетной и не столь опасной, как тогда, когда Левенгук впервые начал шлифовать свои линзы. Великая инквизиция стала поджимать хвост. Вместо того чтобы преследовать галилеев, она довольствовалась вырыванием языков у мелких преступников и сжиганием малоизвестных еретиков. В каменных мешках и мрачных подземельях не встречались уже члены «Незримой академии», и ученые общества нередко пользовались покровительством правительств и королей, стремившихся извлечь для себя выгоду из научных открытий.
Высмеивать и критиковать суеверия стало не только дозволенным, но и модным занятием. Увлечение естественными науками стало проникать в уединенные кабинеты философов. Вольтер[16]16
Вольтер (1694-1778) – французский писатель и философ, подвергший разрушительной критике вековые феодальные и церковные предрассудки; дважды сидел в Бастилии и был выслан за границу. В середине XVIII века становится руководителем общественного мнения европейской буржуазии, содействуя пробуждению ее классового самосознания и росту оппозиционных настроений против феодализма.
[Закрыть] удалился на несколько лет в деревенскую глушь, чтобы изучить великие открытия Ньютона и затем популяризовать их во Франции. Наука проникла даже в блестящие, легкомысленные и безнравственные салоны; и такие столпы высшего общества, как мадам де Помпадур[17]17
Помпадур (1721-1764) – маркиза, фаворитка Людовика XV, короля французского; имела большое влияние на дела правительства во Франции; своим любимцам доставляла высшие государственные должности.
[Закрыть], склоняли свои головы над запрещенной Энциклопедией, чтобы постичь искусство изготовления румян и шелковых чулок.
Одновременно с увлечением всякого рода открытиями, начиная с небесной механики и кончая «маленькими животными», люди блистательного века Спалланцани стали выказывать открытое презрение к религии и догмам, не щадя даже самых священных из них.
Еще за сто лет до рождения Спалланцани вы рисковали бы своей шкурой, если бы вздумали усомниться в существовании несуразных мифических животных, описанных Аристотелем в его солидных трудах по биологии. А теперь уже можно было исподтишка над ними посмеиваться и говорить между собой полушепотом:
– Но нельзя же только потому, что он Аристотель, верить ему, когда он врет!
И все же много еще было невежества и всякого псевдонаучного вздора даже в королевских обществах и академиях. И Спалланцани, освободившись от грозившей ему перспективы посвятить свою жизнь нескончаемым судебным спорам и тяжбам, стал жадно впитывать в себя всякого рода знания, изучать всевозможные теории, развенчивать знаменитые авторитеты, сводить знакомства с разными людьми, начиная с жирных епископов, чиновников и профессоров, кончая чужеземными певцами и актерами.
В этом он был полной противоположностью Левенгуку, который в течение двадцати лет с таким терпением шлифовал свои линзы и изучал все на свете, прежде чем ученый мир впервые о нем услыхал. В двадцать пять лет Спалланцани занялся переводами древних поэтов и смело раскритиковал старый, считавшийся образцовым итальянский перевод Гомера[18]18
Гомер – полулегендарный греческий поэт, считающийся автором старинных героических поэм «Илиады» и «Одиссеи».
[Закрыть]. Он блестяще изучил математику со своей кузиной Лаурой Басси, знаменитой женщиной – профессором в Реджио.
И теперь он уже с более серьезным видом пускал по воде камни и вскоре написал ученый трактат о причинах подпрыгивания камней. Затем он сделался священником католической церкви и, служа обедни, делал карьеру.
Презирая в душе всякие авторитеты, он сумел все же войти в милость к влиятельным лицам того времени и обеспечить себе возможность свободно работать. Под маской священника, слепого последователя веры, он продолжал свои энергичные изыскания, не останавливаясь ни перед какими вопросами, за исключением вопроса о существовании бога как своего рода высшего существа. Во всяком случае, если он и задумывался над этим вопросом, то был достаточно хитер для того, чтобы не высказывать этого вслух. Ему еще не исполнилось и тридцати лет, когда он был назначен профессором университета в Реджио и стал читать лекции студентам, пожиравшим его восторженными, широко раскрытыми глазами. Здесь он впервые стал работать над чудесными маленькими животными, открытыми Левенгуком. Он с таким рвением приступил к своим опытам над ними, как будто они грозили снова уйти в таинственную неизвестность, из которой их так счастливо выудил Левенгук.
Эти маленькие животные оказались вовлеченными в один странный вопрос, благодаря которому вокруг них возникла горячая перепалка; если бы этого не случилось, то, может быть, они так и остались бы на многие века только курьезом или были бы даже совершенно забыты. Спорный вопрос, из-за которого лучшие друзья превращались в заклятых врагов, а профессора готовы были расколоть черепа священникам, заключался в следующем: может ли живое существо зародиться самостоятельно, или же у каждого живого существа обязательно должны быть родители? Создал ли творец все растения и всех животных в шесть дней и затем взял на себя простую роль директора-распорядителя вселенной, или же он и теперь развлекается тем, что разрешает новым живым существам возникать чудесным образом из «ничего»?
Во времена Спалланцани более популярной была теория, утверждающая, что жизнь может возникать самостоятельно. Большинство мыслящих людей склонялось к убеждению, что некоторые животные не имеют родителей и являются несчастными незаконнорожденными детьми отвратительного месива из разных грязных отбросов.
Существовал, например, следующий верный рецепт для получения хорошего пчелиного роя: возьми молодого тельца, убей его ударом по голове и закопай в землю в стоячем положении с рогами наружу, оставь его в таком виде на месяц, затем спили рога... и из них вылетит прекрасный пчелиный рой.
II
Даже видные ученые придерживались этой точки зрения. Английский натуралист Росс в научном трактате писал:
«Оспаривать, что жуки и осы зарождаются из коровьего помета, это все равно, что спорить против разума, здравого смысла и реального опыта. Даже столь сложные животные, как мыши, не обязательно должны иметь отцов и матерей; если кто-либо в этом сомневается, пусть поедет в Египет и там убедится в том, что поля положительно кишат мышами, зарождающимися из грязной тины реки Нила, что является большим бедствием для населения!»
Спалланцани слышал много таких историй, признаваемых за факт весьма солидными людьми; он читал о вещах еще более странных; он прислушивался к горячим спорам своих студентов, старавшихся доказать, что мыши и пчелы не всегда должны иметь родителей. Он все это слышал... и не верил. Спалланцани имел свое собственное мнение в вопросе о зарождении жизни; по самому смыслу вещей ему казалось абсурдным, чтобы животные – хотя бы даже «ничтожные зверюшки» Левенгука – могли зарождаться случайным путем из гнили или грязных отбросов. В их рождении должен быть определенный закон и порядок, должны быть какая-то мера и смысл. Но как это доказать?
Однажды вечером, когда он сидел один в своем кабинете, ему подвернулась под руку небольшая простенькая книжка, внушившая ему мысль о совершенно новом подходе к вопросу о зарождении жизни. Человек, написавший эту книжку, ничего не доказывал словами, он все строил на опытах, – и какую поразительную яркость приобретали все приводимые им факты! Спалланцани совершенно забыл о сне и не заметил, как наступил рассвет, – он все читал и читал...
В этой книге говорилось о суеверии, существовавшем по вопросу о происхождении белых червячков и мух, и о том, что даже наиболее образованные люди признавали возможность их зарождения из гнилого мяса. Затем приводился небольшой опыт, опровергающий этот ложный взгляд раз навсегда.
«Умный парень этот Реди! – думал Спалланцани, снимая сюртук и наклоняя свою толстую шею, чтобы потушить догоревшую свечу. – Как он просто и ловко это доказывает! Берет два кувшина и кладет в каждый из них по куску мяса. Один кувшин оставляет открытым, а другой покрывает легкой кисеей. Затем он следит и видит, как в открытый горшок влетают мухи, а через некоторое время там появляются червячки и из них новые молодые мухи. Он смотрит в кувшин, покрытый кисеей, и не находит там ни червячков, ни мух. Удивительно просто! Кисея закрывает оплодотворенной мухе доступ к мясу, и только... Люди тысячу лет ожесточенно спорили по этому вопросу, и никому из них не пришло в голову сделать такой простой опыт, сразу решающий дело...»








