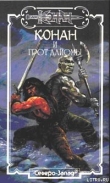Текст книги "Одержимый рисунком"
Автор книги: Платон Белецкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– Здравствуй, дедушка, родной, высокочтимый, больше всех любимый! Ты ведь у нас самый добрый, самый снисходительный!.. Нет, нет, ничего не говори, обещай только выполнить одну просьбу. Мы оба тебя просим, я и твоя Оэй. Обещаешь? – Не дав Хокусаю опомниться, он продолжал: – Я, мы оба так и думали, что ты не откажешь, если от этого зависит счастье двух любящих сердец… Спасибо!

Хокусай. Лесоруб. Из альбома «Хокусай гафу».
В конце концов, когда выяснилось, в чем дело, Хокусай переменил гнев на милость. От всего сердца обнял внука, дочку и радостно принял Томэя. Старик не подозревал до этого, что они с Оэй любят друг друга. Теперь ему стало понятно, почему Оэй впервые в жизни вела себя дерзко, чем была вызвана назойливость Томэя. С большим удовлетворением подумал он, что внук человек исключительной доброты. Стыдно Оэй – она была несправедлива к племяннику.
– Вот видишь, – говорил Хокусай дочери, – ты, как и все, не сумела его оценить. Хорошо, хоть я один его понимал.
Оэй и ее жених сдержанно усмехнулись.
Выдал Хокусай вторую дочь замуж. Ушла Оэй из родительского дома.
Хокусай заскучал. Правда, его не забывал внук. Видя, что дед одинок без дочери, он старался бывать почаще и все заводил разговоры о долге детей, о самопожертвовании во имя родителей. Хокусай привязывался к нему все больше и никогда не отказывал в деньгах. А многосложные дела внучонка требовали немалых сумм. Вот-вот должен он был стать зятем и наследником знатного самурая, но это событие оттягивалось со дня на день и требовало все возрастающих расходов. Не имея наличных средств, Хокусай подписывал долговые обязательства.

Хокусай. Ветка сливы и луна.
Но вот внук как в воду канул. Хокусай забеспокоился. Искал. Был у его родителей – своей старшей дочери Омэй и ее мужа Сигэнобу. Накричал на них: оказывается, они выгнали из дому собственного сына. Что говорили дальше, и слушать не стал. Гневно прервал зятя:
– Помнить надо, что говорил китайский мудрец Кунцзы: «Отец должен быть отцом, сын – сыном». Жаль, что не было сына у него самого! Дочери уходят к своим мужьям и забывают о долге по отношению к родителям. Почему внучек не его сын? Да разве когда-нибудь могло такое случиться, чтобы он выгнал собственного сына?
Вернувшись домой, был раздражен, что Хокуун и Хоккэй куда-то ушли без спроса. «Бедный внук! Как он похож на меня! Мы всегда понимали друг друга, а сейчас вот – что я могу для него сделать?» Думая о своем одиночестве, обеспокоенный судьбой внука, стал рисовать. Сыновняя почтительность выражалась иероглифом «ко». Он вывел этот знак. «Ко» – великое понятие. Оно должно быть правилом жизни. И Хокусай представил юношей, а в их фигурах – будущие поколения, занятые благородным трудом. Юноши устанавливают вертикально покосившийся было знак «ко», моют его, очищают от грязи, подкрашивают…
Работа художника и его раздумья были прерваны вторжением двух подозрительных субъектов. Многократно извиняясь, витиевато оправдываясь, они предъявили долговые расписки. «Больше ни дня мы ждать не можем. Униженно просим вернуть наши деньги». Денег у Хокусая не было. Еле выпроводил кредиторов, пообещав рассчитаться завтра.
Ученики вернулись возбужденные, в растерзанной одежде. Их сбивчивые пояснения вконец раздражили Хокусая. Какие-то пьяные господа позволили себе неуважительно отзываться о нем, называли его творчество «мужицкой отрыжкой». Ученики затеяли ссору, – не следовало этого делать. Но хуже всего было то, что они утверждали, будто в компании хулителей главным заводилой был его собственный внук.
Нервы Хокусая, в былое время крепче канатов, в этот вечер отказали.

Хокусай. Кролики.

Хокусай. Как родилось какемоно[5]5
Какемоно – вертикально-удлиненная картина-свиток.
[Закрыть]. Фудзи, отражающаяся в блюдце. Из серии «Сто видов горы Фудзи.
Заявил ученикам, что мастерскую закрывает, содержать их в дальнейшем не может и вообще просит оставить его в покое.
Ночью его преследовали кошмары. Стоит чашка с водой возле таблички с именем кого-то дорогого умершего. Ползет змея и хочет пить из чашки… Ужасная рогатая старуха скалит зубы. В ее когтистой руке окровавленная головка младенца… Морды, возникающие одна за другой. Синие, вздутые, как у повешенных или утопленников. Белесые, костистые, как черепа… Встал. Преодолевая боль в глазах, попытался рисовать при мигающем свете фонаря. Запечатлел ночные ужасы. После этого только от них отделался. Понял строение и форму каждого виденного страшилища. Сообразил, на что все это похоже, из каких элементов действительности составлено его больной фантазией. Жутким бывает лишь то, что необъяснимо.
Несколько раз с головой окунулся в бочку с водой, служившую ванной.
Фыркая и растираясь, думал: «Чего только ни рисовал я, а таких страшилищ, не привидься они мне, в жизни не выдумал бы. Как назвать такую книгу? Назову ее «Сто рассказов». Ночные кошмары переплелись в его представлении с известными в Японии страшными рассказами. Он стал за работу, еще не одевшись. Эскиз за эскизом – один другого страшней. Всюду смерть в ее ужасных обличьях.
Вечером во дворе храма, у могилы женщины, убитой мужем, колышется на ветру порванный бумажный фонарь. Фонарь не фонарь, скорее, лицо покойницы. Рот раскрыт. Можно подумать, испытывая муки, она криком кричит. Глаза закатились, налившись кровью. А внизу – ясное, ко всему на свете равнодушное голубеющее небо…
Другой лист – по мотивам любовной трагедии. Некий Кохада Кохэй пугает своего убийцу. Свой бледный скелет с живыми глазами просовывает он сквозь красную сетку, которой закрываются от москитов во время сна.
На погребальной табличке художник пишет свое имя. Змея, пьющая из чашки, в данном случае – его душа. Один, другой, пятый рисунок… Сколько еще? Утром у Хокусая всегда возникали идеи и замыслы. Сегодня, однако, его вдохновение длилось короче обычного. Вспомнил о внуке. Еще этот разговор с учениками. И, наконец, через несколько часов явятся кредиторы. Что делать? Быстро оделся, пошел к Оэй.
Было рано. Город только что пробуждался. Одна за другой раскрывались стенки домиков. Полуобнаженные женщины причесывались перед металлическими зеркалами, на которых играли первые лучи солнца. Лиловые тучки на небе окаймились золотым сиянием. Прохожих еще мало. Сборщики нечистот с деревянными ведрами на коромыслах торопливо перебирают ногами, чтобы закончить свое дело, пока не наступит день. Гуськом семенят буддийские монахи в желтых рясах. Несут широкие чашки: собрать утреннюю милостыню. Какой-то щеголь в красном кимоно, видать не выспавшись, бредет и напевает благодушно, поигрывая веером:
Слышу аромат
Померанцевых цветов,
Ждущих майских дней,
Чудится, подруги то
Прежней запах рукавов.
Стоял июль. Утром уже душно и жарко. Многие спят, не задвигая стенок. На гладко отполированных досках помоста, составляющего основание дома, меж столбов, на которых держится крыша, разбросаны лежащие фигуры. Кое-кто заслонился ширмой, а другим и дела нет, что спят на виду. Если бы Хокусай не терзался своими мыслями, наверно, спугнул бы парочку проспавших, смеху ради. Сейчас не до шуток.
Наконец добрался. Неужто его дочь еще спит? Нет. Издали видит ее фигурку меж столбов галереи. Уже причесана, трудится – расписывает фонарь. Ноги зятя торчат из-за ширмы. Не стоит он ее. Тоже еще – художник! Много успеет снов насмотреть, а рисовать ему будет некогда. Оэй увидела отца, обрадовалась. Говорит, скучала. А кто мешал навещать почаще? Он, что ли, должен ходить ей поклоняться? Сухо изложил, в чем дело. Нужны деньги потому-то и потому-то.

Хокусай. Фудзи, отражающаяся в волнах. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Воскликнула:
– Какой мерзавец!
Это о его внуке, о своем племяннике.
– А помнишь, как этот мерзавец упросил выдать тебя за Томэя? – спросил Хокусай с горечью.
Оэй задумалась, потом посмотрела в глаза отцу и сказала:
– Томэй уплатил твоему любимцу Янагаве сорок золотых рё за это одолжение. А после того, угрожая доставить тебе неприятности, содрал с нас еще втрое.
Хокусай опустил голову и прикрыл лицо ладонью.
– Я пойду. Пожалуйста, не говори ничего мужу. Прошу, не провожай меня, – повернулся и зашагал быстро.
На полпути встретил Хокууна, Хоккэя и еще кого-то с ними. Искали его. Кто просил? Почему за ним слежка?
– Если память не изменяет, ведь я еще вчера вечером просил вас, дорогие друзья, оставить меня в покое!
Сказал и пожалел сразу, только взглянул на их лица. Впрочем, чего жалеть? Пропадай все пропадом!
Возле дома его поджидал внук. Увидел и вздрогнул. А тот как ни в чем не бывало. Оттарабанил положенное приветствие, расспросил о здоровье, пробормотал трафаретные комплименты, а затем к делу: опять нужно выручить. Каких-нибудь десять рё, и все в порядке.
Вот остановились они двое и смотрят в упор друг на друга. Одинаковые носы, уши, фигуры. Разные души. Наконец Хокусай проговорил:

Хокусай. Фудзи на рассвете. Фудзи в пасмурную погоду. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
– Хорошо. Идем со мной, и получишь нечто более ценное, чем десять золотых монет. Этого хватит тебе надолго.
Внук почуял, видимо, что дед разговаривает необычно. Помялся и хотел улизнуть. Не тут-то было. Взял его Хокусай за руку, будто железными клещами придавил. Завел за дом. Поводил туда-сюда: выбирал место, чтобы никто с улицы не увидел. Потом спросил:
– Ты, внучек, внимательно смотрел рисунки деда?
Внук ничего не мог ответить: дрожал и клацал зубами.
– Так вот, если смотрел, помнишь, конечно, ту книжку «Манга», в которой представлены лучшие приемы рукопашной драки. Поскольку ты спишь и видишь стать самураем, посмотри, как это выглядит на практике…
И старый, дряхлый на вид художник так отделал молодого бездельника, что подняться с земли, даже пошевелиться без крика от боли было невозможно. После этого Хокусай как ни в чем не бывало повернулся и ушел. Внук только всхлипывал, а про себя думал: «Ладно, дед, ты горько пожалеешь об этом…»
Ночью несчастный художник, оставшись один в доме, задремал в изнеможении. Вдруг бумажные стенки охватило пламя. За полчаса сгорел целый квартал. Никто не знал в точности причины пожара. Не было известно, что сталось с Хокусаем. Кредиторы вынуждены были примириться с тем, что его нет в Эдо. Некоторых удивляло, что в это же время исчезла его дочь, бывшая замужем за художником Томэй. Ходили слухи, что внук художника, предусмотрительно захватив столько его рисунков, сколько мог унести, убил деда и совершил поджог, чтобы замести следы. О судьбе преступника толком ничего не знали. Кто-то утверждал, будто, мучимый раскаянием, он бросился в море. По другой версии, он удрал на голландском корабле, нанявшись в услужение к иностранцу, с которым познакомился раньше на почве недозволенных махинаций.
VI
Стояла чудесная погода. Цвели придорожные кустарники. Ветерок обвевал путников, избавляя от надобности обмахиваться веерами. На фоне голубого неба окрестные домики казались только что вымытыми и обновленными. Птицы задорно чирикали и пускали веселые трели.
Более всего любил Хокусай природу, и она платила ему благодарностью в трудные минуты. Ободряла, отвлекала от всех житейских тревог и невзгод.
Разочарованный в своей привязанности к внуку, обнищавший художник, старый годами, идет, однако, чуть не приплясывая от восторга. С ним Оэй. Ради дочернего долга оставила любимого мужа.
Шелест деревьев, новые горизонты за поворотами дорог, горько-ванильный запах песка и трав, стрекотание кузнечиков, колыхания нагретого воздуха – все это вместе создавало невыразимое словами чувство радости и полноты жизни.

Хокусай. Вид Фудзи из города. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Что рисовать, чтобы выразить это чувство? Вот цвет глицинии. Лицо дочери. Старые, раскидистые узловатые стволами сосны. Спешащие путники. Хорошо все это!
Осыплется глициния. Изменится, а рано или поздно засохнет дерево. Уйдет человек. Налетят, нагромоздятся и рассеются облака. Вспорхнут птицы. Рухнет обветшавший храм. Огнем или вихрем истребится домик, пока что приветливо поглядывающий из зелени сада. Все преходяще. Все минет, но радость жизни непреходяща. Вечно пребудет Япония, страна цветов и восходящего солнца, край величайших трудолюбцев, тончайших ценителей красоты. Ямато, Япония, родина моя! Так думал Хокусай, и на глазах его сияли слезы счастья, как встарь бывало.
А надо всей округой вздымалась, снегом посеребренная, коническая вершина Фудзиямы.
Фудзияма – вот неизменный символ Японии. Будет она радовать, как нас, наших далеких-далеких потомков. Недаром называют эту гору особо почтительно: «Фудзи-сан» – «Господин Фудзи».
Фудзи видна в любую пору. Нет японца, не видевшего ее с той или иной стороны. Все происходит на фоне священной горы. Вздымаются и рассыпаются брызгами волны. Люди начинают и заканчивают свой день.
Одним и тем же небом покрыты разные страны. Все в них сходно – звери, люди, все они живут и умирают. Многие храмы Японии выстроены по образцу китайских или корейских. Но только в Японии есть Фудзияма.
«Сколько раз рисовал я тебя, Фудзи-сан? – думал художник. – Теперь нарисую еще и еще. Успею – тогда тысячу раз. Не будет дано – хоть сотню. Несколько сот – лучше. А во всяком случае, не менее ста, иначе не изобразить Фудзияму».
Сквозь бег облаков обращает
Фудзи ко мне
Сотню своих обличий —
такие стихи сами собой сложились в уме Хокусая. Разумеется, этих слов мало, чтобы выразить чувства.
Оэй спросила, будто читая мысли отца:
– Фудзи? Так называется кустарник, цветущий белыми и фиолетовыми гроздьями… Не потому ли, что он заплетает своими ветками ее склоны, так назвали гору? А может быть, кустарник получил имя горы?
– Не знаю даже, – отвечал Хокусай. – Слово «Фудзи» пишут по-разному: одни так, что его смысл определенно связывается с горой – «несравненная гора». Другие расшифровывают это название словами «благоденствующий военный начальник». Стоит ли, однако, доискиваться смысла этого слова? Оно принадлежит к числу очень древних и, как все древнее, священно. Ты знаешь, наверно, что рассказывают в народе об этой горе?

Хокусай. Вид Фудзи от храма – Фудзи с кукушкой. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
– Конечно, я слышала, что она возникла в одну ночь, извергая пламя и производя страшный грохот…
– Да, так говорят, и надо тебе заметить, что, родившись, Фудзи неоднократно извергала пламя и сеяла смерть. Последний раз такое случилось в тысяча семьсот седьмом году. Я слышал в детстве об этом ужасе от стариков. Фудзи гневается, но такое бывает редко. Самое главное то, что Фудзияма – обитель богини Конохана Сакуяхимэ, то есть «принцессы, заставляющей расцветать деревья». И мне кажется, что Конохана животворит не только деревья, а каждого, кто видит ее гору.
Останавливаясь по пути, отец и дочь вглядывались в Фудзияму. В утреннем тумане она маячила, как серый призрак. Днем, отражаясь в озерах, она казалась удвоенной и сверкала своей снежной короной. Когда вечерело, ее вершина полыхала закатным огнем на лиловеющем небе.
Плавая с рыбаками на утлых челнах, они видели море, неясные берега и четкую, выделенную снеговым поясом вершину Фудзи. Если неожиданно натянут парус, он заслоняет весь пейзаж. Но чуть наклони голову, и вот из-за его края выглянет Фудзи. Как-то под вечер усталые путники подошли к небольшому храму. Тишина, безлюдье. Только шумят сосны. В келье с круглым окошком перед низким столиком сидит бонза. Не отрываясь читает сутры – священные писания буддистов. На лысой голове ползают муравьи. Не обращает внимания. Вежливо и осторожно окликнули. Не слышит. Вошли и стали за спиной – продолжает читать.
– Вот досада! – шутливо обратился к дочери Хокусай. – Вероятно, этот бедняга уже давно позирует, а до сих пор никто не начал его рисовать. – Вынул бумагу и хотел было нарисовать монаха.
Внезапно тот выгнул спину, заломил руки и стал зевать, долго и громко. Потом опять углубился в свое чтение, так и не заметив посетителей. Хокусай вышел и, когда храмик скрылся за бугром, весело засмеялся.

Хокусай. Фудзи из-за плотины Из серии «Сто видов горы Фудзи».
– Ты знаешь, – объяснял он дочери, – этот бонза так же увлечен сутрами, как я рисованием.
– Но что же в этом смешного, батюшка?
– Что смешного? Да то, что из окна у него великолепный вид на Фудзияму. Вначале я подумал: чудесный сюжет – читает, не глядя на Фудзияму. Потом – еще лучше – зевает. А для того, чтобы выразить мысль еще полнее, я нарисую за его окном птиц, улетающих вдаль вереницей.
В другой раз, когда пробирались по тропинке меж кустарников, Хокусай остановился и торжествующе произнес:
– Ты видишь, Оэй!
Чтобы лучше увидеть вершину Фудзиямы, Оэй смела паутину. Паук выткал ее поперек их пути.
– Ты не увидела, – разочарованно заметил Хокусай. – Всю прелесть картины создавал этот паук. Вечная гора сквозь недолговечную паутину. Массивный силуэт сквозь кружево легчайших линий. Это красиво само по себе: круги паутины, листок, который застрял в них, и треугольник горы. А вместе с тем – как это глубокомысленно! Так неожиданно возникали всё новые сюжеты.
Вершина Фудзи дерзко и неожиданно выскакивала всюду, куда бы ни повернуться: под ногами бондаря или распиловщика, занятого своей работой, меж придорожных сосен, над болотными камышами, под пеной брызг вздыбившейся волны. Ее линии резко устремлялись ввысь, и потому она казалась величественной на любом фоне.
В действительности очертания горы были очень плавными. Ее склоны на редкость пологи. Даже старику не составляло большой трудности подойти вплотную к снежной вершине. Минуя поля, пробираясь через тенистые леса, сменяющиеся далее низкорослым кустарником, Оэй совершала восхождения на священную гору. По мере подъема изменялся климат. Обезьяньи стада, которые, как верили в народе, охраняли гору, далеко не добирались до ее вершины, где солнце сияло, но грело слабее, чем в долине. А для людей ни подъем, ни похолодание не были ощутительны. Вершина возносилась на их глазах медленно и постепенно.
– Фудзияма рада принять нас, – шутил Хокусай. – Она расстилается под нашими ногами. Думаю, что недаром. До сих пор ни один иноземец не отважился топтать ее склоны: только своим детям помогает взойти на себя Фудзияма. Тот, кто не знает ее, не любит, будет скатываться отсюда, как водопад.
Странствуя с отцом, Оэй привыкла видеть в каждом его наброске то или иное лицо священной горы. Бушующие волны, хлещущий дождь, бамбуки, сгибаемые ветром, – все это было представлено на фоне спокойной неподвижности вечной горы. Путники, ползущие гуськом по дороге Токай-до, лодки, скользящие по водной глади, подчеркивали величественность Фудзи.
Если бы сам китайский мудрец Кунцзы, учивший детей беспрекословно подчиняться воле родителей, увидел Оэй, сказал бы: примерная дочь. С мужем рассталась безропотно. Последовала за отцом в его добровольное изгнание. Не жаловалась никогда. С виду и не страдала.

Хокусай. Фудзи, видимая сквозь дым. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Привольно было кочевать Хокусаю, пока стояли теплые дни, пока не истощился запас бумаги и туши. Молодые побеги бамбука, горсточка риса, чашечка чая – вот и все, чем питался он со своей терпеливой спутницей, привыкшей ночевать под открытым небом еще в детские годы.
Но вот все чаще стали выдаваться холодные ночи. Не всегда удавалось найти кров. Резко вздорожал рис, не на что было купить бумаги. Как хорошо было бы возвратиться в Эдо! Там были друзья, ученики, поклонники. Там были возможности заработка.
Последние деньги отдали почтальону, который бегом по Токайдо понес письмо от художника в Эдо. Ожидая ответа, сняли квартиру в Урага, ближайшем селении: хижину с продырявленной крышей, в которой было сыро и холодно. В кредит была взята у местного лавочника небольшая сумма.
Художник вновь получил возможность работать. Свою подпись он изменил таким образом, что она читалась теперь не «человек, одержимый рисунком», а «одержимый рисунком старик» – «Гакеродзин Хокусай».
По требованию издательства пришлось уступить «Сто видов Фудзи» за смехотворно малый гонорар. Но – лишь бы что-то! Только бы работать. Очень уж хорошо шла работа! Мастерство Хокусая необычайно возросло. Уже давно научился он немногими линиями схватывать самую суть предмета. Теперь он добивался разнообразнейших цветовых эффектов, комбинируя каких-нибудь три-четыре оттенка коричневой, синей, зеленой и черной краски. Ему удавалось из множества красок, меняющихся в течение дня, отобрать самые важные. И все – время года, пору дня, состояние атмосферы – ему удавалось передать этими немногими красками. Ни сам Хокусай, ни другие мастера не умели этого делать раньше. Почтальон-скороход привык к перебежкам из Эдо в Урага и обратно. Из Урага – с кипами рисунков. Из Эдо – с оттисками гравюр и жалкими грошами. Ученики между тем продолжали работу над «Манга», стараясь творить в духе учителя. Выходило похоже на то, как он рисовал когда-то, или хуже того. Хоккэй отважился выпустить собственный альбом – «Хоккэй Манга».

Хокусай. Фудзи, видимая с семи мостов. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Молодцом оказался Куниёси. Он отошел от стиля школы Тории. Старику казалось, что Куниёси лучше тех, на кого было затрачено много усилий, понял, что следует делать. В его рисунках Хокусаю нравилось насыщавшее каждый штрих движение.
– Смотри, Оэй, – замечал мастер, – из мальчика выйдет художник. Самое главное – что он не связан заученными приемами какой бы то ни было школы и стремится передавать движение. А движение – это и есть жизнь. Молодец, Куниёси!
– Конечно, папа, Куниёси молодец, – отвечала Оэй. – Но я опасаюсь, что на ближайшую неделю тебе недостанет бумаги и красок. Кроме того, ты дрожишь, зуб на зуб не попадает…
Хокусай нахмурился. Принялся писать. Он обращался к своим издателям: «В это суровое время года, особенно в моих путешествиях, я вынужден переносить большие затруднения. Я одет в легкое кимоно при сильных холодах. А как-никак мне семьдесят шесть лет! Я прошу вас подумать о моем печальном положении…» Заметив, что дочь подглядывала написанное, Хокусай засмеялся и рядом с просьбой о деньгах набросал руку, держащую монету. Дальше он писал, зная, что Оэй смотрит, а может быть, стараясь убедить самого себя: «Моя рука ничуть не ослабела, и я работаю неистово, стремясь к единственной цели – стать искусным художником…»
Путешествовать, рисуя водопады, в стеклянных струях которых скользят карпы, вновь и вновь изыскивать неожиданные аспекты священной горы, продолжать изучение того, как разные люди ведут себя в одинаковых ситуациях, – скажем, если разразится ливень или нужно проталкиваться по узкому мосту, заполненному пешеходами, – все это становилось мастеру год от года труднее.
Однажды отважился он пробраться в Эдо украдкой. Разыскал свою старую приятельницу О-Сэн. О-Сэн, лицо которой стало похожим на печеное яблоко, узнала его не сразу. Перед этим, смешно наморщивая и без того морщеный лоб, она долго пыхтела трубочкой, которую теперь не выпускала изо рта. Соображая, делала вопросительные жесты.
– Токитаро, Тэцудзо, милый, родной мой! – воскликнула наконец старушка и залилась слезами.
Суетливо оправляя одежду и волосы, седые как лунь, начала она столь хорошо знакомую ей церемонию приготовления чая. Занимаясь этим, она преобразилась.
На лакированном столике расставила по порядку мисочки, ковшики и чашки. Двигалась, строго соблюдая традиционные правила. Ее руки, изящные и холеные, как прежде, подчинялись смолоду заученному ритму. То застывали, грациозно согнувшись, то двигались неторопливо и плавно, помешивая чай. И вдруг мелькали так быстро, что пальцев не различить.

Хокусай. Фудзи и путники. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
И снова, будто в изнеможении, медленно изгибались у чашки. Фигура О-Сэн подтянулась, застыла. Только руки двигались, выполняя удивительный танец. Наконец чашечка готового чая взята, как хрупкая драгоценность, кончиками пальцев. Очаровательно улыбнувшись, передала она гостю чайную чашечку. Уютно примостилась на циновке. Старик отхлебнул. Чай зеленый, густой, горьковатый. Завязалась беседа, дружеская и непринужденная, как встарь между ними. Разница была, пожалуй, в том, что любивший в свое время высказаться Токитаро-Тэцудзо ничего интересовавшего подругу не мог рассказать, кроме того, что несколько преуспел в рисунке.
– Называюсь уже давно «Одержимый рисунком». Все рисую, а жизнь идет своим чередом. Пора называться «Стариком, одержимым рисунком», – заметил художник, выразительно посмотрев на собеседницу.
О-Сэн ответила пристальным взглядом. Провела рукой по лицу, словно хотела расправить морщины. Вздохнула:
– Да, жизнь идет своим чередом… Дзиндзаэмон оставил меня давно-давно. Сыночку нашему Ихиро скоро тридцать лет будет… А знаешь, проходила я как-то мимо Кагия, слышу – поют мою песенку:
У храмика Инари
Недолго помолюсь,
Монаху дам монетку
И навещу соседку.
О-Сэн меня встречает
И чаю наливает.
«Хочу лепешек к чаю»,—
Ей сразу отвечаю.
Внезапно перестала петь и расплакалась. Хокусай поспешил ее отвлечь:
– Хотел бы я посмотреть на твоего Ихиро. Славный парень, наверно. В отца пошел или в тебя?
– Не знаю, право. Взгляну на него иногда – вылитый Дзиндзаэмон, а то покойного своего батюшку как живого увижу. Так боюсь за глупого своего Ихиро! Приходят к нему товарищи, слушаю, что говорят, и думаю: быть беде…
– Дурные люди? – перебил Хокусай. И сразу нахмурился. Вспомнил внука.
– Да нет, я бы не сказала, что дурные, но не легче от этого. – Испуганно оглянувшись по сторонам, решилась доверить другу страшную тайну. Придвинула рукой его голову и зашептала ему в ухо: – Страшно слушать – проклинают его светлость сёгуна, говорят, что из-за него погибает Япония.
– Вот оно что! – растягивая слова, ответил Хокусай. – Это еще не так страшно. А я подумал было, что они пьянствуют, неуважительно говорят о родителях.
– Нет, ничего такого Ихиро никогда не сказал бы. Но он так неосторожен.
– Осторожность, конечно, нужна в наше время, – задумчиво ответил старик, – но это качество не самая высшая добродетель. Если же осторожность чрезмерна, это попросту трусость. И знаешь, мне приходится много путешествовать. Бываю в селах и городах. Вижу, что терпению людей, их осторожности приходит конец. «Смотрящие» пропускают мимо ушей такие слова, за которые раньше казнили немедленно. Слишком многие их произносят.
Беседа прервалась на этом. Быстрыми шагами вошел молодой человек с мужественным скуластым лицом. Он не был похож на О-Сэн, лицо которой всегда оставалось спокойным. Нахмурены брови, трепещут ноздри. Только по глазам, затаившим грусть и огонь, можно было узнать ее сына.

Хокусай. Фудзи, снег и аист Из серии «Сто видов горы Фудзи».
– Вот это мой Ихиро, – с гордостью сказала О-Сэн. – Он обладает многими недостатками, но я отдала ему все лучшее, что имела. Подойди, сыночек, и поклонись самому давнему другу твоей матери, великому мастеру Хокусаю.
Молодой человек приблизился и склонился в почтительнейшем приветствии. Когда он поднял лицо, оно было спокойным и бесстрастным, как у матери. О-Сэн знала сына настолько, чтобы заметить усилия, которые он прилагал, желая скрыть свои чувства.
– Ихиро, что с тобой, ты взволнован?
Секунду помедлив, Ихиро произнес глухо:
– Осио Хэйхатиро пал в битве. Восстание в Осака подавлено.
До Хокусая доходили слухи о событиях в Осака. В этом городе у него было много учеников. Хокумэй, Хокусэй, Сюнкосай Хокусю. Все они заняты главным образом портретами актеров «Кабуки». Сам Хокусай давно отошел от этого жанра, но его мысль изображать сцену в духе национальных школ Ямато и Тоса не пропала даром. Хокусю до того, как пришел к нему, подписывался Сюнко. Это значило, что Сюнко – его идеал. Потом переменил имя, стал Сюнкосай Хокусю. Теперь у него самого много учеников. Среди них такой талантливый, как Хокуэй. Их имена и стиль рождены им, Хокусаем. Зачем ему делать театральные гравюры, если они их делают за него? Так, как он хотел бы, когда учился у Сюнсё. После таинственного исчезновения своего сына, внука Хокусая, в Осака переехал Янагава Сигенобу. Работал там и учил. Но горе подточило его. Умер, пока Хокусай был в странствиях. Конечно, в Осака меньший простор для художника, чем в Эдо. Купцы и банкиры Осака настолько богаты, что им по карману драгоценные картины старинных мастеров. Гравюры они презирают. Кроме театральных гравюр, ничего нельзя сбыть. Зато в этом жанре художники Осака работают великолепно. «Осака имеет будущее», – говаривал Хокусай. Не думал он, что будущее Осака – не только театральные гравюры, но также огонь и кровь.
Нередко голодные крестьяне, доведенные до отчаяния, поднимали восстания. Жгли замки самураев и даймё, силой забирали рис, гнивший на складах оптовых торговцев. Такие восстания официально назывались «рисовыми мятежами». Зачинщиков распинали на крестах, и все шло по-прежнему. Но тут, в Осака, дело было серьезней. Главный зачинщик Осио Хэйхатиро был не из голодных. Это был самурай, начальник городской стражи. Потрясенный бедствиями крестьян, потребовал он от сёгунского наместника раздать рис из городских складов, заставить богачей поделиться с несчастными. Тот отказал. Хэйхатиро продал все, что имел, но вырученных средств оказалось далеко не достаточно, чтобы накормить умирающих от голода. Тогда Хэйхатиро поднял восстание. Запылали кварталы богачей, раскрылись житницы. Но вот все кончено. «Кончено ли?» – задумался Хокусай. И посмотрел с глубоким сочувствием на молодого человека, сохранявшего спокойствие на лице.

Хокусай. Сосны на горе Отокояма.
Был вечер. Приближалась седьмая ночь седьмого месяца. «Танабата» – «ночь влюбленных звезд».
Хокусай ничего не сказал по поводу гибели Хэйхатиро. Молчал, чувствуя, что молчание затянулось. Взволнованно оглядывался по сторонам. Тут только заметил в комнате ветки бамбука. На них были навешаны фрукты – груши и сливы, – печенье, звездочки, вырезанные из бумаги. О-Сэн во всем соблюдала традицию. Это принято делать в праздник «танабата».
Неожиданно распрощался. Обещал скоро прийти. Юноша смущенно отошел в сторону, а у стариков были на глазах слезы: знали, что свиделись в последний раз.
Оэй ожидала отца за воротами. Обрадовалась, что дождалась. Грустное лицо просияло. Некоторое время шли молча. Потом Хокусай оживился. Ничего не сказал о трагедии в Осака. На улице о таких вещах не говорят, тем более с женщинами. Рассказывал о том, как в детстве познакомился с О-Сэн, как разыскивал Харунобу, а познакомился с Сиба Коканом. Вдруг ни с того ни с сего заметил:
– И самое забавное, что я побывал у О-Сэн в седьмой день седьмого месяца. Как это я мог забыть, что сегодня – «танабата»…
– А я, – отвечала Оэй, – прекрасно об этом знала. С начала года ты все твердишь об этом празднике…