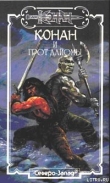Текст книги "Одержимый рисунком"
Автор книги: Платон Белецкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
в которой рассказывается о том, как художник, назвавшийся Хокусаем, после долгих бедствий приобрел известность
I
В XVII веке благодаря решительному превосходству военной техники европейские державы начали грабить Азию. К концу XVIII века англичане были полными хозяевами в Индии. Индонезия и Цейлон принадлежали Голландии. Маньчжурские императоры Китая делали всё больше уступок европейцам.
Сёгуны запретили иностранцам въезд в Японию. «Не думайте о нас, как будто нас нет больше на свете», – писал сёгун Иэмицу португальскому королю после казни направленных в Японию послов. Только китайцам и голландцам разрешалось вести торговлю в одном порту Японии под строгим надзором.
Сёгун Иэнарн несколько смягчил ограничения для голландцев, считая особенно опасными англичан. Некоторым голландским морякам удавалось посетить Эдо.
Сойдя с корабля в гавани Нагасаки, добрался до столицы капитан Изберт Хеммель. Шел мимо лавок и восхищался мастерством японцев. Его непривычная внешность и одежда вызывали недоуменные взгляды или смех.

Кунисада. Бык. Суримоно.
Японские художники рисовали карикатуры на голландцев. Побывав в Нагасаки, знаменитый Утамаро юмористически представил влюбленную пару в забавных европейских костюмах.
Хеммель чувствовал себя неприятно. Но любопытство побеждало. Скорей бы найти человека, к которому советовали обратиться. Художник и, главное, может говорить по-голландски. Много лет околачивался на Дэсима. Спрашивать нужно парк Сиба. Рядом живет этот художник – Сиба Кокан. Хеммель останавливает прохожих и повторяет вопросительно: «Сиба? Сиба?»
Кое-как добрался. Теперь заглядывает в дома и произносит: «Сиба Кокан?» Наконец повезло. Познакомился и может с грехом пополам объясниться с японцем.
В доме множество интересного, глаза разбегаются. Вазы из бронзы, инкрустированные золотом и серебром, белые фарфоровые с синей росписью, ярко-красные, зеленые. Чайники разнообразных форм – в виде птиц, плодов, лодок, павильонов, странных животных и людей. Тончайшей работы миниатюрные фигурки из слоновой кости – обезьяны, дети, воины, монахи, ремесленники за их работой.

Хокусай. Рыбы и спруты. Суримоно.
– Такие статуэтки называются «нэцкэ», – пояснил Кокан.
Хеммель попросил продать несколько штук, но японец обещал проводить его на базар.
– В таком случае, надеюсь, вы не откажете написать для меня картину. Ведь вы художник?
Кокан улыбнулся:
– При этом такой художник, которого вы сможете оценить. То, что я делаю, японцы не понимают. Они не доросли до настоящего искусства.
Посмотрев работы Кокана, Хеммель был удивлен и разочарован. Это были гравюры и картины маслом совершенно в европейском стиле. Даже сюжеты нередко были не японскими. Какой-то католический священник кормит лебедей у пруда, голландские корабли в гавани… Не стоило ездить в Японию ради таких пустяков.
– А нет ли у вас картин в другом роде? Вот эту можно посмотреть? – Хеммель развернул один из свитков, стоявших в углу. – Превосходная вещь!

Хокусай. Женщина с книгой. Суримоно.
Кокай на секунду нахмурился. Вновь расплывшись в улыбке, ответил:
– У вас хороший вкус. Картина, правда, не моя, зато большого мастера. Он работает в японском духе, но его тоже не понимают у нас.
Товарищи Хеммеля привозили не раз японские гравюры и картины, но эта показалась ему лучше всего виденного. Фигура японки была представлена живо и просто, не хуже, чем делают в Голландии, хотя совершенно другими приемами. Фон оставался незакрашенным, лицо и руки намечены контуром, как обычно в японских картинах.
– Я отведу вас к этому художнику, – продолжал Кокан. – Он очень беден и, думаю, охотно выполнит заказ. А если вы хотите увезти за море часть нашей Японии, лучшего мастера, чем Кацусика Хокусай, нельзя порекомендовать.
Когда Хеммель попал в дом Кацусика Хокусая, тот был занят.
– Подождем, – сказал Кокан, – мастер обладает некоторыми странностями. Он выйдет из себя и выгонит нас, если обратимся к нему во время работы. Недаром он носит свое имя: Гакиадзин Хокусай. По-японски это значит «Одержимый рисунком Хокусай».

Хокусай. Божества счастья. Суримоно.
– А что значит «Хокусай»? – полюбопытствовал голландец.
– Хокусай можно перевести по-разному. Скорее всего – «живописец с севера».
– Он выходец из северных провинций?
– Нет, он родом из Эдо, из Кацусика. Не скажу вам даже, почему он так назвался. Может быть, оттого, что почувствовал себя художником в Никко, а Никко – на севере от Эдо.
Комнаты отделялись раздвижными перегородками. В незакрытом проеме виднелась фигура художника. В Амстердаме Хеммелю случалось бывать в мастерской живописца. Он работал, сидя на табурете перед мольбертом, держа в руках палитру и кисти. Вставал и отходил. Ему не мешала беседа.
Японский художник работал не так. Присев на корточки, держал двумя пальцами за кончик черенка кисть с очень длинным волосом. Руку с кистью поддерживал другой рукой, упирая локоть в колено. Пока на бумаге, лежавшей на полу, возникало несколько штрихов, все его тело извивалось и двигалось. Мускулатура вибрировала и вздувалась, будто он выполнял труднейшее гимнастическое упражнение. Ученики убирали законченные листы и быстро подкладывали следующие.

Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Никаких переделок мастер не допускал. Несколько минут – и перед глазами изумленного капитана из пятен растекающейся туши возникали растения, звери, птицы, люди в самых различных поворотах. Быстрота изумляла.
– Сколько стоит каждая такая вещь? – шепотом спросил Хеммель.
– Ничего. Ведь это эскизы. Он делает их сотнями ради упражнения, – ответил Кокан.
Полуобнаженная фигура художника сверкала от пота. Внезапно, откинув корпус и бросив кисть, заломил руки за спиной. Он был в изнеможении. Посетители поспешили воспользоваться этим перерывом. Надолго ли он оставил свои изнурительные упражнения?

Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Ученики и жена Хокусая поклонились по нескольку раз, а художник нехотя взглянул в сторону вошедших. Заметив Сиба Кокана, мгновенно вскочил и обменялся с ним несколькими словами. Кивнув рассеянно, уставился на голландца. Кривил рот, двигал бровями – думал про себя… Жена художника расспрашивала Кокана о чем-то. Хокусай, выйдя из задумчивости, сказал что-то, по-видимому объявил свое решение. Кокан не переводил. Вместо того начал пререкания со своим коллегой: он явно его в чем-то убеждал. Женщина едва сдерживала слезы. Все это надоело Хеммелю, и он громко высказал свое пожелание заказать две картины. Кокан перевел ему вопрос Хокусая.
– Что я должен изобразить на этих картинах, какого они должны быть размера?
– Да что угодно. Лишь бы характерное для Японии. Какого размера? Обычного. Не слишком малого.
Хокусай осклабился и заговорил. Оказалось, что как-то пошли разговоры о том, что он мастер небольших картин. В ответ он написал картину размером в двести квадратных метров. Если нужно, сделает больше. А может и меньше. Так, однажды он написал картину на рисовом зерне. Он может изобразить что угодно в любом размере. В данном случае предлагает такие темы: жизнь японца и японки от рождения до смерти. Что может быть характернее для Японии?
Хеммелю понравились темы, и он заверил мастера, что, не сомневаясь в его возможностях, будет доволен картиной любого размера. В заключение осведомился о цене и сроке выполнения. Хокусай почему-то нахмурился, а затем сказал решительно:
– Будет готово завтра. За работу триста золотых рё.
Это была неслыханная цена. Сиба Кокан, уже имевший дело с европейцами, подумал, что сделка расстроится. Он сделал все, чтобы полунищий приятель получил заказ, а тот неосмотрительно сам все испортил. Хеммель не отвечал ничего.
Кокан, желая оттянуть или поправить развязку, сказал Хокусаю, что иностранец просит его показать работы. Художник хлопнул в ладоши, и в комнату вбежала девочка, его дочь. Хозяин с гостями уселся на пол, ученики смотрели стоя, а девочка проворно выкладывала лист за листом гравюры и рисунки.
Что изображалось, Хеммель понимал не всегда. Перед его глазами возникали фигуры, одна другой забавней.
Расселся какой-то старый японец. Полураздет. Задумался невесело. Протянул руку – за подаянием, что ли? Но что это у него на руке? Толпы людей крохотного размера?!
Два типичных китайца – старик с бородой и юноша. Старик прислушивается, что молодой скажет, а тот наставительно поднял палец.
Смешной монах, жирный, как свинья, возле огромного мешка. Выставив огромный живот, с наслаждением попыхивает трубочкой.
Самурай с лицом, искаженным злобой, размахивает мечом. Старинный костюм, движения – как будто отплясывает. Актер в роли? И еще, еще… Можно подумать – уличные типы, наблюденные где-нибудь на базаре в Эдо. Но все это сказочные герои. Хеммелю интересно узнать о каждом, но Хокусай не рассказывает. Великана зовут Асахина Сабуро. А это – «китайские братья». Курит не бонза, а бог счастья Хотэй. Нет, не актер, а Сёки, укротитель злых демонов, – большего не добьешься.
Зато самые простые вещи поясняет подробно и обстоятельно. Вначале хочется перебить: понимаю, мол. Но дальше выясняется – стоит послушать.
Очень хороши цветные гравюры, которые, по-видимому, художник ценит выше своих картин.
– Суримоно, – многозначительно заявляет он.
Голландцу это непонятно. Он посмотрел вопросительно. Хорошо, что Кокан пришел на помощь:
– Суримоно сейчас в большой моде. Такие гравюры посылают, поздравляя с праздником.

Хокусай. Лучники. Из альбома «Манга».
Теперь, пожалуй, все ясно. Сюжеты несложны – цветы, фрукты, птицы, люди в нарядных костюмах… Однако нет: после разъяснений суримоно приобретают глубокомысленное содержание.
Вот, например, изображен плод хурмы, на нем кузнечик. Сбоку надпись. Оказывается, не прочитав ее, нельзя понять замысел художника. Написаны стихи, которые он сам сочинил:
Ясен лунный свет,
Осенью пьем вино,
Бокал за бокалом.
Этот кузнечик вместо того
Сок хурмы пососет,
Но будет ли пьяным?
Забавно! Деликатный намек на то, что не следует злоупотреблять вином? Но дело не только в этой морали. Вглядываясь в картину, несложную на первый взгляд, Хеммель ощутил ее настроение. Едва намеченный за веткой диск луны и блеклые краски заставили представить холодную ночь. Маленький одинокий кузнечик неожиданно вызвал сочувствие.
Ни один голландский натюрморт из множества фруктов, цветов и всяческой снеди не давал такого обширного материала для раздумий, как эта простейшая вещица. Голландские мастера всё – каждую жилку в разрезанном лимоне, каждую трещинку на вазе – выписывают так живо, что хоть руками бери. Здесь – несколько линий, мало красок, но, выходит, и этих намеков достаточно.
Японский художник покорил голландского капитана. Уходя, Хеммель выразил готовность уплатить за картины назначенную цену.
– Вы очень хорошо сделали, что согласились, – сказал Сиба Кокан, – пройдет время, и картины Хокусая будут стоить вдесятеро.
На другой день Кокан привел в дом Хокусая двух голландцев. С капитаном пришел его товарищ, корабельный доктор. Пришлось ждать, как вчера. Жена художника приносила извинения: муж работал всю ночь и утро, только прилег, она не смеет его тревожить… Впрочем, пойдет посмотрит – может, проснулся. Едва она удалилась, доктор шепнул Хеммелю:
– Несчастная! Истощена до предела и еще какая-то болезнь в последней стадии. Обратили внимание на ее лицо? Такое выражение бывает у обреченных.
Вошел Хокусай. На этот раз поклонился подчеркнуто учтиво. Развернул на полу два длинных свитка. Как обещал, представил жизнь японца и японки. Печальные истории. Он – крестьянин, потом носильщик, базарный акробат, в старости – нищий /монах. Она – тоже крестьянка, затем служанка «чайного домика» и, наконец, жена купца – возится с детьми, грустит по поводу постоянных отлучек мужа.
– И это вы сделали за одну ночь? – поразился Хеммель.
– Нет, – отвечал Хокусай, – я создавал это сорок лет.
Он остроумен. И картины хороши, подумали иностранцы. Товарищ Хеммеля заказал для себя сделать такие же точно.
Жена Хокусая – женщина с изможденным лицом, – когда посетители ушли, сияла улыбкой. Расправились ее преждевременные морщины. Таких денег, как триста золотых рё, не приходилось держать в руках. Она смирилась с тем, что муж работает впустую. Хокусай впервые за много лет увидал в ее глазах искорки жизни. Обнял жену. Долго смотрели один на другого. Все понимали без слов. Наконец она сказала:
– Давай пировать.
В садике за домом устроили пир. Собралось все семейство. Старшая дочь Омэй, малютка Оэй, ученики Хокусая тоже. Водки – сакэ – не пили. Этого не терпел хозяин. Пьянели и веселились от лакомств. Неудивительно: привыкли жить впроголодь. Угощались чаем. Закусывали раковыми шейками, замороженной зеленью, капустой с бобовым соусом. Ели и говорили о том о сем, пока не начали играть в ута – лото.

Хокусай. Из альбома «Манга».
Разделились на четыре группы и разложили карты. На картах – конечные строки знаменитых стихотворений. Хокусай декламировал начальные. Очко зарабатывает тот, кто раньше успеет схватить карту с подходящим концом. Ута – очень короткое стихотворение. Долго думать некогда. Выходило смешно. Хокусай начинает грустно и медленно:
Со дня разлуки,
Когда один, как месяц,
На заре остался…—
а несколько голосов наперебой заканчивают залихватской скороговоркой:
Нет ничего грустнее мне,
Чем утренний рассвет!
Чтобы усилить контраст печального содержания ута и радостных интонаций игроков, Хокусай декламировал нарочито тоскливо и заунывно. А на душе у него становилось все веселее. Не потому, что продал картины за небывалую цену. Эту цену назвал, желая отпугнуть иностранца. Кокан говорил: «Голландец хочет взять на память часть Японии». Подумаешь, любитель Японии!
Приятно было, что ожила жена.
Милая женушка О-Соно! Как-то, когда уже подрастала старшая дочь, покинутая матерью, О-Мине намекнула, что знает хорошую девушку.
Хокусай призадумался. Несколько лет промаялся он с малым ребенком и все-таки не женился. «Почему?» – спрашивали соседи. «Об этом подумаю; когда подрастет дочка и сможет пожаловаться на мачеху, в случае чего». Теперь другое дело. Познакомились и поженились. Не думал даже, что полюбит ее когда-либо. А полюбил ведь, да еще как! Преданная, терпеливая. Верный, незаменимый друг, не только жена. Все сделает для нее. Ради ее улыбки напишет еще две картины. Ведь он себя не унижает: платят – значит, поняли, что берут не пустяк.
Повторять сделанное однажды Хокусай не любил. Вторая пара картин далась трудно. Опять ночная работа. Утром с ним сделался обморок. О-Соно не растерялась. Отходила. Не в первый раз с ним случается.
Голландский доктор остался доволен картинами: ничуть не хуже, чем сделано для Хеммеля. И хорошо, что Хеммёль заказывал первый. Копии обойдутся дешевле. Предложил половину цены: тоже немалые деньги. И вдруг глаза японца становятся как буравчики. Сворачивает картины: они; видите ли, стоят столько же, как предыдущие. Напрасно так заносится и привередничает. Сам голодает, наверное, а на жену смотреть страшно!
Действительно, с женой художника было неладно. Когда Хокусай отказался от денег; лицо ее стало вздрагивать, глаза закатились, дыхание стало прерывистым. Доктор поспешил ей на помощь, но живописец отстранил его величественным жестом:

Хокусай. Всадники. Из альбома «Манга».
– Кокан, прошу вас, передайте этим господам, что мы с женой не нуждаемся в их соболезнованиях. Пускай уходят.
Хеммеля потрясла эта сцена. Покидая Японию, он вез четыре картины Хокусая. За две вторые уплатил, как за первые.
«До чего горды и непреклонны эти японцы! Нам нелегко понять их. Тем более поставить на колени», – думал капитан. Весенний ветер надул паруса. Голландский корабль отчалил от Нагасаки.
II
Писатель и ученый Хирага Гэннай, друг Харунобу, враг сёгунского деспотизма, умер в тюрьме. Веселые рассказы Санто Кёдэна, любимца читателей, были запрещены. Самого автора приговорили ходить с деревянной колодкой на шее.
Без печати сёгунского цензора ни одной гравюры нельзя было выпускать в продажу.
Сёгун Иэнари всерьез заинтересовался искусством. Искусство и просвещение должны исправить народ, решил он. Плохо тем, кто не следует предначертанию владыки.
Плохо издателю Дзюсабуро. «Сюнга», «весенние картинки», – непристойные сцены из жизни увеселительных заведений Йосивары запрещены. Утамаро прославился как мастер «сюнга», а Дзюсабуро нажил на них состояние. Теперь торгует ими из-под полы. Часто платит огромные штрафы. Иногда помогает взятка.
Раньше Дзюсабуро с друзьями виделся в Йосивара. Теперь принимает в задней комнате книжной лавки. Последние годы XVIII века проходили невесело. Ради праздника и то собираться опасно. В будни зайти в лавку как будто случайно не так страшно.
Сегодня пришли к Дзюсабуро двое – художник Утамаро и писатель Бакин. Стенки задвинули. Из лавки едва доносятся голоса приказчиков. Надо надеяться, там тоже не слышно, что говорит хозяин с гостями. Утамаро предавался воспоминаниям. Ругал наступившие времена.
– Скука, скука! – повторял он. – Неужто приходит старость? Взял нас в кулак Иэнари, наш обожаемый, выдавил радость и веселье. Не осталось ни капли.
Собеседники замялись. Вдруг кто подслушивает? У сёгуна всюду глаза и уши. Тёдзиро, главный «мэцкэ» – «смотрящий», – отлично наладил работу шпионов.
Бакин – самый младший из собеседников. Недавно прославился. Кашлянул: решил, что нужно высказаться погромче.
– Стоит ли так преувеличивать? Что значит веселье? Пустые развлечения не нужны народу. Наш долг – кистью и словом искоренять безнравственность. И это не только приказ светлейшего сёгуна, а воля народа. Вот я, например, немало повидал в жизни. Был и врачом и гадателем. Народ знаю. Пробовал по примеру Санто Кёдэна веселить читателей. А разве имел успех? Не то теперь. Понял, что нужно не развлекать, а наставлять, призывать к добру, внушать отвращение к злу. И вот мои книги ждут с нетерпением.
Дзюсабуро счел нужным поддержать писателя. Кроме того, Утамаро слишком мрачен, не мешает его ободрить.
– А тебе, Ута, разве не позволяют делать что хочешь? Разве ты утратил известность? Мне кажется, что ты работаешь лучше прежнего.
– При чем тут я? – раздражался Утамаро. – Я делал и буду делать что захочу. Возьму и нарисую ханжу Иэнари, как он ухаживает за девчонками в Йосивара. Пусть проповедует скромность на фоне такой картины! А что касается ваших романов, то я вас разочарую, дорогой Бакин. Их читают не ради добродетельных рассуждений. Выбирают страницы, где вы описываете страхи и ужасы. Это занимает, щекочет нервы. Нет, господа, утешайте себя как хотите, а мне скучно и грустно. И скольких друзей, каких мастеров не стало за эти годы! Вот вчера – третий год, как умер Сюнсё…

Хокусай. Шаржи. Из альбома «Манга».

Хокусай. Мосты. Из альбома «Манга».
Все вздохнули. Большой художник! Конечно, его не заменил Сюнко, даром что принял после смерти учителя его имя и подпись в виде горшка – цубо. Он действительно Кацугава Сюнсё Второй, но первого нет, увы!
– Нет уже и Бунтё. Вот был достойный соратник покойного, – продолжал Утамаро.
– Если речь о театральных гравюрах, – заметил Дзюсабуро, – то, думаю, наследников мастеров нужно искать не в среде подражателей. Сюнсё сказал свое слово. Следующее сказал Сяраку. Сюнсё пошел дальше своих предшественников. Им была важна только роль. Ему удалось показать, какой актер выступает в роли. Сяраку сумел изобразить не только внешность, но силу чувств актера.
– Да, – согласился Бакин, – я не жалею, что какой-нибудь Сиба Кокан бросил искусство – его ранга никого в Японии не могли прельстить, – но почему это сделал Сяраку? Все были в восторге от его вещей…
– Разве не слышали? – перебил Утамаро. – Сяраку не только художник. Он выступает в спектаклях «Но». Даймё, при дворе которого состоит Сяраку, запретил ему рекламировать театр «Кабуки». А тот не посмел ослушаться. Как вредит нам всем эта врожденная покорность судьбе! Люблю упрямых! Не удивляйтесь тому, что скажу. Всех нас пора на свалку. Если кто скажет новое слово в искусстве, то это будет Кацусика Хокусай. Вот, кстати, самый способный ученик Сюнсё. До чего он упрям и трудолюбив! Мы тут болтаем и вздыхаем, а этот, конечно, работает.
– Хокусай? Что-то я о нем слышал забавное, но что именно? – пытался припомнить Бакин.
– О нем рассказывают немало. Смеются, что он пишет чем попало – ногтем, пальцем, ногой. Издеваются, что работает с утра до ночи, а до сих пор не прославился. Но все это зря. Такой добьется. Неподкупен. Медленно, но верно идет к своей цели. А главное, знает Японию, как ни один из нас, – ответил Утамаро. – Я заметил его, еще захаживая в мастерскую Сюнсё, потом потерял из виду, теперь недавно опять встретил, видел работы. Какой могучий талант!

Хокусай. Из альбома «Манга».
– А как его звали раньше? – полюбопытствовал Бакин.
– Раньше его звали Тэцудзо, потом Сюнро, одно время – Хисикава Сори. Теперь он передал это имя одному из учеников, а сам стал Хокусаем. Назвался Гакиодзин Хокусай – одержимый рисунком Хокусай. Лучшего имени для него не придумать.
В стенку постучали. Кто бы это? Пришел Хокусай. Легок на помине! Необычайно взволнован. Безумные глаза. Очень плохо его О-Соно. В доме нет еды, ни гроша денег.
– Ута, дай два рё, – сказал, глядя в пространство.
Глубина его горя тронула всех. На глазах у Бакина выступили слезы. Он предложил Хокусаю крупную сумму и сотрудничество.
– Я задумал роман о Касанэ, убитой ее мужем. Вы слышали, конечно, эту историю. Превосходный пример того, что всякое преступление влечет страшное наказание. Не согласитесь ли выполнить рисунки для этой моей книги?
Хокусай согласился. Взял деньги. Так была спасена О-Соно и началась работа над иллюстрациями к романам Бакина.
Бакин не ошибся: история Касанэ была хорошо известна художнику. На базарах и при дорогах слышал не раз от бродячих сказителей. Стал делать эскизы, не дожидаясь, пока писатель переделает ее на свой вкус. Замысел созрел до того, как роман был прочитан. Хокусай с обычным неистовством погрузился в работу. Пролетел год, другой, третий…
Покоряйся судьбе, даже если она невыносима. Станешь бороться – хуже будет, чем то, чего опасался. Такую мораль вкладывал Бакин в свой роман.
Некая Касанэ была отвратительна видом, наделена нестерпимым характером. Муж, доведенный до отчаяния, решил от нее избавиться. Утопил, а сам женился вторично. Призрак убитой являлся ему и новой жене. Та не вытерпела, покончила самоубийством. Повествование прерывалось длиннейшими авторскими отступлениями. Бакин любил рассуждать, читать наставления. Был не прочь при этом показать, как хорошо он знает китайских классиков, как мастерски владеет литературным стилем.
Тем временем Хокусай рисовал живые фигуры и лица. Вся эта история ему казалась нелепой. Он создавал физиономию призрака, стараясь вспомнить самых безобразных старух, виденных в жизни. Преувеличивал уродство насколько мог, доводя до степени гротеска. У дочери художника Оэй такая Касанэ не вызывала страха. Смеялась. Привидение изображалось огромным. Рядом небольшая фигурка убийцы. Он больше озадачен, чем перепуган. Поза так характерна и натуральна, что тоже вызывает смех. Бакин стремился ужасать своих читателей. Хокусай не следовал его замыслу.

Хокусай. Носильщики. Из альбома «Манга».
Усмехаясь про себя, как взрослые, когда рассказывают детям страшную сказку о Яма-уба, японской бабе-яге, делал иллюстрации.
Работа настолько увлекла Хокусая, что все окружающее виделось ему, как сон, в коротких промежутках, когда оторвется.
Из мастерской не выходил. Здесь спал, наспех закусывал.
С некоторого времени О-Соно не появлялась. Еду приносила Оэй, грустная, серьезная девочка, папина любимица. Потрепал по головке, а разговаривать некогда. Почтительно склоняясь, глядя сочувственно, появлялись ученики: далеко, будто в тумане. Только на бумаге, что перед ним, все четко и ясно.
Вдруг случилось ужасное. Вбежала плачущая Оэй. Выплыли откуда-то удрученные фигуры. Старшая дочь с маленьким сыном, ученики, соседи…
– Папа, папа, – восклицала Оэй, – мама умерла!
Не сразу понял, в чем дело. Молчал. Глаза его были как буравчики. Их выражение не изменилось, когда скатились слезы. Одна за другой… Никто не знал, даже сама О-Соно, как он ее любил.
Хокусай выстоял. Работал, но часто уходил из дому. Бродил. Поднимался на горы. Смотрел на морские волны. Прятался в чаще леса. Всегда один.
Роман Бакина о Касанэ был издан в 1807 году с иллюстрациями Хокусая и пользовался огромным успехом. Имя художника стало известно во всей Японии.
Хокусай не изменил после этого своих привычек. Пожалуй, стал беспокойнее. Постоянно переезжал с квартиры на квартиру. Собственным домом не обзавелся, хотя доходы его значительно возросли. Некоторым казалось, что стал злее. Его шуток побаивались.
Свое горе он прятал глубоко. Усилием воли старался прогнать тоску. Бороться с самим собой было труднее, чем переживать лишения и голод. Ему не нужны были ни деньги, ни слава. Это могло бы утешить О-Соно, а ему одному в тоске и горе все это даже в тягость. Хокусаю казалось, что он виновен в ее смерти. Это не давало покоя. И еще мучило, в чем будущее «укиё-э», школы, к которой он себя причислял. Повторять без конца то, что уже сделано? Другими или самим собой – все равно.
Вскоре после О-Соно скончался Утамаро. Весельчак Утамаро кончил печально. Отсидел в тюрьме. Говорили, за то, что в какой-то гравюре выставил на посмешище «светлейшего». Но это неправда. Утамаро горько сожалел, что не сделал чего-то подобного: было бы не так обидно. Арест был вызван пустячной придиркой. Настоящего повода не было. Конечно, Тёдзиро проведал, что болтает лишнее. Выпустили, но истерзали душу. В последний раз, когда Хокусай его видел, Утамаро было не узнать. Выглядел глубоким стариком, руки и голова тряслись, мутные глаза слезились. А ему еще не было пятидесяти лет. Он сделал все, что можно сделать, изображая красавиц Йосивары. Напрасно Киёнага пытается затмить его славу. После смерти Утамаро Киёнага раздражал Хокусая.

Хокусай. Из альбома «Манга».
Призрачный блеск Йосивары померк. Никому не оживить его. Дзюсабу-ро перебрался в новый дом, подальше от веселого квартала, и вскоре умер.
Киёнага, приемный сын знаменитого художника Тории, смолоду подражал Харунобу, соревнуясь с Сюнсё, Бунтё и Утамаро. Теперь не было конкурентов. Киёнага был вне сравнения. Стал манерничать. Необычайно удлиняя фигуры, воображал, будто всех превосходит в изяществе. Натуру перестал изучать. Превратился в ремесленника.
Хокусай нарисовал на него злую карикатуру. С беспощадной наблюдательностью представил Киёнагу как маляра, занятого механической работой– окраской колонны в храме. Подписал: «Реставрация храма Тории». Киёнага носил имя Тории Четвертого. Намек был понятен каждому. Бакин пожал плечами. Заметил язвительно:
– Неуместно и несправедливо. Киёнага сейчас лучший мастер. Не в обиду будь сказано, вашим рисункам как раз недостает изящества, которое восхищает у Киёнага. Если изысканность стиля смешит вас, боюсь, скоро станете издеваться надо мной.

Хокусай. Из альбома «Манга».

Хокусай. Борцы. Из альбома «Манга».
– Бакин переписывает древнекитайский свиток… Вы подали прекрасную мысль, – пробовал отшутиться художник.
Он продолжал сотрудничество с Бакином, но личные отношения у них портились. После Касанэ один за другим выходили многотомные романы Бакина с гравюрами Хокусая. И каждый раз триумф. Бакин привык к успехам. Мирился с тяжелым характером своего иллюстратора.
Но вот очередная книжка принята читателями довольно холодно. Поговаривают, Бакин исписался. «В чем дело?» – раздумывал писатель. Дни и ночи он проводил над рукописью. По многу раз переделывал каждую фразу, добиваясь совершенства. Не прощал себе малейшей шероховатости стиля. Не щадил своих слабых глаз. Последнее время они видели все хуже и хуже. И вот… Нет, он уверен – эту книжку написал не слабее, а лучше всех прежних.
Поправляет очки, прикрепленные к ушам шелковым шнурком. Напрягает подслеповатые глаза до боли, вглядываясь в рисунки Хокусая. Сцены, полные движения, – битвы, драки, пытки, убийства. Фигуры в неистовом напряжении. Причудливо изогнутые тела, конвульсивно вздутые мускулы. Лица, искаженные нестерпимой болью, а то – яростной злобой… Дикие животные страсти. Ничего больше.
Бакин начинал злиться. Хокусай не понял идеи его романа. Рисунки – вот причина неуспеха книжки. Нужно их переделать, и второе издание встретят иначе. Бессовестный Хокусай! Нужно с ним объясниться раз и навсегда. Не будет стараться, станет и дальше рисовать что попало – можно найти другого художника.
Волнуясь, поспешил к нему, а Хокусая нет в мастерской. Решительно портится в последнее время. Раньше, бывало, работал не отрываясь. Бакин решил ждать.
– Сегодня учитель вернется скоро. Завтра чуть свет мы отправляемся дорогой Токайдо на запад, – сказал Бакину Хоккэй.
Когда нет Хокусая, Хоккэй в мастерской за хозяина. Любимый ученик.
– Отправляетесь на запад? Зачем это? – спросил Бакин.
– Учитель говорил, ему наскучило Эдо. Хочет отдохнуть среди храмов Киото.
– Отдохнуть? Как это на него не похоже! Что-то странное с ним происходит, – продолжал удивляться Бакин.
Хоккэй ничего больше не хотел рассказывать о намерениях учителя. Показал только огромные связки бумаги:
– Это берем в дорогу. Надеюсь, хватит… – и осекся.
Бакин переменил тему:
– Ну, а ваши собственные дела, молодой человек? Вы, кажется, специализируетесь на суримоно? Правильно делаете, что не разбрасываетесь… Интересно взглянуть на ваше последнее достижение.
Несколько смущаясь, ученик Хокусая выбрал из толстой папки одну гравюру. Бакин поднес ее на секунду к самым глазам. Затем торопливо ощупал. «Он ничего не видит!» – с ужасом подумал Хоккэй и поспешил сказать:
– Право, эта безделица не стоит вашего внимания. Как видите, я попытался воспроизвести здесь в миниатюре картину Мицунобу…
Выяснилось, однако, что Бакин не нуждается в его пояснениях.
– Превосходно отпечатано, – заметил, возвращая гравюру, – хороши сочетания красок. Мне нравится ваш замысел: расположить фигуру с картины великого мастера на фоне ветки. Красавица получилась еще изысканней, чем у Мицунобу. Видно, чувство изящного у вас в крови. В этом вы превзошли своего учителя. Вы, надо полагать, из знатной семьи, молодой человек?
– Нет, говоря по правде, – отвечал Хоккэй. – С учителем я познакомился на базаре. Он торговал перцем, а я – рыбой…
Бакин не смутился:
– Ну, все равно, вы японец, а каждый японец тонко чувствует красоту. Не знаю, поверите ли, но я сам когда-то гадал на базаре…