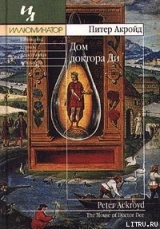
Текст книги "Дом доктора Ди"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Потом они стали болтать, смеяться, отпускать разные замечания, и все это так громогласно и со столь глупым шутовством, что у меня заболела голова; они уже порядком выпили, и тут со мною заговорил франт, сидящий напротив.
«Вы глядите на нас сычом, любезный доктор. Помилуйте. Неужто наш смех оскорбляет вашу непостижимую мудрость?»
«Я жду своей доли жаркого», – был мой ответ.
«А может, вам не по вкусу это местечко? Или компания?»
Мне надоело сносить его колкости. «Нет, сударь, для меня все едино. В тазу, говорят люди, всякая кровь одного цвета».
«Ах, стало быть, вот что говорят люди? Но я вам скажу, что они говорят еще, любезный доктор. Они говорят, что вы гадаете по планетам и звездам, составляете гороскопы и занимаетесь иными предсказаниями. Что у вас в ходу ворожба, нашептывания и амулеты».
«Вы высоко забрались в своих речах, – отозвался я, стараясь сохранить доброе расположение духа. – Что ж, и у самых низких деревьев есть верхушки».
К этому мигу разговоры за столом успели стихнуть, но тут все рассмеялись, и мой франт воспылал гневом. «Я слыхал, что в былые времена, – произнес он, – чародеи и им подобные считались проходимцами».
На стол поставили дымящееся жаркое, и я поймал готовые слететь с моего языка слова, а именно: «Чтоб тебе в аду обезьян нянчить!» Но хотя его друзья сразу же занялись трапезой, этот продолжал исторгать из себя свои жалкие мыслишки. «Я не из числа ваших преданных учеников, – сказал он, – и вы не сможете заморочить меня своими чарами, магическими знаками и анаграммами. Вы велите мне помочиться сквозь обручальное кольцо, чтобы моя жена понесла? Да я лучше буду ходить с вязовым прутиком, чем с вашим дурацким посохом Иакова! Все ваши детские забавы и цацки ничего для меня не значат».
Услыша такую глупость, я рассмеялся, но он по-прежнему пялился на меня, и я отложил хлеб с ножом. «Я бы с легкостью опроверг все ваши безрассудные обвинения, кои вы, несомненно, почерпнули у какого-нибудь болтуна, любителя плести байки. Однако я не расположен спорить на эту тему. Не теперь. И не здесь».
Но он вцепился в меня, будто рак. «Вы, верно, опасаетесь злоумышленников, которые, притаясь под стеной или окном, могут вызнать у вас тайны человеческой души? Однако, сэр, эта лошадь уж давно сорвалась с привязи; у нас в городе многим не по нраву ваши занятия…»
«Злобные и презренные людишки».
«…а кое-кто говорит, что вы вероотступник, воскрешающий мертвых и созидающий новую жизнь».
Я протянул вперед руку и заметил, что она дрожит. Сам того не ведая, он коснулся истины, которая была выше его понимания, и поверг меня в глубочайшую скорбь – но что мог я ему ответить? Стараясь не терять присутствия духа, я улыбнулся. «Только что вы убеждали меня в своем неверии, а теперь толкуете о воскрешении мертвых. Право же, вы как младенец».
«Я передаю чужие слова, любезный доктор. Сам-то я в это не верю. Ходят слухи, что вы неудачливый алхимик, маг, не способный исполнять свои деяния без тайной помощи сами знаете кого».
Мое терпение кончилось. «Это грязная клевета, – сказал я, – в которой нет и золотника правды». Он лишь рассмеялся в ответ, и мой гнев возрос. «Неужто болтовня дураков и измышленья завистников стали для всех вас новым евангелием? Неужто мое доброе имя и слава зависят от людей, стоящих настолько ниже меня, что я их едва замечаю?»
«Напрасно не замечаете».
«Достанет с меня и того, что их нельзя не слышать. Вы жадно внимаете их россказням, и вот вам результат – я исподтишка заклеймен как пособник дьявола и заклинатель злых духов». К этому времени все они уже основательно напились и даже не смотрели в мою сторону – не отвлекался только щеголь напротив. «Всю свою жизнь, – продолжал я уже более спокойно, – я упорно добывал знания. Если вы сочтете меня вторым Фаустом – пусть будет так». Затем я велел подать еще вина и спросил у этого невежи, как его зовут.
«Бартоломью Грей», – ответил он, нимало не смущаясь, хотя лишь секунду назад был свидетелем моего раздражения и, так сказать, уже раз о меня ожегся.
«Что ж, мистер Грей, пожалуй, вы с лихвою наслушались басен. Не желаете ли теперь почерпнуть толику мудрости, дабы вернее судить о вещах?»
«С радостью, любезный доктор. Но, прошу вас, не ешьте больше соли, иначе ваш гнев перехлынет все границы».
«Не страшитесь гнева, мистер Грей, если вам не страшна правда».
«Откровенно говоря, я не страшусь ничего, а потому продолжайте».
«В теченье последних тридцати лет, – начал я, – пользуясь разными способами и посещая многие страны, с превеликим трудом, ревностью и усердием стремился я овладеть наивысшим знанием, какое только доступно смертному. Наконец я уверился, что в сем мире нет человека, способного открыть мне истины, коих жаждала моя душа, и сказал себе самому, что искомый мною свет может быть обнаружен лишь в книгах и исторических записках. Я не составляю гороскопов и не ворожу, как вы легкомысленно полагаете, но лишь пользуюсь мудростью, которую накопил за все эти годы…» Я сделал паузу и отхлебнул еще вина. «Однако для вящей складности повествования мне следует начать с начала».
«Да-да, цельтесь в белую мишень, – сказал он. – Перед вами tabula rasa».
«Мои родители были достойными людьми, снискавшими немалое уважение соседей, ибо отец мой служил управителем в поместье лорда Гравенара. Последыш в семье – все остальные дети были гораздо старше, – я, как говорят, держался особняком и играл в полях близ нашего старинного дома в восточном Актоне. Нет нужды упоминать о поразительной несхожести ребячьих натур – ведь и самый дух состоит из многих различных эманаций, – но я обладал характером замкнутым и возвышенным: играл всегда в одиночку, сторонясь товарищей, как назойливых мух, а когда отец взялся учить меня, сразу полюбил общество старых книг. Не достигнув и девятилетнего возраста, я уже овладел греческим и латынью; бродя меж изгородей и дворов нашего прихода, я с наслажденьем повторял по памяти стихи Овидия и периоды Туллия. Я читал овцам „Словарь“ Элиота, а коровам „Грамматику“ Лили, а затем бежал восвояси, дабы углубиться в труды Эразма и Вергилия за своим собственным маленьким столиком. Конечно, я делил комнату и ложе с двумя братьями (оба они теперь покоятся в земле), но родители понимали мою любовь к уединенности и преподнесли мне ларец с замком и ключом, где я хранил не только одежду, но и книги. Был у меня и ящичек, в коем я прятал свои записи и многочисленные стихи собственного сочинения – отец рано обучил меня письму.
Я вставал в пять часов утра и спешно ополаскивал лицо и руки, слыша зов отца: «Surgite! Surgtie!» [12]12
Подъем! Подъем! (лат.).
[Закрыть] Все домашние молились вместе, а затем он отводил меня в свою комнату, где я упражнялся в игре на лютне: мой отец неустанно пекся о том, чтобы я овладел мастерством музыканта, и благодаря ежедневным занятиям я весьма преуспел в пении и игре на различных инструментах. К семи мы собирались за общим столом, на котором уже стоял завтрак – мясо, хлеб и эль (в ту пору называемый пищею ангелов); после трапезы я садился изучать правила грамматики, стихотворной импровизации, толкования иноязычных текстов, перевода и тому подобного. Моими товарищами по детским играм были Гораций и Теренций, хотя уже тогда я питал глубокий интерес к истории своей страны и начиная с ранних лет искал подлинной учености, а отнюдь не пустых забав.
Однако вскоре настало время подыматься в иную сферу, и в месяце ноябре года от Рождества Христова 1542-го отец отправил меня в Кембридж для занятий логикой, при посредстве коей я мог бы и далее овладевать высокими искусствами и науками. Тогда мне было около пятнадцати лет, ведь я появился в сем мире тринадцатого июля 1527 года…»
«Рождение ваше, – весьма внезапно заметил Бартоломью Грей, – угодило не на свое место, ибо ему надлежало быть в начале повествования. Любовь к порядку есть такой же неотторжимый признак тонкого ума, как и способность открывать новое. Уж конечно, столь искушенному ученому это должно быть известно?»
Я пропустил его дерзость мимо ушей и продолжил, рассказ. «Почти все эти годы я так рьяно стремился к знаниям, что неизменно соблюдал один и тот же режим: спал еженощно лишь по четыре часа, два часа в день отводил на еду и питье, а все прочие восемнадцать (за исключением времени, потребного на молитву) тратил на чтение и научные штудии. Я начал с логики и прочел „De sophisticis elenchis“ и „Topic“ Аристотеля, а также его „Analytica Prioria“ и „Analytica Posteriora“ [13]13
«О софистических опровержениях», «Топика», «Первая аналитика», «Вторая аналитика» (лат.)
[Закрыть]; но моя жажда знаний была столь велика, что вскоре я обратился к другим ученым трудам как к источнику чудного света, коему суждено сиять вечно и никогда не померкнуть. Меня нимало не соблазняли развлечения моих товарищей по колледжу; я не находил радости в попойках и разврате, костях и картах, танцах и травле медведей, охоте и игре в шары и прочих бессмысленных городских увеселениях. Но хотя я терпеть не мог шаров и примеро [14]14
Старинная карточная игра типа покера
[Закрыть], у меня была шахматная доска и кожаный мешочек с фигурами; я передвигал их с клетки на клетку, вспоминая свою собственную судьбу вплоть до сего мига. Я брал фигуры, выточенные из слоновой кости, поглаживал их пальцем и размышлял о том, что монархи и епископы [15]15
Шахматный слон по-английски называется епископом (bishop)
[Закрыть] – не более чем муравьи для человека, могущего предсказать их перемещения.
Спустя семь лет я получил степень магистра искусств, а почти сразу же после того покинул университет и перебрался в Лондон, дабы продолжить свои философские и математические занятия. До меня дошли слухи о бедном ученом джентльмене по имени Фердинанд Гриффен; он посвятил научным изысканиям много лет и мог бы (как говорили люди, осведомленные о моих собственных пристрастиях) научить меня обращению с астролябией и прочими астрономическими инструментами, что было бы естественным продолжением моих геометрических и арифметических штудий. Его старый дом находился во владениях лондонского епископа, в тупичке неподалеку от реки, близ Сент-Эндрю-хилл…»
«Я знаю, где это, – сказал он. – У стекольной мастерской на Аддл-хилл».
«Чуть западнее». Я освежился еще одним глотком вина. «Я пришел к нему в середине лета 1549 года и застал его за работой; он управлялся со своими глобусами и сосудами проворно, как юноша. Он ласково приветствовал меня, ибо уже ожидал моего прибытия после нашего обмена несколькими учеными письмами, и не мешкая показал мне кое-какие редкие и искуснейшим образом сделанные приборы, на которые (по его словам)ушли вся его жизнь и состояние, а именно: отличный квадрант пятифутового диаметра, превосходный radius astronomicus, на вертикальную и поперечную рейки коего были весьма хитроумным способом нанесены равные деления, чудесную астролябию и большой металлический глобус. Вот так случилось, что Фердинанд Гриффен стал моим добрым наставником и вместе с ним я всерьез занялся астрономическими наблюдениями, неустанно пользуясь чрезвычайно тонкими и чрезвычайно удобными приборами, с каковыми он научил меня обращаться бережно и умело. Мы начали определять – зачастую с точностью до часа и минуты – порядок смены различных влияний и воздействий небесных тел на нашу часть мира, где властвуют стихии..»
Здесь я прервал речь, убоявшись сказать слишком многое человеку, не сведущему в сих областях знания, в замешательстве опорожнил свою кружку с вином, а затем перешел на другую тему.
«Река протекала так близко от его дома, что мы брали с собой квадрант и спускались по Уотер-лейн к пристани Блэкфрайарс, а там кричали проходящим мимо баржам и рыболовным судам: „На запад! На запад!“, покуда кто-нибудь из корабельщиков не замечал нас. Затем мы переправлялись на открытые поля близ Ламбетской топи и, установив квадрант на твердой почве, наблюдали за движением солнца. Перемещаясь туда-сюда со своим громоздким квадрантом, мы частенько едва не сваливались вверх тормашками в Темзу, но всегда успевали выскочить на сухой берег. Разве под силу воде утопить в себе солнечный инструмент? Нет, не бывать тому никогда. Наши измерения дали иным злобным горожанам повод называть нас чародеями или колдунами, но Фердинанда Гриффена это нисколько не волновало, и с тех самых пор я перенял у него уменье презирать невежественную толпу и не прислушиваться к ее речам. Он оказался для меня прекрасным наставником и во многих прочих отношениях – это был истинный волшебник во всем, что касалось книг, ученых трудов, диалогов, изобретений и суждений о различных важных вопросах. Вы заявляете, будто я воскрешаю мертвых; нет, я созидаю новую жизнь…» Тут я снова умолк, опасаясь, что затронул чересчур серьезный предмет, но Бартоломью Грей лишь поковырял в зубах да кликнул человека, велев подать еще вина. «Затем, – присовокупил я, – мне довелось отправиться за море, дабы побеседовать и обсудить кое-что с другими учеными мужами».
«Колдунами? – невпопад отозвался он; видимо, хмель уже поглотил последние крохи его разума. – Чародеями?»
«Они не имели ничего общего с тем, что невежды называют колдовством». Я отпил еще вина, дабы загасить пламя в груди. «Я занимаюсь дивными науками, кои проясняют наш слабый взор и позволяют увидеть божественную мощь и благодать во всем их великолепии. Я – ученый, сударь, а не какой-нибудь колдунишка или шарлатан. Чьим мнением, как не моим, интересовались при дворе, услыша глупые предвещания неких так называемых астрономов о громадной комете 1577 года, посеявшие величайший страх и смуту? А кто снабдил наших корабельщиков верными картами и таблицами, позволившими им предпринять путешествия в Катай [16]16
Катай – старинное название Китая.
[Закрыть] и Московию и затеять торговлю с сими дальними странами? Кто, наконец, познакомил ремесленников нашего королевства с евклидовыми законами, кои принесли им неизмеримую пользу? Все это сделал я, и только я. Разве шарлатаны способны на такое?»
«О Боже, – сказал он, охмелевший до последней степени. —Я не понимаю ни одного вашего слова».
«Зато я понимаю. Я посвятил изучению наук целых пятьдесят лет – Господи, сколько же было содеяно и пережито в этой безоглядной погоне за мудростью! Помните ли вы случай, когда в поле у здания „Линкольнс инн“ [17]17
Одна из лондонских юридических корпораций.
[Закрыть] была найдена восковая фигурка с толстой булавкою в груди?» Кажется, он мотнул головой, но меня уже подхватило потоком слов. «Гнусные клеветники пустили слух, что фигурка – моих рук дело и что я пытался злыми чарами извести королеву Марию. Все это мерзкая ложь, безумные измышления, однако я много недель оставался узником Тауэра, а двери моего лондонского дома были забиты, и я едва перенес муки, причиненные мне сей несправедливой карой. Ладно, ладно, сказал я себе, мои жестокие соплеменники, мои бессердечные соплеменники, мои неблагодарные соплеменники, теперь я знаю вас и знаю, что я должен делать. В последние годы ходила молва, будто я лишаю землю плодородия, будто я занимаюсь ночными грабежами, – какой только грязью меня не обливали! Но знаете, что самое худшее? Что я вынужден зарабатывать на жизнь у такого вот Натаниэла Кадмана, угождая охочей до зрелищ толпе». На миг я замолчал, однако никто более не слыхал моей жалобы. «Ну вот, мистер Грей. Теперь вам известно, сколько я претерпел тычков, обид и уязвлений. Прошу вас не умножать их числа».
Здесь он немного смутился, однако тут же отхлебнул еще вина и высоким, но не лишенным приятности голосом затянул куплет из песни «Судьбинушка-судьба»:
Луна – моя подружка,
А филин – братец меньший,
Мою тоску поймет дракон
Да черный ворон вещий .
«Я возьму этот напев себе в спутники, – промолвил я, – ибо мне пора покидать вас, джентльмены, и отправляться домой…» Я оглядел своих сотрапезников, в разной степени расслабленных хмелем. «Мне надо отдохнуть после представления».
«Я был поражен, – сказал один из них, уставясь в свой кубок, – когда увидел сферы, окруженные сиянием. И все вращалось. Это было отменно сделано. Право, отменно сделано».
«Желаю вам доброй ночи, – повторил я. – Мне следует вернуться в свою собственную сферу». Я поклонился Натаниэлу Кадману, который не мог оторвать от стола головы и сидел скрючась, как самый несчастный пьяница. «Желаю вам всем доброй ночи».
Предшествуемый слугой с фонарем, я вышел на Нью-Фиш-стрит, а затем отослал мальчишку прочь. Ночь выдалась ясная, и чтобы найти дорогу в Кларкенуэлл, мне было вполне довольно света неподвижных звезд.
2
Я решил прогуляться по ночному городу. Уже покинув кладбище и идя в направлении старого дома, я вдруг замедлил шаг и остановился. Я не хотел возвращаться на Клоук-лейн, по крайней мере пока, и, как частенько бывало прежде, решил побродить по извилистым лондонским улочкам. Мне больше нравится город, погруженный во тьму; тогда он открывает мне свою истинную природу, под которой я, наверное, разумею его истинное прошлое. В дневные часы над ним властвуют его временные обитатели, среди которых так легко раствориться и затеряться. Поэтому днем я держусь в стороне. Например, представляю себе, будто люди вокруг одеты по моде какого-нибудь минувшего столетия, хотя и понимаю, что это чистый каприз. Но бывают случаи, когда чей-либо вид или жест мгновенно переносит меня назад во времени; похоже, тут работает некий избыток генетической памяти, так как я знаю, что передо мной средневековое или елизаветинское лицо. Когда из альпийского ледника было извлечено тело упавшего ничком и замерзшего неолитического путешественника, все сочли это уникальным подарком судьбы, позволившим заглянуть в прошлое. Но прошлое возрождается рядом с нами постоянно, в телах, которыми мы владеем, или в словах, которые произносим. А иные сцены или ситуации, замеченные однажды, словно сохраняются навеки.
Нет, это неверно. Уже в миг своего возникновения они становятся частью непрерывно текущей истории, и, как я уже говорил, бывают случаи, когда я иду по сегодняшнему Лондону и узнаю в нем то, что он есть: город другого исторического периода со всеми его таинственными условностями и ограничениями. Я часто слышал от отца одну фразу: «Видеть в вечности временное, а во времени вечное». Как-то раз я наткнулся на снимок Уайтхолла, сделанный в 1839 году, и он помог мне понять ее смысл; на снимке был изображен мальчонка в цилиндре наподобие печной трубы, растянувшийся под уличным фонарем, а через дорогу от него стояли в ряд двухколесные кебы. Все здесь дышало вечностью, и даже грязь на мостовой словно излучала сияние. Но это же чувство я испытываю и сейчас, когда, выйдя с кладбища, вижу вон ту женщину, открывшую дверь на улицу, и одновременно слышу выхлоп автомобиля, который проезжает где-то неподалеку. Такие вещи исчезают и вместе с тем как бы существуют вечно.
Я миновал Кларкенуэлл-грин и углубился в Джеру-салем-пассидж. Неоновые часы, висящие на одном из зданий, показывали уже почти полночь; с минуту я смотрел, как они раскачиваются на ветру и цифры горят на их циферблате. В четырнадцатом веке очень высоко ценился необычный камень под названием «садастра». Снаружи он был черный или темно-коричневый, но, будучи расколот, в течение нескольких мгновений сиял как солнце. Мне подумалось, что это сияние могло быть сродни сиянию неоновых цифр, которые сейчас привлекли мой взор. Поблизости находились два-три человека; их бледные лица отсвечивали в оранжевых лучах фонарей, и казалось, что они бесшумно плывут над тротуарами. Я покинул Джеру-салем-пассидж, пересек Кларкенуэлл-роуд и вступил под арку монастыря Св. Иоанна Иерусалимского. Здесь лежал кусок фундамента, отмечающий местоположение аббатства тамплиеров, возведенного в двенадцатом веке и разрушенного в годы Реформации. Несомненно, камни, из которых оно было сложено, пошли на постройку кое-каких больших домов по соседству (парочка этих глыб вполне могла покоиться и в стенах моего собственного дома), однако они были печальными памятниками великой катастрофы. Так полагал Дэниэл Мур, и теперь я согласен с ним в том, что разрушение богатейших монастырских библиотек со всеми их рукописями и другими сокровищами привело к возникновению огромного пробела в истории нашего острова. Мало того что была стерта с лица земли целая католическая культура – не менее чреватой последствиями оказалась и гибель древних монашеских летописей, относящихся к раннему периоду британской истории. Одним махом было покончено со всей разветвленной структурой, на которой держалось прошлое.
Но что это за шум у Холборнского виадука? Словно бы глубоко из-под земли донесся чей-то яростный вопль; он был глух, метался и бился в некоем тесном пространстве. Потом я свернул за угол, на Гилтспер-стрит, и заметил старуху, скрючившуюся в телефонной будке; она прижимала к лицу трубку и что-то кричала в микрофон. Я продолжал шагать в ее сторону и вскоре увидел, что на приклеенной к стеклу бумажке написано: «НЕИСПРАВЕН». Так с кем же она говорит? Помню, однажды мне надо было позвонить по телефону со станции «Ченсери-лейн»; сняв трубку, я услышал гул множества голосов, точно вой ветра за окном. Может быть, на другом конце линии всегда кто-то есть. Нет, все это чепуха. Ночные прогулки иногда порождают в душе необъяснимые страхи. Крышу жилого дома на углу Сноу-хилл венчала маленькая параболическая антенна; пока я глядел на нее, принимающую с неба сигналы, мне снова померещилось, будто над Клоук-лейн взмыл вверх силуэт человека.
«А! Это ты? Явился наконец?» Старуха вышла из телефонной будки и теперь кричала мне вслед. Я быстро зашагал прочь. «Знаешь, откуда на тротуарах столько дерьма? Это не собаки гадят. Это старики-пенсионеры». Она захохотала, а я все торопился дальше, к Феттер-лейн и Хай-Холборн. На первом этаже доходного дома Дайера есть магазинчик видеотехники; спеша к нему, я видел на дюжине экранов одно и то же изображение; там было столько света и энергии, что сама витрина, казалось, вот-вот полыхнет огнем и разлетится вдребезги. Когда я подошел еще ближе, оглядываясь, дабы удостовериться, что старуха меня не преследует, я стал различать на экранах множество несущихся куда-то звезд и планет. Видимо, это был один из тех эффектных научно-фантастических фильмов, которые снимались в семидесятых и начале восьмидесятых годов; рядом с витриной, целиком поглощенный зрелищем космического полета, стоял какой-то юноша. Он уперся руками в толстое стекло; создавалось впечатление, будто он распят на этом сияющем фоне. Я хотел сказать ему, что все здесь обман, кинематографические трюки, но для него это, возможно, было истинной картиной вселенной. Я ничего не сказал и прошел мимо.
Мне памятен тот день, когда я впервые начал понимать Лондон. Подросток лет пятнадцати-шестнадцати, я ехал на автобусе, идущем из Шепердс-Буша в Далидж; небо над Ноттинг-хилл-гейт и Куинзуэем было затянуто облаками, но вдруг в них открылась брешь и вырвавшийся оттуда солнечный луч упал на металлический поручень передо мной. Это ослепительное сверкание точно заворожило меня; вглядываясь в глубины света и сияющего металла, я ощутил такой необыкновенный восторг, что не смог усидеть на месте и выскочил из автобуса, когда он остановился у Мраморной арки. Я чувствовал, что меня посвятили в какую-то тайну – что я краем глаза увидел ту внутреннюю жизнь и реальность, которая скрывается во всех вещах. Я подумал о ней как о мире огня; поворачивая на Тайберн-Уэй, я верил, что смогу найти его следы повсюду. Но этот огонь был и во мне самом, и я обнаружил, что бегу по улицам, словно они – моя собственность. Каким-то неведомым образом я присутствовал при их рождении; вернее, внутри меня самого было нечто, всегда существовавшее в здешней почве, здешних камнях и здешнем воздухе. Теперь этот изначальный огонь покинул меня; должно быть, потому-то я и кажусь самому себе чужаком. Постепенно, с течением лет, город внутри меня померк.
Однако есть места, куда я возвращаюсь до сих пор. Временами меня тянет спуститься по Кингсленд-роуд и постоять у старой Хокстонской лечебницы для умалишенных рядом с Уорф-лейн; именно сюда, по ее собственной просьбе, Чарльз Лэм приводил свою сестру, и однажды я попытался пройти по их следам через поля, скрытые теперь под каменными мостовыми прилегающих улиц. Она всегда приносила с собой смирительную рубашку, и они плакали, добравшись до ворот лечебницы. Я останавливаюсь там, где стояли они, прямо перед входной аркой, и шепчу свое собственное имя. Бываю я и на Боро-Хай-стрит; я прохожу по ней от Саутуоркского моста до зданий бывшей Королевской тюрьмы и Маршалси [18]18
Маршалси – старинная лондонская долговая тюрьма
[Закрыть] и, хотя эта прогулка всегда дается мне очень тяжело, неизменно повторяю ее снова и снова. Были случаи, когда я бродил по этому району до изнеможения, теряя ориентацию и способность думать. Я хотел, чтобы Старый город похоронил меня в себе, чтобы он стиснул меня и задушил. Неужели среди темных теней его прошлого не нашлось бы ни одной, способной поглотить меня? Однако не все мои путешествия сопровождались такими гнетущими чувствами. Было одно чудесное место, где меня всегда ожидал покой: я опять и опять возвращался на Фаунтин-корт в Темпле – там, рядом с маленьким круглым прудиком, под вязом, стояла деревянная скамейка. Ощущенье покоя здесь, в центре города, было настолько глубоким, что казалось мне порожденным каким-то важным событием минувших времен. А может быть, сюда год за годом приходили люди вроде меня и само место переняло спокойствие своих посетителей. Я часто думаю о смерти как о похожем состоянии – словно я чего-то жду рядом с вязом и прудом. Моего отца близкая смерть не пугала, а, наоборот, чуть ли не радовала: помню, как он насвистывал в ванной, уже зная, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он никогда не сокрушался, не жалел себя и не выказывал признаков беспокойства. Складывалось впечатление, будто ему известно кое-что о следующем этапе пути; как я упоминал, он был католиком, однако столь глубокую уверенность ему, похоже, придавали некие более личные убеждения. И вновь, выйдя с Хай-Холборн на Ред-Лайон-сквер, я задумался об унаследованном мною старом доме. Почему ни одна из прогулок по городу не привела меня на Клоук-лейн или в ее окрестности? Почему я избегал Кларкенуэлла или позабыл о нем?
Я достиг обломка каменной колонны, поставленной на Ред-Лайон-филдс в память об июньской резне 1780 года; в дни Гордоновских бунтов солдаты убили здесь несколько детей, а три месяца спустя Джон Уилкс объявил о сборе средств на этот памятник. Камень уже так растрескался и выветрился, что смахивал на кусок обыкновенной скалы, подточенной временем; но, повинуясь внезапному порыву, я стал на колени и дотронулся до него. В конце концов, меня связывало с этим местом и еще кое-что. Всего в нескольких ярдах отсюда, на углу Ред-Лайон-пассидж, я впервые увидел работы Пиранези. Альбом с его гравюрами, купленный мной у лоточника, назывался «Фантазии на тему темниц», но, по-моему, там не было ровно ничего фантастического. Я сразу узнал этот мир; я понял, что это и есть мой город.
Я принес книгу домой; хотя с тех пор минуло уже лет шесть или семь, я и сейчас помню, с каким восторгом переворачивал ее страницы. На первой гравюре были изображены две маленькие фигурки перед гигантской каменной лестницей; их окружал сплошной камень, взвихряющийся галереями, арками и куполами. Мир Пиранези был миром бесконечных каменных руин, запутанных переходов и заколоченных окон; здесь были каменные глыбы, тяжелые, мрачные, чьи контуры тонули в тени; здесь были гигантские кирпичные ниши, огромные полотнища из рваной ткани, веревки, блоки и деревянные краны, устремленные ввысь, к расколотым каменным балконам. Художник часто использовал обрамление в виде разрушенной арки или ворот – оно вовлекало меня в картину, и я ощущал себя ее частью; я тоже был в тюрьме.
Все тут выглядело брошенным: мост, повисший над пропастью меж двух наполовину уцелевших башен, гнилые стропила, разбитые окна, массивные портики с полустертыми надписями, которые уже нельзя было прочесть. Цивилизация великанов-строителей пришла в упадок и погибла, оставив после себя эти монументы. Но нет, так быть не могло. Здесь чувствовалась несокрушимая мощь, живая сила. Смерть не имела над ней власти; она была присуща самому этому миру. Я глядел на последнюю гравюру с изображением расплывчатой фигурки, поднимающейся по каменной лестнице лишь ради того, чтобы очутиться лицом к лицу с очередным неприступным каменным бастионом. Мне казалось, будто в этой крошечной фигурке есть что-то от меня самого; и вдруг моего плеча коснулся отец. Видимо, он уже наблюдал за мной некоторое время, потому что мягко заметил: «Знаешь, ведь все может быть и по-другому». Больше он ничего не сказал и, стоя сзади, положил ладонь мне на шею. Я стряхнул его руку и снова вперился в гравюру, обнаружив там еще один лестничный пролет, ведущий вниз, в какую-то каменную бездну. Тогда мне и пришло на ум, что город этот в действительности подземный. Вечный город для тех, кого поймало в свою ловушку время. Я все еще стоял на коленях перед памятником на Ред-Лайон-сквер, но вместе с тем словно входил в каменную стену полуподвала на Клоук-лейн. Я становился частью древнего дома.
Быстро поднявшись, я отряхнул одежду от грязи и зашагал в направлении Нью-Оксфорд-стрит и Тотнем-корт-роуд. Совсем рядом с Блумсбери-сквер есть клочок булыжной мостовой, где поставили несколько новых телефонов «Меркьюри», и в темноте я наткнулся на них. «Лондонский камень не такой, – заметил Дэниэл Мур, когда я показал ему „Фантазии на тему темниц“. – Прежде чем смотреть на Пиранези, надо выучить итальянский». Я хотел поделиться с ним своим восторгом, но он взирал на репродукции едва ли не с отвращением. «Он сентименталист, – сказал Мур, – а не провидец». – «Но разве ты не видишь, как тут пустынно?» – «Нет. На самом деле это не так. Может, ты и видишь только камень, ну а я вижу людей. Думаешь, почему я пишу свою книгу?» Эта книга, над которой он работал в течение всего нашего знакомства, была историей лондонского радикализма. Как-то он рассказал мне о ней в своей обычной застенчиво-пренебрежительной манере, но я запутался во всех этих магглтонианцах, «болтунах», беменистах и членах «Лондонской эпистолярной группы [19]19
Лондонские религиозные секты XVII – XVIII веков
[Закрыть], и они стали казаться мне представителями одной гигантской секты или сообщества. Однако Мур души в них не чаял – этот придирчивый, утонченный человек был одержим идеями некоторых беспокойных, даже опасных лондонцев. Однажды он взял меня на прогулку по тавернам и молитвенным домам, где они собирались; таких мест осталось мало, большей частью на востоке Лондона в районе Лаймхауса и Шадуэлла, и они выглядели до того жалкими, до того запакощенными, что трудно было связать с ними прозрения и мечты их прежних посетителей. Насколько я понял из объяснений Дэниэла, беменисты верили, будто мужчины и женщины носят рай в себе и весь мир имеет облик одного человека; его называли Адамом Кадмоном, или Человеком-Вселенной. Не то чтобы весь космос представлялся им в виде человеческой фигуры – хотя были радикалы, последователи Сведенборга, которые считали, что это именно так и есть, – скорее, они наделяли наш мир и всю бытийствующую вселенную человеческими чертами. Мы зашли в «Семь звезд» на Эрроу-лейн, где в начале восемнадцатого века встречались моравские братья, и Дэниэл поведал мне историю о некоем мистике и маленькой девочке, которая все время просила его показать ей ангелов. Наконец он согласился, привел ее к себе в дом и поставил перед задрапированной нишей. «Ты действительно хочешь увидеть ангела?» – спросил он. Она упорствовала в своем желании, и тогда он отдернул занавесь; на стене за нею висело зеркало. «Гляди сюда, – сказал он. – Вот тебе ангел». – «Очаровательная история, Мэтью, не правда ли?» – «О да». – «Но ты заметил, насколько это в духе радикалистов? Самое смиренное существо может быть исполнено благодати. Божественное заключено внутри нас, а греха не существует вовсе. Нет ни рая, ни ада».








