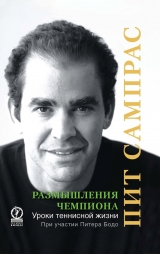
Текст книги "Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни"
Автор книги: Пит Сампрас
Соавторы: Питер Бодо
Жанры:
Спорт
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В третьем круге я провел поистине эпическое сражение с моим приятелем Тоддом Мартином, дожав его в пятом сете, 6:4. А потом победил традиционно неудобного для меня противника – Ги Форже.
В четвертьфинале Александр Волков из России играл со мной так, будто боялся опоздать на самолет. Не припомню, чтобы кто-нибудь еще столь недвусмысленно слагал оружие, а ведь это был четвертьфинал турнира «Большого шлема»! Хотелось бы думать, что он пал духом, поскольку не видел ни единого шанса выстоять именно против меня, но подлинная причина таится глубже. Есть парни, подобные отлаженным гоночным машинам. Они быстры и надежны в знакомой, комфортной для них обстановке, но могут внезапно «слететь с трека», если утратят уверенность или столкнутся с какой-нибудь необычной ситуацией.
В полуфинале я быстро, в четырех сетах, справился с Джимом Курье и оказался во втором за мою карьеру финале Открытого чемпионата США. На сей раз, однако, пришлось иметь дело уже не с ровесником. Против меня играл бывалый, закаленный, на редкость хладнокровный соперник, с боем проложивший себе дорогу в финал, – Стефан Эдберг из Швеции.
Между мной и Эдбергом было много общего – замкнутость, стеснительность, приверженность старой школе тенниса. Хотя Стефан вырос в Швеции, он устремился против течения в этом царстве грунтовых площадок, подобно мне переключившись на одноручный удар слева, поскольку хотел играть в атакующий теннис.
Эдберг тоже рано проявил свое дарование, но несколько иначе, чем я. Он выиграл «Большой шлем» в юниорском разряде «восемнадцать лет и младше». Став профессионалом, он преодолел трудности вроде тех, которые я неосознанно переживал в 1992 г., и одержал победу на Открытом чемпионате США, позволившую ему встать в ряды великих игроков и полностью раскрыть свой талант. В отличие от меня (с моим «тяжким бременем») Стефана неотступно преследовала фраза журналистов об отсутствии «пламени в сердце»: в начале карьеры его часто упрекали в недостатке инстинктивного, жгучего желания побеждать.
Как назло, я встретился с Эдбергом именно в то время, когда он доказывал, что критики ошибаются. В предшествующем году он завоевал мой бывший титул на Открытом чемпионате США, с безупречным мастерством продемонстрировав в трех сетах несостоятельность прямолинейной игры Курье.
Этот прорыв положил конец пересудам об отсутствии «пламени в сердце», поскольку без должного настроя еще никто не выигрывал Открытый чемпионат США – исключительно напряженные, изматывающие состязания. А европейским игрокам здесь трудно вдвойне. Многие из них так и не смогли приспособиться к нашим условиям: удушающая влажность и жара, невыносимо нагретое покрытие кортов, хаотичная, навязчивая нью-йоркская атмосфера.
Даже на отъявленных скептиков произвели впечатление «подвиги» Эдберга, защищавшего свой титул чемпиона США на «Флашинг Медоуз» в 1992 г. В последних трех матчах перед финалом он доходил до тай-брейка в пятом сете и выигрывал у соперников высшего уровня: Ричарда Крайчека, Ивана Лендла и Майкла Чанга. Полуфинальная встреча с Майклом остается одним из величайших матчей всех времен – если не по качеству игры, то по напряжению. Она длилась пять часов двадцать шесть минут и стала новым рекордом продолжительного матча в истории Открытого чемпионата США.
Высокий и стройный, Эдберг превосходно двигался. Он виртуозно выполнял свою крученую подачу с высоким отскоком и бежал после нее к сетке, где великолепными ударами с лета перехватывал почти все ответные обводящие удары. Он мог озадачить соперника, приняв подачу сильным резаным или плоским ударом, проворно устремиться вперед и закончить розыгрыш очка ударом с лета. Быстрая атака с завершающим ударом с лета – вот вам вкратце суть его игры.
Если сопоставить меня с Эдбергом, то вывод очевиден – мы оба предпочитали атаковать. Мне казалось, что я имею преимущество в мощи, особенно на подаче, а при приеме совершаю меньше ошибок, чем он со своим не столь сильным ударом справа.
Готовясь к матчу, я знал, что должен стараться принимать его подачи в верхней точке, ударом сверху вниз так, чтобы мяч как можно быстрее опускался за сеткой. На тренировках я подпрыгивал выше уровня отскока крученой подачи, чтобы отразить ее сверху вниз плоским ударом. С таким игроком, как Стефан, я не мог позволить себе слишком долго раздумывать, куда именно направить ответный удар. Главное – это просто низкие удары при приеме, которые заставят его поднимать мяч над сеткой, после чего легче выполнить обводящий удар. Кроме того, я собирался как можно чаще использовать свой мощный удар справа и подавать достаточно хорошо, чтобы не предоставлять ему возможности атаковать и выходить к сетке после приема. Я решил терпеливо ждать тех благоприятных, пусть и немногочисленных, возможностей, которые (если только их не упускать) способны обернуть ход матча в мою пользу.
Утром перед финалом я проснулся в прекрасном настроении. Ведь я уже сделал немало – оказался в финале Открытого чемпионата США. Я был вполне доволен собой и, вероятно, именно потому нисколько не волновался, радуясь, что дошел до финала.
В тот день дул сильный ветер, непривычно громко посвистывая в чаше арены имени Луи Армстронга. Еще один фактор действовал против меня – небольшие спазмы в животе, результат недавнего пищевого отравления. Но я не обращал на это внимания в соответствии с австралийским правилом: коль скоро вышел на матч, нечего заранее искать оправданий для проигрыша! К тому же моя игра гораздо меньше зависела от физического состояния, чем от настроя мыслей и эмоций.
Начал я мощно и выиграл первый сет. Но потом завязалась упорная борьба. «Обновленный» Стефан Эдберг показал себя во всем великолепии. Он играл неистово, потрясал кулаками, вопил – словом, делал все, дабы продемонстрировать свой «сердечный пламень». Второй сет он выиграл. В критический момент матча – на тай-брейке в третьем сете – я весьма несвоевременно проиграл две собственные подачи, и Эдберг повел 6:4, получив два сетбола. Стефан выиграл сет и довел свое преимущество до двух сетов против одного, а затем я проиграл две свои подачи в начале четвертого сета. В один миг счет стал 3:0 в пользу Эдберга. Остаток матча я вяло пытался сделать хоть что-нибудь, но руки у меня уже опустились.
Потом я сказал на пресс-конференции: «По ходу матча я затрачивал слишком много энергии. Я очень сильно устал – возможно, скорее умственно, нежели физически».
И хотя на этот раз я говорил вроде бы искренне, в моих словах правда причудливо сочеталась с лукавством. Например, у меня имелись объективные физические проблемы – утомление и обезвоживание после отравления, но я предпочел заявить, что устал «скорее умственно». Логика несколько хромала, но этого никто не заметил. Мой ум якобы говорил, что тело ни на что не способно. На самом же деле он должен был твердить ослабевшему телу, что все получится. Короче, я пытался как-то оправдать свою неспособность и нежелание докопаться до сути. А дело было не просто в том, что я играл «погано». Я играл без души – а это грех куда более тяжкий.
Случившееся ошеломило меня и привело в смятение. В течение нескольких недель, пока я восстанавливался после длинного летнего сезона, в моем уме постепенно выкристаллизовалась эта горькая истина.
Вскоре после Открытого чемпионата США мы играли полуфинал Кубка Дэвиса со Швецией на крытых грунтовых площадках Таржет-Сентер в Миннеаполисе. Поскольку грунт не являлся моим излюбленным покрытием, я выступал только в парном разряде – с Макинроем. Мы выдержали настоящее сражение с одной из лучших пар той эпохи – Стефаном Эдбергом и Андерсом Ярридом.
Это был мой первый опыт на Кубке Дэвиса в качестве «специалиста в парном разряде», и меня удивило, насколько понравилось мне новое амплуа.
На большинстве турниров встречи в парном разряде служат своего рода приятной интермедией, но на Кубке Дэвиса, вследствие его формата, они играют ключевую роль. Будучи третьим по счету и единственным в субботу матчем, парная встреча способна сильно повлиять на исход всего соревнования. Для большинства команд, добившихся долговременного успеха в Кубке Дэвиса, краеугольным камнем служила превосходная пара. Когда счет в матче 1:1 (а так часто бывает после первых одиночных встреч в пятницу), изменить его на 2:1 – очень важное достижение.
Ни мой энтузиазм, ни игра нисколько не страдали от того, что моим партнером был Макинрой. Помнится, когда Питера Флеминга, долгое время выступавшего в паре с Макинроем, попросили назвать лучшую пару всех времен, он остроумно ответил: «Джон Макинрой и кто угодно в придачу».
Далее нас ожидал финал 1992 г. с командой Швейцарии на крытых кортах с твердым покрытием в Форт-Уорсе (Техас). Гормэн (видимо, еще не забывший о Лионе) предпочел не рисковать. Он поставил Курье и Агасси, демонстрировавших тогда великолепную игру, в одиночный разряд, а меня – в парный, и вновь с «Джонни Маком».
Меня это вполне устраивало. Андре зарекомендовал себя как великий игрок Кубка Дэвиса в одиночном разряде. Он настоящий сгусток эмоций, и никто не умеет так подогреть энтузиазм болельщиков. Джим тоже был избран по заслугам – настоящий боец Кубка Дэвиса, он выкладывался полностью, стойко и исключительно хладнокровно выдерживая любой прессинг. Пожалуй, у нас подобралась лучшая команда на Кубке Дэвиса за все времена, но эта компания отличалась своенравием. На церемонии открытия ведущий предложил нам надеть широкополые туземные шляпы. Это чем-то задело Андре, и он раздраженно фыркнул: «Я эту дурацкую шляпу не надену!» Вопрос о головных уборах техасских ковбоев был закрыт.
Команда швейцарцев состояла всего из двух игроков, зато очень сильных – Якоба Хласека и Марка Россе. Оба превосходно играли на быстрых кортах, что не совсем обычно, поскольку большинство европейцев предпочитают медленный грунт. Поэтому наше преимущество домашних и быстрых кортов оказалось довольно шатким. В этом игровом году Хласек набрал лучшую форму в одиночном разряде, а Россе показывал игру в равной степени мощную и коварную. Он умел подавать с выходом к сетке, хотя его звездный час пробил как раз на медленном грунте несколькими месяцами раньше, когда он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Барселоне.
Андре выиграл первый матч, но затем Россе удалось взять верх над Джимом. Встреча в парном разряде с Хласеком и Россе, предстоявшая Макинрою и мне, внезапно сделалась критически значимой. И когда мы проиграли первые два сета, причем оба на тай-брейках, возникло впечатление, будто крохотная Швейцария способна одержать одну из самых невероятных побед на Кубке Дэвиса – одолеть США, да еще на их территории!
Джон пребывал в типично «макинроевском» расположении духа. Весь матч он подначивал Хласека, человека очень спокойного, почти невозмутимого, который думал только о деле и мог приспособиться к любому сопернику. Джон раздражался и был опасно близок к тому, чтобы выйти из себя. Но зато, в отличие от прочих, после таких эмоциональных вспышек он часто начинал лучше играть.
В первых двух сетах некоторые решения линейного судьи выглядели сомнительно, и в третьем сете Джон, наконец, взорвался после очередного, явно ошибочного, судейского решения. Сперва он обратил свой гнев против судьи на вышке и уже не мог остановиться – накричал на главного судью и на нашего капитана, Гормэна (за то, что тот проявил невозмутимость и «не вступился за нас»). Затем Джон разошелся вовсю и продолжал бушевать из-за любого пустяка, хотя инцидент давно был исчерпан.
В конце концов даже я не выдержал, повернулся к Джону и бросил на повышенных тонах: «Джон, хватит. Вопрос закрыт. Не будем зацикливаться на том, что случилось три гейма назад. Пора дело делать, слышишь?» По неведомой причине моя небольшая вспышка оказала нам двойную услугу. Джон остыл (если не вербально, то эмоционально), а я, напротив, разгорячился. Мы выиграли третий сет и пошли на десятиминутный перерыв, как положено перед четвертым сетом. После перерыва мы вернулись с горящими глазами и с «пламенем в сердцах». Это был тот редкий случай, когда я дал волю чувствам. Я выбрасывал кулак вверх и орал. Макинрой как минимум сотню раз проревел: «Валяй, дави!» Потрясая кулаками и вопя, мы проложили себе путь к победе в пятом сете – может, и не слишком изящной, но принесшей нам ни с чем не сравнимое облегчение.
Хоть в этом матче я и кипел эмоциями, но обычно мы с Макинроем смотрелись как Джекил и Хайд. Я воплощал собой спокойствие и осмотрительность, а Джон – несдержанность и вспыльчивость: всегда был готов взорваться и сцепиться с кем-нибудь. Он не мог иначе, и я это понимал. Мы хорошо дополняли друг друга. Джон подстегивал меня всплесками своих эмоций (пусть это и не было заметно), а я успокаивал его своим самоконтролем (даже если внешне он по обыкновению казался неистовым).
На следующий день, после того как Джим разгромил Хласека и поставил победную точку в матче, я стал чемпионом Кубка Дэвиса. Меня нисколько не смущало, что я играл финал только в парном разряде. Я внес свой вклад за целый год и чувствовал такую гордость, словно играл за Соединенные Штаты в каждой одиночной встрече на протяжении всего нашего пути к победе.
Однако всю осень я мысленно возвращался к проигранному матчу с Эдбергом на Открытом чемпионате. Этот случай не давал мне покоя. Время от времени я думал о том, что давным-давно сказал мне отец в Шривпорте. Да, я прошел в финал Открытого чемпионата США, но что толку? Ведь внимание журналистов, да и всех прочих, досталось другому парню – Эдбергу.
Я начал осознавать, в чем заключался мой главный «прокол»: я не нервничал перед матчем! В теннисе существует два типа нервозности. Есть вредная нервозность, которая может привести к оцепенению, замедлить игровые реакции, лишить дыхания. А есть полезная нервозность. Она служит признаком того, что предстоящий матч действительно для вас важен, что вам не терпится сразиться с соперником, даже если победа отнюдь не обеспечена. Это та самая нервозность, которая у некоторых выдающихся футбольных игроков вызывает желудочные спазмы перед решающей встречей.
А еще я раздумывал, почему в том финале не получилось хорошей игры. Конечно, отчасти виною мог быть ветер. Мое пищевое отравление, видимо, тоже сыграло роль. Но ведь и утомление Стефана после труднейшей дороги к финалу нельзя сбрасывать со счетов. И вот о чем я неотвязно думал: «Если и он, и я играли неважно, то почему победил он?» Ответ вызревал во мне медленно, несколько недель. Впервые я осознал и сумел сформулировать истинную причину: «Я проиграл, потому что опустил руки. И это – свойство моего характера».
Когда реальность предстала передо мной с полной очевидностью, я вынужден был признать, что в двух наиболее важных встречах 1992 г. – в полуфинале Уимблдона с Гораном и в финале Открытого чемпионата с Эдбергом – я, по сути, смирился с поражением, еще не исчерпав до конца свои резервы. Матч с Эдбергом стал соломинкой, переломившей спину верблюда. Я наконец понял, что если сам не позабочусь о себе, то кто это сделает за меня? Две блестящие возможности упущены, и нет никакой гарантии, что они представятся вновь.
Мне больше не нужно прикладывать усилия, чтобы подняться в рейтинге и занять положение, дающее шанс выиграть крупный турнир. Я уже его занял и достиг многого. Мое развитие – и техническое, и физическое – практически завершилось. Я сформировался как игрок (если не считать травяных кортов). Вопрос теперь стоял так: стремлюсь ли я побеждать на главных турнирах? И матч с Эдбергом заставил меня на него ответить. Постепенно я осознал не слишком лестные для меня вещи. Я никому ничего не рассказывал, даже отцу. А ведь это было совсем не трудно. Стоило только начать: «Слушай, я должен признаться: несколько важных матчей я попросту сдал». Но я все загонял вглубь и не получал прощения от самого сурового из судей – от самого себя.
Мой внутренний диалог продолжался около двух месяцев. «Зачем чрезмерно усложнять свою жизнь? Если видишь, что кому-то несладко, зачем уподобляться ему?» На самом деле я был слегка ошеломлен своим стремительным подъемом на теннисные вершины, к тому же испытывал излишнее довольство собственными достижениями. «Почему, – спросил я напоследок, – ты считаешь себя белым и пушистым?»
Несколько лет мне понадобилось, чтобы найти ответ. Вот он – в самом простом изложении. Каждый имеет свое место под солнцем и тратит значительную часть взрослой жизни, чтобы застолбить собственный участок – пространство, где он чувствует себя комфортно. Некоторые, взлетая до номера первого, думают: «Нет, тут мне не нравится – слишком неуютно. Слишком тревожно. Слишком много ответственности». И слегка отступают, находят зону комфорта в районе третьего, пятого номера или еще дальше. Я мог бы последовать их примеру. Некая «часть меня» действительно стремилась к этому в начале моей карьеры. Суть в том, что если вы где угодно, но только не на первом месте, – вы не на виду. При этом можно регулярно выступать на второй неделе основных турниров, время от времени что-нибудь выигрывать, снискать кое-какой почет и деньги – и спокойно жить в полное свое удовольствие.
Честно говоря, не могу объяснить, почему моя беседа с самим собой приняла подобный оборот. Но случилось именно так. Я решил, что наделен великим талантом – и не пекусь о нем. Я награжден Даром, но пренебрегал им – причем именно в тех случаях, когда только он и мог выручить меня. Тесниться в толпе равных – не по мне: я буду томиться и тосковать. Я понял, что главное – не добиться чего-то, а сохранить достигнутое. Заняв свое место, мы не желаем его уступать. Не хотим, чтобы нас кто-нибудь вытеснил. Вот этот настрой, в конечном счете, и делает человека бойцом – полностью сформировавшимся, способным потягаться с кем угодно.
Научить решимости, конечно, нельзя, но ее можно выработать. Она либо свойственна вам, либо нет – это уж каждый определяет сам для себя. И если вы решили стать номером первым, вам придется понять, что больше нельзя ни за кого прятаться. Отныне у вас на спине мишень – и к такой жизни вы должны привыкнуть.
Теперь я был к этому готов. Матч 1992 г. с Эдбергом сделался моим Рубиконом, моей версией известной истории про Мохаммеда Али, однажды ночью швырнувшего свою олимпийскую золотую медаль в реку Огайо. В конце 1992 г. я исполнился решимости грядущий год провести на вершине.
Глава 5
"Скучный" чемпион
1993-1994

В 1993 год я вступил, исполненный решимости впредь не сдаваться до последнего мяча. Я поклялся, что никогда не проиграю важный матч (особенно финал «Большого шлема» или нечто с ним сопоставимое) только потому, что мне не хватило духу сражаться до конца, отдав все силы для победы. Я дал себе слово, и теперь оставалось только сдержать его на корте.
В начале года я уверенно входил в группу ведущих игроков мира и был доволен своей игрой гораздо больше, чем прежде.
Я уступил Эдбергу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (где он, в отличие от меня, всегда был на высоте), но затем выиграл турниры в Филадельфии, Майами, Токио и Гонконге, и впервые за всю мою карьеру компьютер поставил меня на первое место в мировой классификации. Такой взлет отчасти вызывал недоумение: ведь я стал номером первым за счет побед где угодно, но только не на турнирах «Большого шлема». Разумеется, я не мог отвечать за то, как компьютер АТП начисляет очки, но объективно в начале года я, наверное, показал самые стабильные результаты в АТП.
И все же меня очень угнетало то, что пока я выиграл лишь один главный турнир, а на счету Джима Курье значились уже целых четыре такие победы (две на «Ролан Гарросе» и две на Открытом чемпионате Австралии). Он стал лидером нашего поколения (Майкл, Андре и я имели по одной победе). Меня это совершенно не устраивало, и я решил вернуть себе место на вершине нашей неофициальной иерархии. Это было для меня важнее всех компьютерных рейтингов.
Я хорошо провел сезон на грунтовых кортах: победил Алекса Корретху, Андрея Черкасова, Гильермо Переса-Ролдана и еще нескольких сильных грунтовиков, но на «Ролан Гарросе» все же уступил в четвертьфинале будущему чемпиону, Серхио Бругейре.
Затем начались игры на траве. Я отправился на турнир «Куинс Клаб» и в первом же круге проиграл одному из южноафриканских мастеров игры на травяном покрытии, Гранту Стаффорду. Это меня не слишком расстроило, поскольку я ни разу не блеснул в «Куинс Клаб» в те годы, когда довольно успешно выступал на Открытом чемпионате Франции.
Мое поражение объяснялось не столько необходимостью перестроиться с грунта на траву, сколько общим спадом спортивной формы, который я всегда ощущал, упустив шанс выиграть турнир «Большого шлема». Мне требовалось какое-то время, чтобы восстановиться (прежде всего эмоционально) после тяжелой борьбы на крупном турнире, особенно если она закончилась неудачей.
В 1993 г. я являлся одним из несомненных фаворитов Уимблдона – и не только в глазах экспертов и лондонских букмекеров. На сей раз я решительно настроился на победу.
Когда я пригласил в тренеры Тима, то одна из главных его задач состояла в том, чтобы наладить мою игру на травяных кортах, и с самого начала нашей совместной работы мы занимались ею в различных аспектах. Мы решили, что мое поражение в «Куинс Клаб» пришлось даже кстати: теперь у нас в запасе были почти две драгоценные недели, чтобы сгладить последние (как мы надеялись) шероховатости моей игры, перестроенной под Уимблдон.
Когда мы с братом Гасом впервые приехали на Уимблдон в 1989 г., то отправились прямиком на Центральный корт и просто уселись, глазея по сторонам.
В детстве, когда я смотрел Уимблдонский турнир по телевизору или на кинопленке, этот корт поразил мое воображение, и спустя годы, уже став молодым профессионалом, я испытал нечто похожее на шок, убедившись, что он действительно существует.
На самом деле размеры уимблдонского Центрального корта оказались значительно меньше, нежели представляли мы с Гасом. Минут десять мы сидели, впитывая образ пустого, тихого стадиона и пристально вглядываясь в свежую, манящую, изумрудно-зеленую траву. Именно здесь (это мы видели по телевизору) одержал свою победу Джон Макинрой; здесь сыграл свои знаменитые матчи Лейвер – их мы созерцали на стене нашей гостиной.
И вот настало время, когда нужно самому сыграть на уимблдонской траве, а не просто понаблюдать за другими. Для меня это до некоторых пор оставалось проблемой. И суть ее была довольно проста: я мог легко держать свою подачу, но при этом проигрывать матчи со счетом 7:6, 7:6, 7:6. Что бы там ни говорили, а в теннисе на траве главное не подача, а прием. Моя игра формировалась на харде, где моя подача, даже вторая, всегда давала мне определенное преимущество. Но в начале 1990-х годов на травяных кортах мне не удавалось его добиться – особенно против мастеров травяного покрытия, лучше меня знавших, как выигрывать свои геймы с помощью подачи с выходом к сетке.
Суть тенниса на траве состоит в том, чтобы держать свою подачу и уметь выиграть одну-две подачи соперника. Это может повлиять на исход всего матча. Если сопернику повезет и он на приеме выполнит пару выигрышных ударов, а потом вы допустите ошибку... тогда все, сет потерян. Мне это представлялось лотереей, какой-то несправедливостью. К тому же меня давно беспокоили (и больше, чем следовало) непредсказуемые отскоки мяча, с которыми неизбежно имеешь дело на траве.
Обычно такая проблема возникала и на соревнованиях, предшествующих Уимблдону, и на завершающих его стадиях, когда интенсивная нагрузка на корты в течение турнира приводила к ухудшению качества травяного покрытия.
Еще одна особенность игры на траве – иной способ передвижения. Здесь нужно играть в более низкой стойке, что увеличивает нагрузку на колени и поясницу, поскольку на траве отскок сравнительно невысокий (и неожиданный!). Все это требовало внести в игру целый ряд корректировок, но они не доставили мне особых трудностей – я был достаточно гибок, чтобы быстро осуществить все необходимые изменения. Кроме того, на траве нередко приходится обводить соперников, обладающих не просто сильными, а очень мощными подачами. Это казалось мне непривычным, поскольку при игре на харде мои приемы и удары с отскока были достаточно хороши, чтобы отбить у соперников охоту атаковать меня после подачи. Таков перечень неудобств при игре на травяных кортах.
Должен сказать, в начале работы с Тимом трава вызывала у меня столь негативные эмоции, что Джон Макинрой (которому порой досаждала английская публика, но отнюдь не английская трава) не упустил случая мне попенять. Однажды, в 1992 г., мы с ним тренировались рядом на кортах в Эйренджи-Парке. Тогда я вечно жаловался Тиму, что у меня на этой проклятой траве дело не клеится, и услышал, как Джон процедил сквозь зубы: «Пора бы тебе избавиться от травяного комплекса». Я до сих пор помню: от слов Джона во мне что-то сдвинулось.
За две недели подготовки к Уимблдону-1993 во мне окрепло ощущение, что я наконец освоил технику игры на траве. Одним из важнейших элементов, над которыми мы работали, был прием подачи. Тим добился, чтобы я уменьшил замах, особенно при приеме слева. Он настаивал, что ракетку следует держать впереди себя, поскольку на замах, не говоря уж о сильном ударе наотмашь, почти никогда не хватает времени. Еще он хотел, чтобы я чаще применял блокирующие приемы, используя скорость подачи соперника. Ведь когда соперник атакует на траве, то вполне достаточно просто направить мяч в любую сторону от него или выполнить короткий, мягкий ответный удар, после которого сопернику будет очень трудно сыграть ударом с лета.
На протяжении двухнедельного «затишья перед бурей» Уимблдона у нас не было интенсивных тренировок и больших нагрузок. Мы в основном оттачивали прием подачи. И все это время Тим твердил, что я должен стать крепким орешком для любого соперника. Он делал все возможное, чтобы превратить меня в уверенного, упорного игрока. Теперь мне раскрылись практически все «травяные секреты», и Тим чувствовал, что самое трудное для меня – сохранить уверенность и мужество, чтобы сыграть в полную силу.
Жеребьевка Уимблдона сложилась для меня не вполне удачно. В первых трех кругах мне достались соперники не слишком блистательные, но зато умело игравшие на траве. Пришлось пройти двух австралийцев (Нейла Борвика и Джейми Моргана) и зимбабвийца Байрона Блэка. В результате в одной шестнадцатой финала мне предстоял матч с Эндрю Фостером, английским игроком весьма невысокого уровня, который, однако, как-то сумел «пролезть» в четвертый круг. Встреча предстояла отнюдь не простая, поскольку англичане давно жаждали завоевать титул чемпиона Уимблдона в мужском одиночном разряде – чего не бывало со времен Фреда Перри еще в 1930-х годах.
Даже самый отчаянный английский оптимист не рискнул бы предположить, что Фостер выиграет Уимблдон, но победа над первой ракеткой мира Питом Сампрасом, для которого Уимблдон всегда был слабым местом, – неплохой задел! Поэтому пресса вознесла Фостера на волне лести и надежд, да и сам он уверовал, что у него появился редкий, уникальный шанс (возможно, во всей его спортивной карьере) – и к тому же на единственном турнире, который действительно важен для подавляющего большинства его соотечественников. Чтобы еще больше смутить меня, организаторы турнира предоставили нам самый удаленный корт – № 13.
Официально корт № 13 относился к числу главных, или «зрительских». С одной его стороны стояла многоярусная трибуна со складными алюминиевыми сиденьями (тогда как «игровые» корты, которые обычно отводились второстепенным играм, имели очень мало сидячих мест). На 13-м корте зрители рассаживались по принципу «первым пришел – первым занял», и любой, у кого был билет или пропуск на площадки Уимблдона, мог поискать там местечко. Отсюда следовало, что там соберется публика самая страстная и пылкая, преимущественно английские фанаты – буйные и в большинстве своем не вполне трезвые.
Матчи, назначенные перед нашей встречей, продолжались долго, и наш с Фостером корт освободился только к вечеру. Поэтому у фанатов было достаточно времени, чтобы накачаться пивом или традиционными английскими коктейлями «Pimms». Перед матчем я дал себе зарок не вступать ни в какие перепалки, поскольку ситуация легко может выйти из-под контроля.
Показав почти безупречный теннис, я выиграл первые два сета, уступив противнику всего три гейма. Но Фостер, окрыляемый не угасшей пока надеждой и воплями болельщиков, в третьем сете проявил неожиданное упорство. Мы по очереди выигрывали каждый свою подачу шесть, восемь, десять геймов, и постепенно толпа, почуявшая, что с Фостером еще не покончено, пришла в неистовство. К тому же надвигались сумерки. Так сошлись воедино опасные для меня – фаворита этого матча – факторы: неблагоприятные условия, буйство фанатов и боязнь упустить преимущество.
В худшем случае, думал я, можно просто дотянуть матч до момента, когда он будет прекращен из-за темноты, собраться с силами и дожать соперника на следующий день. Но что-то во мне противилось, требуя выложиться, дойти до конца и покончить с соперником немедленно. Наверное, это была потребность избавиться от того горького привкуса, который преследовал меня со времени последнего финала Открытого чемпионата США. Конечно, Фостер – не Эдберг, а корт № 13 – не арена имени Луи Армстронга, но по сути это был для меня переломный момент.
Я поднажал и довел сет до тай-брейка, где, играя на своей подаче с особенным вниманием и выиграв несколько приемов, все же «додавил» Фостера.
Выиграв матч-пойнт, я вскинул руки, повернулся к толпе и крикнул: «Ну что, съели, козлы!» Фоторепортеры у бровки корта отчетливо расслышали мои слова, и в Англии (где бульварная пресса является реальной силой) это сулило мне неприятности. «Мальчики с Флит-стрит» (да и девочки тоже), сочиняющие статьи для таких газетенок, очень любят выуживать любую информацию и раздувать заурядные происшествия до масштабов великой сенсации.
Излюбленная хитрость пишущей братии на Уимблдоне – затесаться в ряды фоторепортеров, которых пускают гораздо ближе к игрокам, чем журналистов. Благодаря этому они видят и слышат практически все, что игрок делает и говорит во время матча. И они-то наверняка расслышали мой оскорбительный выкрик – в отличие от большинства фанатов, которым, собственно, он и был адресован.
На пресс-конференцию я пришел исполненный спокойствия, удовлетворенный своей победой. Первый ряд заполняли господа, слишком хорошо одетые для репортеров. Один из забавных парадоксов заключается в том, что люди, кропающие пошлые и безответственные статейки для английских бульварных газет, всегда одеты безукоризненно, вплоть до платочка в нагрудном кармане или бутоньерки в петлице. И вдруг один из этих вылощенных денди спрашивает со своим чисто английским прононсом: «А правда ли, что вы назвали английских зрителей козлами?»








