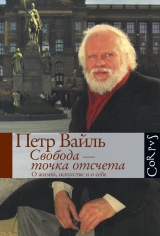
Текст книги "Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе"
Автор книги: Петр Вайль
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Шендерович из Красной книги
Виктор Шендерович – человек отважный и дерзкий. Мало слышала российская власть столь нелицеприятного, сколько он ей высказал – причем с широкодоступного телеэкрана. Потерпев не очень долго, массовую аудиторию решили все-таки поберечь, не расшатывать неокрепшее мировоззрение, на лепку которого существует государственная монополия. Конкурент, кустарь-одиночка Шендерович, был устранен.
Сделавшись невидим, он остался слышим: часто выступает перед публикой, причем и далеко за пределами России, ведет программы «Все свободны!» на «Радио «Свобода» и «Плавленый сырок» на «Эхе Москвы». И, освободившись от престижного, но трудоемкого телевидения, – вернулся туда, с чего начинал: в литературу.
Сборник рассказов («Кинотеатр повторного фильма»), байки в почтенном жанре table– talk, освященном именем Пушкина («Изюм из булки»), документальные эпопеи разгрома независимого телевидения («Здесь было НТВ») и хождения в Государственную думу («Недодумец»). Вышел и поэтический сборник «Хромой стих и другие стишки разных лет».
Как поэт Виктор Шендерович менее всего известен читающему, смотрящему и слушающему русскому человеку, оттого, может, и стоит сказать поподробнее именно об этом.
Оказывается, у истоков явления «Шендерович» были как раз стихи. В одной из своих книжек автор рассказывает: «Писательство свое я начал, разумеется, с поэзии. То есть я думал, что это поэзия, – на самом деле во мне просто бродили читательские соки. Я переписывал своими словами то Пастернака, то Лермонтова». И где-то в другом месте радуется, что те подростковые стихи, несмотря на все старания, так и не были опубликованы.
В вышедшем в прошлом году сборнике есть и Лермонтов – уже другой, не скрываемый, а, напротив, вызывающе броско обозначенный: цикл из трех стихотворений «Лермонтовские мотивы». А первая строка из хрестоматийной «Родины» – быть может, камертон всего настроения книги: «Люблю отчизну я, но странною любовью!»
Соблазн обнаружить источники и составные части – неистребим. Кажется, это может помочь пониманию – и вправду помогает. Главные ориентиры Шендеровича – очень достойные. Одно перечисление их скажет многое – Алексей Константинович Толстой, Саша Черный, Губерман, Лосев, «Школьная антология» Бродского. Генеалогия – хоть портреты вывешивай.
Все эти линии особенно показательно и удачно – печально, смешно, трогательно – сходятся в большой «Поэме неотъезда», где ни явственная публицистичность, ни нарочитая прозаичность, подчеркнутая написанием в строку, не скрывают истинных поэтических достоинств («Покуда он, дыша немного вбок, жалел, ожесточая диалог, что чья-то мать не сделала аборта, на нас уже накатывал пейзаж – пути, цистерны, кран, забор, гараж – пейзаж, довольно близкий к натюрморту…»).
Возвращаясь к отваге и дерзости – фирменным знакам Шендеровича, чем бы он ни занимался, – надо отметить, что в стихосложении он осторожно и подкупающе традиционен.
Он – иронический лирик. Или – лирический иронист.
Иногда больше заметен один, иногда – другой. Но так или иначе, если есть для автора нечто по-настоящему важное – это она, русская литературная традиция, которой он безоговорочно верен. Такое сочетание – социально-политическая хлесткость и словесная сдержанность – изобличает в Шендеровиче принадлежность к удручающе исчезающему виду русской интеллигенции из разряда «не могу молчать».
Он, к счастью, – не может.
2008
Возможна ли литература после Колымы?
Каким-то поразительным, воистину чудесным образом, рассказы Варлама Шаламова, со дня рождения которого 1 июля исполняется сто лет, – может быть, самая жизнеутверждающая литература, которая только существует. Можно было бы добавить – на русском языке. Но добавлять не надо: а на каком же еще? Какой еще народ переносил так долго такие страдания – и не от безразличных, оттого безликих, иноземцев, а от своих. Своих по облику, привычкам, манерам, языку, наконец. Язык и запечатлел.
Шаламова необходимо перечитывать. Потому что читать в первый раз – невыносимо. Кажется, что не может быть такой безнадежности, такого глубочайшего погружения в душевную погань, из которой смертельный выход – даже не желанный, а равнозначный этой жизни. То-то шаламовские герои так часто думают с полным равнодушием о смерти, а не умирают прямо сейчас только потому, что дневальный соседнего барака обещал завтра дать докурить – глупо не воспользоваться, а там видно будет. Беспросветность покрывает мраком достоинства словесности – более того, кажется, что неловко и даже неприлично рассуждать о словесности перед лицом трагедии жизненной.
Только погодя спохватываешься: но ты же об этом прочел!
Ты из книжки узнал:
Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не большая.
Ты прочел написанное буквами:
Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились…
Тебе писатель разъяснил такое, чего не забыть:
У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать.
Последующее чтение открывает все больше и больше литературного великолепия. Как просто и тонко выстроен сюжет, как умело и вдумчиво составлены слова, как подобраны сравнения.
И главное: лишь постепенно начинаешь понимать – о чем вообще Шаламов. Он описал человека как представителя царства животных, типа хордовых, подтипа позвоночных, класса млекопитающих, отряда приматов, семейства гоминид, рода Homo. Шаламов на этом настаивает, несколько раз в «Колымских рассказах» на разные лады повторяя: «Человек живет в силу тех причин, почему живет дерево, камень, собака». Но у него есть преимущество:
Человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком… что он был физически выносливее любого животного… Он цепляется за жизнь крепче, чем они.
Потому, вероятно, Шаламов, сын вологодского священника, мог написать:
Я горжусь тем, что с шести лет до шестидесяти не прибегал к помощи Бога ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме.
Это не богоборчество, а спокойная констатация: выживать – только самому.
Он выжил, пройдя через все, и написал об этом: «Жизни в искусстве учит только смерть». Увидев, как снимаются с человека все наслоения культуры, морали, религии, идеологии и как он при этом остается все-таки живым и – человеком! – Шаламов и написал свою небожественную трагедию.
Теодор Адорно задал знаменитый вопрос: «Возможна ли поэзия после Освенцима?» Он умер в 69-м и не мог знать Шаламова.
2007
Правда – женского рода
Светлану Алексиевич сделала знаменитой написанная в 1984 году книга «У войны – не женское лицо». Тут же пошли переводы на разные языки и поток рецензий, отличающихся от обычных литературных разборов. Общее ощущение: собранные писательницей монологи женщин, участвовавших во Второй мировой войне, – не книга, а кусок правды. С этим надо что-то делать, во что-то упаковать, найти полочку, на которую поставить. Иначе совсем трудно: не удержать в руках – горячо.
То же самое происходило с другими книгами Алексиевич: «Последние свидетели» – дети на войне, «Цинковые мальчики» – Афган, «Зачарованные смертью» – самоубийцы, «Чернобыльская молитва».
Алексиевич пишет документальную прозу в жанре, который нередок на Западе, особенно в англоязычной словесности, где он называется oral history– устная история. Писатель при этом самоудаляется, оставаясь лишь в коротких пояснительных комментариях. Девять десятых текста – прямая речь свидетелей времени. По-русски – с неослабевающей последовательностью и силой, – кроме Светланы Алексиевич, никто так не пишет. За четверть века к новизне, кажется, привыкли, и ей уже не приходится объяснять, как в начале: «Жанр, в котором я работаю, – лишь на первый взгляд живые свидетельства и не более того. На самом деле он подразумевает не только стержневое событие, которое должно через огромное количество людей пройти, массовое сознание задеть, он еще держится на философии».
Есть обманчивый соблазн в документальной прозе: казалось бы, изложи важное интересное событие, приведи подлинные высказывания – и все готово. Но ведь получится аморфная куча невнятных слов – та самая, которая заполняет книжные прилавки России. Писание по факту или по подлинной канве прельстило кажущейся легкостью многих. Даже неловко говорить, что к знанию и памяти неплохо бы прибавить мастерство композиции, способность к отбору, вкус и чувство меры.
Писание чужими словами – тяжелый ответственный труд: безусловно, более ответственный, чем писание своими. Потому что жанр, в котором работает Светлана Алексиевич, – последняя надежда.
ХХ век, помимо иных существенных изменений в жизни человечества, сместил соотношение литературы вымысла и литературы факта. Нет, по-прежнему ничто не может соперничать в популярности с сюжетным романом. Но так называемые нехудожественные жанры, всякого рода non– fiction, резко подтянулись к беллетристике. Достаточно взглянуть на полки больших книжных магазинов: как много места занимают мемуары, биографии, история, документальная проза.
ХХ век был испытательным полигоном идеологий, две из которых – национал-социализм и коммунизм – сотрясли земной шар. Идеологии прошли проверку на верность, вескость, вшивость – и не выдержали ее. Попутно, по ходу Первой мировой, потом с Хиросимой и Чернобылем, рухнула вера в возможность рационального и разумного, по науке, устройства мира. Если минувший век и принес несомненную пользу, то в том, что идеологическому слову перестали доверять. Остаточные явления, вроде того что бубнят какие-нибудь «Наши» или лимоновские пацаны, – всего лишь заклинания, мантры, лишенные всяческого содержания.
По вполне объяснимой логике, недоверие к идеологическому слову переросло в недоверие к слову вымышленному. Вот где истоки распространения и популярности литературы факта. И вот почему она – последняя словесная надежда. Если уж и тут вранье, неизбежен в самом деле переход на чистые мантры. Эту ответственность прекрасно осознает Светлана Алексиевич.
Разумеется, со временем в любом ремесле набиваешь руку. Но одно дело – сортировать яблоки или стальные шайбы, другое – исповеди, истошные вопли, стоны, предсмертный хрип. Страшненькая работа у Алексиевич, тут без обостренной совести и огромного мужества – никак.
В ее книгах много ужасного, иногда невыносимо. В «Цинковых мальчиках» – кошмары войны, всегда и всюду питающей садизм (взрезаннные животы, выколотые глаза, коллекции засушенных ушей), но они не несут специфики. На войне ужасен человек, вне национальной или государственной принадлежности. Специфика – в уникальном образе завоевателя.
Рожок патронов за косметический набор – тушь, пудра, тени для любимой девушки… В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков.
Знакомые встречают: «Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез… Разве ты не был в Афганистане?»
Зеленки обыкновенной не было. Добывали трофейное, импортное… Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный… У убитых наемников забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых паховина не натирается. Все брали. Трусы брали, так как и с трусами был дефицит.
Мне приходилось видеть таких имперцев в Чечне, с их трофеями: ковер, транзистор, электробритва, флакон духов.
Встречались ли в мировой истории подобные имперские завоеватели? Афганские и индийские британцы Киплинга были сильны, безжалостны и суперменски хвастливы. Но при этом они были исполнены гордого – или кичливого, зависит от точки зрения, – сознания цивилизаторской миссии: они несли азиатам дороги, мосты, керосиновые лампы и «огненные повозки» – поезда. Немыслимо представить, что, сняв с убитого врага трусы, можно написать:
Несите бремя белых,
сумейте все стерпеть…
«Наши мальчики умирали за три рубля в месяц» – это бремя белого человека?
Таких завоевателей не бывало. Высокую крито-микенскую культуру смели с лица земли темные доряне, изысканных греков убрали из истории грубые македонцы, изощренный эллинизм пал под натиском сурового Рима, великий Рим уничтожили дикие вестготы. Но те варварские удары наносились по центрам, оплотам, а ведь не Альпы преодолели войска в декабре 1979-го, а Гиндукуш. Целью были не процветающие сегодняшние «Римы», а задворки третьего мира. То же – в декабре 1994-го: Грозный был провинциальным городом, и только.
Куприн попрекал Киплинга Англией, которая давит мир «во имя своей славы, богатства и могущества». Где хоть один из этих мотивов? Из всей славы – проход генерала Громова по термезскому мосту, в Чечне не было и того. Из могущества – политический провал. Из богатства – второсортное барахло из Джелалабада.
В одном из тех нечастых случаев, когда на первый план выходит автор, Светлана Алексиевич говорит о своем методе:
Я делаю простые снимки. Моментальные снимки. И всегда помню, что в одной фотографии отражается всего лишь одна сотая секунды. Тороплюсь. Но все-таки надеюсь, что это не только фотографии и документы, но и образ моего времени, каким я его вижу.
Алексиевич «делает снимки», ведет отбор свидетельств, преисполненная сочувствием и жалостью. Это безошибочно ощущается в ее книгах, хотя и написаны они «чужими» словами. В ее случае такое сопереживание и есть высочайший профессионализм. В общем, это один ряд – священник на исповеди, врач у операционного стола, писатель в жанре «устной истории».
2008
Василий Розанов на римской Пасхе
[7]7
Russi e l “Italia. Libri Sheiwiller. Milano, 1995.
[Закрыть]
Пасху 1901 года Василий Розанов встретил в Риме (речь о западнохристианской Пасхе, которая в 2008 году приходится на 23 марта). Случай этот – не частный, даже не сугубо литературный, а важный общественный.
В «Итальянских впечатлениях» В. В. Розанова ярко проявилась абсолютная внутренняя свобода автора и поразительная писательская честность, когда правда жизни важнее любой самой драгоценной идеи.
Василий Розанов, написавший, что «кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен», нужды в загранице, похоже, не испытывал вообще. Даже путешествие по входившей в состав Российской империи Прибалтике для сорокатрехлетнего писателя стало экзотикой: «Нужно заметить, Бог так устраивал мою жизнь, что я не только не выезжал из любимого отечества, но никогда и не подъезжал близко к его границам». Тут нет ксенофобии, но нет и досады. Есть смирение перед высшей волей, но все же с оттенком удовлетворения.
Истоки подобного чувства – в распространенном (по сей день) убеждении: за рубежом настоящих, глубинных проблем нет. Эта уверенность и сформировала особый жанр русского путешествия, развивавшийся как роман испытания, как аллегория. Судьба заграницы – быть метафорой России, и путевые заметки эмоцию явно предпочитают информации. Русский путешественник видит то, что хочет видеть, а перед его умственным взором одна страна – родина. Как правило, ему чужд космополитический рационализм Монтеня: «Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете». Когда Петр Великий «в Европу прорубил окно», наибольший интерес как раз окно и вызвало. Были бы стекла не биты, а что за ними – во-первых, не важно, а во-вторых, заранее известно… И из всех вопросов внешних сношений по-настоящему волнует тот, что пародийно задан Венедиктом Ерофеевым: «Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?»
Обычно путешественник возвращался с тем, с чем и уезжал: с противопоставлением западного материализма и русской духовности… Примечательно, что, разделяя отвращение Константина Леонтьева к «среднему европейцу», Розанов невольно помещает этот тип в декорации романского мира: «Ездят повеселиться в Монако, отдохнуть на Ривьере, покупают картинки «под Рафаэля». А средоточием европейской культуры для него, как и для многих деятелей российского Серебряного века, была завершившая греко-римский путь Италия. Италии и предстояло рассчитываться за весь западный мир.
И прежде всего – за свою религию, ибо: «Чем была бы Европа без католицизма?» Самому потрогать Ватикан, так же, как он плотоядно трогал историю пальцами страстного нумизмата, – вот зачем Василий Розанов впервые в 45 лет все-таки отправился по-настоящему за границу.
Как и положено русскому путешественнику, он повез с собой Россию, рассыпая по пути ее крохи с назойливой щедростью: Салерно – «как наш Брянск» (а речь только о размерах), собор – «современник нашему Ярославу Мудрому» (а речь только о сроках), к месту и не к месту вспоминая Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Однако даже сейчас книгой можно пользоваться как путеводителем – столько в ней метких и остроумных замечаний о народе и об искусстве.
Гимназический учитель, Розанов преподавал читателю Италию, попутно учась сам. Выразительно сказано о Рафаэле: «Робинзон, свободно распоряжающийся на неизвестном острове!» О древнеримском миросозерцании: «Какое прекрасное начало религии у римлян: самая ранняя богиня – домашнего очага. Мы, христиане, решительно не знаем, к чему приткнуть свой домашний очаг». По поводу статуи Марка Аврелия: «Конь, движущийся в мраморе или бронзе, всегда живее человека, на нем сидящего, и похож на туза, который бьет семерку». Отчего в современной культуре нет красивых лиц: «Да потому, что душа залила тело».
Другое дело, что никакой общей искусствоведческой либо культурфилософской концепции у Розанова нет. Противоречивейший из русских писателей, опровергающий себя в пределах одной страницы, он таков и в «Итальянских впечатлениях». По любой затронутой проблеме легко набрать столько же «за», сколько «против». Правда, здесь (что для него редкость) Розанов попытался исходить из сверхзадачи – противопоставить католицизму православие с запланированным результатом – и оказался побежден своей собственной живой мыслью и чужой живой жизнью. Можно сказать и по-другому: Италия победила идеологию.
Слишком интеллектуально и эмоционально честен был Розанов, чтобы не прийти в искренний, истовый восторг от увиденного. Он – квинтэссенция русского человека, оттого помянутое русское «духовное превосходство» проявляется даже на пике восхищения Италией. Увлекательно следить за этими оговорками, словно случайными, но на деле (по Фрейду) именно корневыми.
Так, он поражен подвижностью итальянцев – транспорта, походки, мимики: «Я не видал апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, каких так много у нас на севере». И обобщающий образ: «У нас, в России, вся жизнь точно часовая стрелка; здесь, в Италии, – все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности…» В этом вводном слове «конечно» – вся суть розановского взгляда на иной мир: в осознанных и продуманных выводах звучит почтительное признание чужого, но из глубин души рвется свое.
Розанов борется. Сам с собой, разумеется. С собственной презумпцией. Ничего не выходит с идеей Италии как мертвой музейной пустыни. Впечатления – не по кускам, а в целом – единый торжествующий вопль: «Необыкновенный гений, необыкновенная изобретательность, необыкновенная подвижность». Видно, что более всего поразило Розанова: на все лады повторяемое – живость и, главное, жизнеспособность католичества. Нужно было мужество, чтоб написать о Ватикане – с осуждением даже, но с уважением и признанием мощи: «Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая».
Не сами по себе подвижность и активность религии волнуют Розанова, а то, что по этой причине так велик приток художественных талантов и оттого так естественны в храме и музыка, и живопись, и образы животных. И хотя он твердит, словно заклиная, о несовместимости западного и восточного христианства, перед великим искусством расхождения стушевываются. А еще более – перед осязаемой жизнью, пережитым «чувством земного шара, особым космическим чувством».
Может быть, именно в католической Италии православный Розанов остро ощутил себя христианином вообще. Он коснулся христианства «пальцами» на сцене его непосредственного действия – в соборе и на улице – и испытал чувство теплой близости вместе с ощущением исторической взаимосвязанности, не конкретной – а всего со всем. Ревнивый испытующий взгляд оказался плодотворным.
2008








