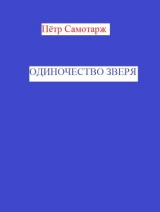
Текст книги "Одиночество зверя (СИ)"
Автор книги: Пётр Самотарж
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Игорь Петрович прочёл роман давно, но запомнил его лучше прочих. Вспомнил снова во время разговора с Еленой Николаевной в машине, и теперь название само пришло на язык. Всё карамазовское семейство представилось ему психологическим портретом автора, раздираемого страстями Алёши и Дмитрия. Подобно Ивану, рассуждает писатель о невообразимом и, кто знает, водрузил ли он своего колобродного отца, то ли убитого мужиками, то ли мирно скончавшегося, на вершину этой пирамиды несовершенства, или сам себя видел таким же, ничуть не лучше его? Самое поразительное – вот так взял и со всей откровенностью вывернул себя на обозрение читательской публике. Странный всё же народ – писатели.
– Достоевский? – искренне удивилась учительница. – Ты уверен?
Наверное, тоже держала в памяти недавний разговор.
– Уверен, – обиделся президент. – Почему вы удивляетесь?
– Мне казалось, политику трудно с Достоевским.
– Почему?
– Ты же сам, кажется, мне сказал.
– Ничего подобного. Я сказал только, что Достоевский не мог руководить. А политикам он очень даже полезен – способствует смирению.
– Он говорит не только о смирении. И даже не столько. Скорее, о бесценности каждой отдельной человеческой жизни.
– Вы о том, что политика – грязное дело?
– Не так прямо, но, в общем, примерно да.
Игорь Петрович обиделся не столько за себя, сколько за Достоевского. Классик его не перепахал и не перевернул душу, но действительно заставил думать. Он не перечитал ни одной вещи сурового транжиры, игрока и ходока Фёдора Михайловича, однажды им прочитанной – останавливался, как перед глухой кирпичной стеной и боялся лезть через неё, словно ожидал встретить злобных цепных псов по ту сторону. Другое дело Толстой, смешной в его наивном морализаторстве. Отрёкся от авторских прав и призывал к аскезе, завещание писал на пеньке посреди леса, но с помощью двоих человек, один из которых держал перед ним текст черновика, а другой принёс фанерку для применения её в качестве конторки. Сколько манерности и фальшивой картинности, достойных мелкого графомана.
– Очевидно, порядочные люди не могут заниматься грязным делом, разве нет?
– Думаю, существуют определённые границы приемлемого, – не уступала Елена Николаевна. – Ты, например, их не переходишь. По моему мнению.
– То есть, я всё же поступал недостойно, но для моего грязного занятия допустимо?
– Игорь, не волнуйся так. Я не знаю ничего о каких-либо твоих недостойных поступках.
– Но думаете, что они всё же были?
– Я не считаю тебя бесчестным человеком, но в моём представлении политика предполагает систему компромиссов и неофициальных договорённостей, скрываемых официозной риторикой. Категоричные моралисты всегда остаются на обочине исторического процесса, но я и в жизни таких людей с трудом переношу. Всякий раз подозреваю причиной подобного рвения собственное бурное прошлое блюстителя. Кстати, меня и «Собор Парижской Богоматери» в своё время несколько озадачил: всё читала и ждала сведений о грехах молодости Фролло. Даже до самого конца подозревала в нём отца Квазимодо.
Елена Николаевна упорно клонила разговор к своей любимой литературе, а Саранцев всё более раздражался и терялся. Он никогда не считал себя книгочеем, хотя положенные мальчишке и подростку книги читал в изобилии, и не только фантастику.
– Я всё же повторю, вопреки вашей реакции: на меня произвёл впечатление роман «Братья Карамазовы». Не стану утверждать, будто он подвигнул меня на строительную или политическую стезю, но след определённо остался. Вот Достоевский в качестве моего автора вас удивил, а кто бы не удивил?
– Хемингуэй, – без паузы заявила Елена Николаевна. – Я бы каждому новоизбранному политику выдавала за государственный счёт экземпляр «Старика и моря». Человек отдаёт все силы борьбе, а после победы вдруг обнаруживает себя побеждённым. Очень полезное чтение для всех желающих славы и торжества.
– Я не ради славы и торжества пошёл в политику, – продолжал настаивать на своей невинности Саранцев. Он уже перестал раздражаться и начал впадать в уныние – атмосферы неприятия он совершенно не ожидал.
– Неужели ради народного блага? – поинтересовалась со своим обычным ехидством Корсунская.
– Нет, ради карьеры, – огрызнулся Игорь Петрович.
Сказал и подумал: а ведь действительно, в те незапамятные времена он откликнулся на приглашение Покровского, оставшись без работы. И пошёл в штаб будущего губернатора свободным человеком – его не удерживали обязательства ни перед работодателем, ни перед семьёй. Первый сам его прогнал, вторая нуждалась в кормильце, а не в искателе прописных истин. Он тогда только в шутку подумал о себе как о будущем президенте, и никогда никому в своей глупости не признавался. И теперь сказал чистую правду, хотя сам её не знал ещё несколько минут назад.
– Тогда я бы порекомендовала каждому политику «Обыкновенную историю» Гончарова, – быстро отреагировала Аня. – Ну и, само собой, «Войну и мир» Толстого для осознания своей малозначимости перед силами рока и рассказы Бунина навалом для памяти об уязвимости человеческой жизни.
– Миша, а ты почему молчишь? – не отставала от своих учеников Елена Николаевна. – Отсидеться не выйдет, мы требуем ответа.
– Понятия не имею, – равнодушно пожал плечами Конопляник. – Я, если помните, ваш литкружок не посещал и сейчас не самый великий читатель на белом свете.
– Всё равно не отстанем. Тогда выбирай хоть из школьной программы, но непременно дай нам хотя бы одно название.
– Не знаю я, Елена Николаевна! Мне и думать не о чем.
– Ответ не принимается. Подумай хорошенько. Ты ведь меня не забыл ещё, надеюсь? Тогда должен знать – я своего добьюсь. Даже из самого мнущегося у доски двоечника хотя бы пару осмысленных слов выдавливаю – человек всегда имеет точку зрения, но может и сам об этом не знать. В твоём распоряжении одна минута.
– Одна минута?! Да вы что, Елена Николаевна? Я теперь точно ничего не выдумаю.
– А если он в минуту не уложится? – осторожно поинтересовалась Корсунская.
– Тогда выйдет вон и вернётся назад только с названием наперевес.
Конопляник явно поверил в угрозу и не испытал уверенности в поддержке со стороны соучеников, поэтому покорился и поспешил выкрикнуть:
– Пушкин! И Некрасов.
– Почему именно они?
– Мы ведь только что договорились – ответа на такой вопрос не существует.
– Мы ни о чём не договаривались, все только высказывают свои точки зрения.
– Хорошо, вот моя точка зрения: нельзя объяснить, почему нравится книга или автор.
– Почему нельзя?
– Потому что они нравятся не в результате рассуждений или размышлений, а сразу. И оторопь вызывают тоже сразу, или никакого впечатления не производят.
– Значит, ты всё же испытывал на себе воздействие книг, зачем же прикидывался неучем?
– Я не прикидывался. В основном они не производят на меня никакого впечатления.
– В основном? А в остальном?
– Бывает интересно.
– Что показалось тебе интересным?
– Детективы братьев Вайнер мне казались интересными. И читались очень воздушно и быстро.
– Зачем же ты приплёл Пушкина и Некрасова?
– Ради приличия.
– Разве братья Вайнеры неприличны?
– Не знаю. Тут вот другие называют такое, что я сроду не читал и даже слыхом не слыхивал, а я скажу – Вайнеры.
– Ты, Мишка, старомоден, – успокоил одноклассника Саранцев. – Круг чтения уже давно не считается показателем качества души. Личное дело каждого – читать кого угодно в соответствии со своим вкусом, никто не лучше и не хуже.
– Всё равно, дураком выглядеть не хочу.
– Лично я Вайнеров не читала, только их детективы по телевизору смотрю, – отозвалась Корсунская. – По-моему, психологизма у них хватает – они не боевики писали, о поединок человека с человеком.
– Я как-то «Визит к Минотавру» проскочил чуть не за пару вечеров, испугался и решил Вайнеров больше не читать, – добавил Игорь Петрович. – Тоже застеснялся, на манер Мишки.
– Так застеснялся или испугался? – потребовала конкретности Елена Николаевна.
– Сначала испугался ограниченности своего художественного вкуса, а потом её застеснялся. Юлиан Семёнов ведь любил доказывать серьёзность лёгкого жанра. Мол, и в гитлеровской Германии, и в сталинском Советском Союзе, литературный детектив не приветствовался. В конечном счёте, ведь в его основе лежит обличение социальных пороков и морализаторство. Существование зла в обществе признаётся, но преступление всегда наказывается. В противном случае, это уже не детектив, а какая-нибудь психологическая драма или мистический триллер – зависит от характера зла.
– Игорь, а ты в принципе любишь детективы?
– Елена Николаевна, вы прямо душу вынуть хотите.
– Господи, причём здесь душа? Мы говорим о литературных вкусах. Вот ты назвал своей важной книгой «Братьев Карамазовых» – можно назвать её детективом?
– Не получится. Это как раз пример психологической драмы – автор подводит читателя к мысли о безнаказанности зла, хотя не формулирует её напрямую. Все почему-то решили, что убил Смердяков, а Дмитрий невиновен, но Достоевский ведь не утверждает ничего подобного. Мы можем судить только со слов Смердякова – «может, я убил, а может, не я». Собственно, с какой стати эти слова принято считать его признанием? А вдруг он просто издевается над своими незаконными братьями. Кстати, отцовство Карамазова-старшего в отношении Смердякова тоже не утверждается автором. Просто город так решил, поскольку тот приютил беременную неизвестно от кого дурочку. Разве слухи – это критерий истины? А вдруг он раз в жизни проявил человечность и поплатился за свою слабость дискредитацией?
– Ты с такой страстью бросаешься на защиту всех литературных обвиняемых, – многозначительно заметила Корсунская. – Никогда не думал об адвокатской карьере?
– Не беспокойся, с моей стороны конкуренция тебе не угрожает.
– Можно подумать, я сделала тебе непристойное предложение – ты почти испугался.
– Не испугался, но ужаснулся. Предложи ты мне стать врачом, я отреагировал бы так же. Не представляю себе другой жизни.
– Зачем же ужасаться? Не самая плохая работа – бороться за справедливость.
– И делать хорошие бабки на жажде справедливости. Если бы вы работали бесплатно, моральных дилемм было бы меньше.
– Странно слышать подобные суждения от гаранта Конституции.
– Ничего странного. Это в европейских языках «юстиция» и «справедливость» называются одинаково, у нас они разведены. Любой прохожий на улице скажет тебе то же самое: качество юридической помощи не должно зависеть от достатка нуждающегося в ней. В равных условиях богач и бедняк с большой степенью вероятности наткнутся на противоположные приговоры суда. Правосудие есть, а справедливости нет. И дело даже не в коррупции, просто хорошие и опытные адвокаты дорого стоят, независимые экспертизы и тому подобные изыски тоже недёшевы. Выходит, полное избавление от продажности, непотизма и подверженности административному давлению не решает проблему обеспечения законности.
– Ты готовишься к новой избирательной кампании?
– Просто высказываю вслух сокровенные мысли.
– В советское время тарифы на услуги адвоката устанавливались государством, но оставались выплаты из-под полы. Даже если избавиться от последнего обстоятельства, останутся рыночные законы спроса и предложения – к хорошим адвокатам выстроятся очереди, первыми в которых окажутся не те, кто более нуждается в помощи, а те, кто пришёл первым. И равного доступа к правосудию всё равно не будет.
– Анечка, ты согласна с Игорем? – озадаченно поинтересовалась Елена Николаевна.
– В мире вообще нет ничего идеального, – парировала Корсунская. – Давайте попробуем обсудить справедливость политической системы – волосы дыбом встанут.
– В политике справедливость хотя бы в теории достижима, – напирал Саранцев. – Если избавить её от тех же язв, что и систему правосудия.
– Ничего подобного. В самых равноправных условиях демагог может победить великого государственного деятеля.
– Может. И его победа станет торжеством справедливости – избиратели получат именно то, что выбрали.
– Как же ты понимаешь справедливость?
– Как правомерное воздаяние за содеянное.
– Это и есть правосудие.
– Да, поэтому то и другое и называется одним словом в европейских языках, как я уже говорил. Причём, по-польски, кажется, это общее слово – как раз «справедливость». Произносится с польским прононсом, разумеется, но корень тот же, что у нас. Не только в польском, кстати – и в чешском, и в болгарском, и в словацком, кажется. Можешь себе представить на русском языке «министра справедливости»? Или хотя бы «министра правосудия»? Насколько я помню, по-сербски «правосудие» – как раз «правда».
– Ты стал полиглотом?
– Нет, просто умею пользоваться Википедией. И тебе советую – очень удобный способ сопоставлять восприятие одних и тех же понятий в массовом сознании разных народов. Особенно интересно сравнивать статьи на разных языках о литературе и литераторах или об исторических событиях. Последнее – занятно в высшей степени. Даже особо долго вчитываться не надо – я обычно ограничиваюсь сравнением преамбул.
– Думаю, «министра справедливости» русский язык не вынесет, – вмешалась Елена Николаевна. – Люди смеяться станут.
– Потому что в их сознании справедливость и государственный аппарат несовместимы, – вставила Корсунская.
– Нужно смотреть глубже, – не согласился Саранцев. – Справедливость вообще не воспринимается как понятие из официального языка. Государство отвечает за юстицию, за справедливость – Бог или люди, в зависимости от убеждений.
– Ты даже о Боге говоришь? – удивилась негодяйка Аня. – Не припоминаю за тобой такого в телевизоре.
– Возможно, в официальных выступлениях я его и не упоминал. Мне не советовали вторгаться без необходимости в трудную тему.
– Но на патриарших праздничных службах я тебя видела, хоть ты и молчал.
– Раньше видела, а потом перестала, так ведь?
– Кажется.
– Ну вот. Неверующие раздражались моим присутствием на службе, верующие – превращением священнодейства в пиар-акцию. К тому же, без крайней необходимости выпячивать отличие моих религиозных убеждений от мусульманских и буддистских тоже показалось нецелесообразным.
– Но ты ходишь в церковь без телекамер?
– Нет, – после тяжёлой паузы ответил Саранцев. – А ты?
– Меня-то телекамеры в храме на прицеле никогда не держали.
– И всё же – ты ходишь в церковь?
– Хожу. И далеко не только по праздникам.
За столом настала тишина – все смотрели на Корсунскую, а она тем временем невозмутимо подхватывала вилкой кусочки овощей из своего салата и не обращала не остальных ни малейшего внимания.
– Причащаешься и исповедуешься? – осторожно поинтересовался Саранцев.
– Да, а ты против?
Тишина возобновилась и почему-то заставила смутиться всех безбожников.
– Ничего, но выглядит странно.
– Почему? У нас в стране свобода вероисповедания. Терпеть не могу конструкции «свобода совести» – кто-то когда-то коряво перевёл conscience, а мы теперь почему-то обязаны с этим жить. Согласитесь, по-русски выражение «свободная совесть» звучит жутковато.
– Конечно, – спешно подтвердила Елена Николаевна. – В первую очередь ассоциируется с внутренним миром преступника. Очередной пример трудностей перевода.
– Очередной пример необходимости создания нового государственного языка, основанного на собственной морфологии и понятного каждому грамотному человеку, – уточнила своенравная ученица.
– С каждым словом ты кажешься мне всё более странным юристом, – вставил своё правдивое слово Саранцев. Он страшно хотел развить религиозную тему, но боялся ступить на путь в неизвестное.
– Я хороший юрист.
– Не сомневаюсь. Но мне кажется, ты – единственный юрист, подходящий к исповеди. По крайней мере, до тебя мне такие не встречались.
– Откуда ты знаешь? Ты с ними сидел за столом и болтал по душам?
– За обеденным столом не сидел – больше за своим, в кабинете, но беседовать доводилось.
– И ты решил, что верующий должен через слово поминать имя Божье? Этот как раз грех.
– Нет, но суждения верующего, как я думаю, не должны звучать враждебно по отношению к другим людям.
– Зависит от людей, но верующие сейчас в большинстве своём не являют достойных образцов исповедания веры. Много нетерпимости, суеверия, суетности, стремления к внешней обрядности. Родители крестят грудных младенцев, чтобы те не болели, и даже не имеют ни малейшего понятия о том, что крещение – не магический обряд, не колдовство и не заговор, само по себе оно не спасает и тем более не лечит от телесных болезней. Принимающий святое крещение просто даёт Господу обещание стремиться в дальнейшем к христианскому образу жизни, и, если он своё обещание не сдержит, то лучше бы ему не креститься, он себе только хуже сделал. Если же родители крестят маленького ребёнка, то, разумеется, не младенец, а они принимают на себя обязательство воспитать из него искреннего христианина. И если в сознательном возрасте их отпрыск не придёт в церковь, то грех ляжет и на них.
– Анечка, честно говоря, для меня твоё крещение – тоже новость. У меня до сих пор даже мысли не возникало, – высказалась Елена Николаевна. – Ты и платок не носишь.
– Не ношу. Впрочем, брюки и короткие юбки тоже, как вы могли заметить. В наше время женщина летом в платке многими воспринимается именно как верующая, и ношение его можно воспринять как демонстрацию. Я, собственно, нисколько не стесняюсь, но и выпячивать свои убеждения не намерена – суть ведь не в платке, а в образе жизни. Я и на каждую встречную церковь крестным знамением себя не осеняю, и перед едой в ресторане не молюсь, и офис у меня иконами не увешан.
– А дома перед едой молишься?
– Молюсь.
– Живёшь теперь без греха? И не скучно? – поинтересовался Конопляник.
– Не скучно. И я не живу без греха. Даже монахини грешат, такова человеческая природа. Только я хочу уточнить важную подробность. При слове «грех» в голову нерелигиозного человека первыми приходят прелюбодеяние, воровство или убийство, но понятие греха на самом деле шире. Если меня толкнул какой-то невежа, а я на него рассердилась, хотя и не выказала своих эмоций внешне, я согрешила. Самое главное и самое трудное – как раз замечать за собой подобные проступки, понимать их нехристианскую сущность и искренне раскаиваться. Не перед священником на исповеди, а перед самим собой, когда никто из людей тебя не видит и не понимает твоих переживаний.
– Я, конечно, человек сугубо советский, – пошла в атаку Елена Николаевна, – но, думаю, причина моего неприятия церкви всё же в другом. Очень часто заявления церковнослужителей разного ранга по телевизору меня удивляют и даже раздражают. Я ведь не одержима бесами и вовсе не сгораю от желания смертного греха, чем же объяснить мою реакцию?
– Видимо, отличием вашего мировосприятия от убеждений священнослужителей. Они ведь и не обязаны совпадать. Более того, я сама иногда внутренне не соглашаюсь с публичными заявлениями даже иерархов. Православное учение не требует бессловесной покорности пастырям – вопросы можно задавать, постулат непогрешимости не признаётся ни за кем, в том числе за патриархом. А вы можете привести примеры?
– Легко. Меня всегда удивляла практика пожертвования на строительство церквей, например. Как её понимать – если старый греховодник на старости лет построит на свои ворованные деньги храм, перед ним открываются ворота рая?
– Нет, конечно. Бог взяток не берёт. Для прощения грехов человек должен их увидеть, осознать и искренне раскаяться. Не заявить о своём раскаянии вслух, а испытать его в действительности.
– И как же священник поймёт, кается грешник искренне или нет?
– Никак. Прощает не священник, а Господь. Один построит десять церквей, но всё равно не спасётся, другой не пожертвует церкви ни копейки, но войдёт в рай, если не спал ночами, страдал, наказывал себя и стремился загладить свои вины перед обиженными им людьми.
– Тогда ещё вопрос: много раз приходилось слышать, в том числе от священнослужителей, истории о родителях, которых Бог наказал через их детей. Каждый раз меня оторопь берёт: дети-то причём? Даже Сталин говорил, пускай для проформы: дети за отцов не отвечают. Выходит, православные видят проблему иначе?
– Я тоже слышала такое, и не согласна с такой позицией. Особенно чудовищны рассказы, например, о дочери, ставшей проституткой, потому что её родители согрешили, и Господь их таким образом покарал. Разумеется, каждый человек свободен, он не марионетка и не орудие наказания. Тем более, Бог никого не ввергает своей волей в грех – как только в голову такое может придти.
– Хорошо, а откуда у православных такое неприятие деятельного добра?
– Что вы имеете в виду?
– Католические святые делали реальные добрые дела для самых простых людей – спасали их от голода, холода и болезней, а православные – в основном подвергали себя аскезе и молились.
– Запрета на добрые дела в православии нет, если вы об этом.
– Хорошо, запрета нет, так в чём же дело?
– Одних только добрых дел недостаточно, если за ними стоит, например, гордыня.
– Какая гордыня, что ты имеешь в виду?
– Если спасаешь человека от голода или болезни и потому сам себя считаешь святым, то тем самым впадаешь в грех. Оптинские и афонские старцы, канонизированные после смерти, при жизни сокрушались по поводу своей греховности и даже отказывались принимать духовных чад, поскольку не считали себя чем-нибудь лучше их.
– Считать себя безгрешным – греховно?
– Конечно. Я ведь уже говорила – если кто-то не воровал, не грабил, не убивал, он ещё не святой. Принять такую истину трудно, но необходимо.
– Необходимо для чего?
– Для примирения с самим собой. Есть даже притча о двух сёстрах-близнецах. Их разлучили в детстве, одна попала в монастырь, другая – в публичный дом. Но в раю оказалась проститутка, а не монахиня, поскольку осознала свои грехи и стыдилась их.
– Очень удобная позиция для церкви: если все грешны, всем нужно покаяние.
– Церковь не является беспременным условием спасения, она только предлагает помощь страждущим.
– Можно спастись без церкви?
– Можно.
– Такого уж точно никакой священнослужитель не скажет!
– Наверное, не скажет.
– А ты почему говоришь? Если не от священников, от кого ты набралась такой ереси?
– Это не ересь. Читаю разные книжки, ничего удивительного. Сами понимаете, за столько лет комментариев к Писанию накопилось много, мне ещё долго читать.
– И кого же ты читаешь? Противников священноначалия?
– Святых отцов, профессоров богословия, мало ли кого.
– И все они пишут нечто отличное от того, что говорят священники?
– Разное пишут. Например, нет канонического правила о непременном крещении младенцев, у нас просто обычай такой сложился. И неправильно утверждение, будто некрещёные дети в случае смерти не будут спасены – все дети невинны. Церковь не отказывается крестить несмышлёнышей, но не заставляет родителей поступать таким образом, даже если где-нибудь какой-нибудь священник считает иначе. И ветхозаветные праведники, умершие задолго до вознесения Христа, тоже в раю.
– Хорошо, я рада за ветхозаветных праведников, – отмахнулась Елена Николаевна. – А вот я, например, могу надеяться на рай?
– Надеяться могут все.
– Ладно, ты меня поняла. Есть у меня шансы, так сказать?
– Шансы тоже у всех есть – ими только нужно правильно распорядиться.
– Анечка, не юли. Могу я рассчитывать на откровенный ответ?
– Елена Николаевна, вы задаёте невозможный вопрос. Никто не может забронировать рай заранее. Вы думаете, я сама знаю, спасена я или нет? Не знаю.
– Ну кто же, в конце концов, туда попадает?
– Неизвестно. Оттуда ведь никто не возвращался и результаты переписи обитателей горних высей на землю не приносил.
– Как же тогда жить?
– Уж точно не стоит руководствоваться в своих делах расчётами на вознаграждение за них после смерти. Таким путём можно придти только в совсем другое место. Поменьше думать о себе, побольше – об окружающих. И опять же – не из страха будущего наказания, а ради любви. Меня всегда раздражала «Рождественская песнь» Диккенса – какая-то языческая свистопляска. Повесть о Рождестве, где нет Христа. Какие-то духи Рождества – видения белой горячки. И самое главное – Скрудж меняется из страха перед наказанием, и свои добрые дела, получается, совершает тоже из страха. Решил, что заключил сделку с Богом из серии «ты – мне, я – тебе». Вот я сейчас срочно начну делать добрые дела, а ты уж меня после смерти не забудь, пристрой получше. От Рождества осталось одно название, без смысла. Так же, как Санта Клаус – кажется, никто уже и не помнит о святом Николае Угоднике, остался только бородач в красном колпаке из рекламы «Кока-Колы».
– Нет, Анечка, почему же – Скрудж узнаёт о страданиях больного малютки Тима, о существовании которого, видимо, прежде вообще не знал, и в нём пробуждается совесть.
– Думаю, он и прежде видел страдающих людей, взрослых и детей, и даже сам заставлял их страдать, но совесть его благополучно спала. Здесь есть ещё одна ловушка – Тим выздоравливает, Скрудж мирится с племянником и в несколько дней перерождается, после чего начинается всеобщее счастье. Любой человек с мало-мальским жизненным опытом расскажет вам не одну историю о хороших людях, которых преследовали несчастья. Сама по себе идея прижизненного вознаграждения за богобоязненность порочна и провоцирует подобного рода контраргументы. Люди воспринимают тяготы в своей жизни как наказание, а их отсутствие – как свидетельство божественного расположения. И то, и другое – страшное заблуждение. Вся наша земная жизнь – испытание. Господь никого не наказывает, он всех любит, а делает больно, чтобы помочь человеку исцелить свою душу. Воинствующие атеисты любят задавать вопрос: может ли Бог создать камень, который не сможет поднять. Я им отвечаю: Бог не может даже спасти человека без самого человека – каждый сам делает жизненный выбор.
– Значит, несчастья, хоть и не наказание, но всё же свидетельство греховности?
– Елена Николаевна, мы ведь уже договорились – все не без греха. Если человек на гребне успехов и довольства забывает о христианском долге, за гробом его ждёт жестокое разочарование. Успех – ещё одно испытание, а не сертификат на спасение души.
– Но ты ведь не можешь знать всего этого наверное?
– Конечно, нет. Я могу только верить. И каждый волен выбирать себе веру.
– Послушай, но откуда в тебе всё это взялось? Ты ведь училась в советское время, в школе физику и химию изучала, а в институте – научный атеизм. Неужели в один момент просто щёлкнуло в голове – и готово?
– Нет. Положим, физика и химия к вере вообще никакого отношения не имеют. Креационизм я обсуждать не намерена, он меня мало интересует. Научный атеизм прошла и прошла – он моё мировоззрение никак не изменил. Потом стала просто жить, крестилась вместе со всеми в конце восьмидесятых и потом ещё лет десять в церковь не заходила.
– Так, Анечка, если не хочешь рассказывать – мы тебя не заставляем. Правда, ребята?
Конопляник и Саранцев механически кивнули, но Игорь Петрович мысленно взметнулся: нет, пусть рассказывает. Он смотрел на свою бывшую симпатию с некоторым страхом, словно её у него на глазах похитили инопланетяне, и теперь она вернулась от них с грузом знаний и неведомым опытом. Симпатичная девчонка из его памяти вдруг проступила в его жизни потусторонней женщиной. Он смотрел на неё, но не видел. Мысли заметались в голове, обрывали друг друга, перепутывались и создавали новую картину мира, похожую на полотно безвестного абстракциониста.
– Я вот тебя совсем не толкал, а ты на меня разозлилась, – уязвил христианку Саранцев. – И где же твои убеждения?
– Я себя святой не называла, – сухо ответствовала та. – Извини, если тебя задело.
Игорь Петрович отчётливо, как на горячем листке компьютерной распечатки, прочитал в глазах собеседницы все её страсти: негодование из-за него и из-за себя, разочарование от неспособности усмирить тягу к осуждению и безбрежное желание закончить разговор. Ему захотелось встать и уйти, лишь бы не смотреть далее в опостылевшее незнакомое лицо.
– Я всё отлично понимаю, – продолжила Корсунская. – Явилась из многолетнего небытия и сразу бросилась обличать, хотя сама с собой не разобралась и вряд ли когда-нибудь разберусь. Смешна, нелепа, претенциозна, невыносима и так далее.
– Ладно тебе! Преступлений ты не совершала, я надеюсь? – протянул руку друга Игорь Петрович в ожидании ответного жеста.
– Представления о преступности разнятся в разных культурах и в глазах разных людей.
– Я имею в виду преступления в глазах закона.
– Подлогом документов не занималась, но, возможно, в интересах доверителя кое-что замалчивала, кое-что преувеличивала или приуменьшала, но и не лжесвидетельствовала.
– Ладно, я от тебя отчёт в проделанных грехах не требовал.
– А ты никогда не пробовал сам для себя такой отчёт составить?
– Слишком много времени пришлось бы потратить, а мне всю жизнь некогда – всегда спешу и не оглядываюсь.
– Очень рекомендую – отрезвляет и заставляет думать о будущем. Хорошо, оставляю тебя наедине с самим собой. Вы, наверное, воображаете сейчас моё пробуждение к вере через страшный грех, но всё случилось немного иначе.
Рассказ Кораблёвой-Корсунской оказался странным, как и всё её поведение. После школы и юридического факультета она осталась в Москве со своим молодым мужем. Обаянию своего избранника она поддалась ещё на пятом курсе, последовательно отвергнув нескольких его предшественников. Он был старше, уже работал юрисконсультом в каком-то кооперативе и представлял свою будущую жизнь в мельчайших подробностях. Жена являлась существенной деталью мозаики, поскольку её отсутствие вызывало вопросы приятелей и недоверие клиентов. Неженатый мужчина с определённого возраста и вовсе становится подозрительным типом, и Корсунский, хотя столь критичного возраста ещё не достиг, не собирался тратить время попусту. Аня проходила у него практику, он её заметил, выделил и решил не упускать возможность.
Тогдашняя Кораблёва при появлении в её жизни молодого и внимательного к ней юриста сначала оторопела, потом стала к нему приглядываться. Ухажёр действовал шаблонно – приглашал её в рестораны, театры, в гости к приятелям, катал по Москве на своём «мерсе» и осыпал подарками. Она понимала его желание непременно жениться и удивлялась его выбору: чем она хуже других? Аню занимал иной вопрос: стоит ли остаться с ним? Она понятия не имела, за кого следует выходить замуж. Мама осталась далеко, в Новосибирске, мнения подруг разделились, и студентка покорно следовала за Корсунским, оставаясь в нерешительности и не желая от него отказываться.
В её жизни прежде случались увлечения, но большое и чистое чувство она к тому времени сочла атрибутом романов девятнадцатого века. Она вроде бы и видела его вокруг себя: знакомые девчонки порой начинали светиться и мечтать, но потом сочетались законным браком, принимались вести хозяйство и стирать грязные пелёнки. Они восхищались своими карапузами и обсуждали общие проблемы мамаш конца восьмидесятых с их бесконечными очередями и карточками на продукты, Аня их слушала и терзалась сомнениями. Она хотела ребёнка, но в своём доме с садиком, а не в съёмной квартире или под крылом у мужниных родителей с туманными перспективами на получение собственного жилья. В те времена женихов, способных предложить такого рода условия было ещё меньше, чем сейчас, и упускать прекрасного кандидата Аня категорически не хотела. Он ведь не только с домом и машиной, он также не толстый и не лысый! Она рассуждала здраво и солидно, совсем как взрослая, проявляла заботу о будущем ребёнке, а не только о собственном благополучии, и в конце концов сочла выбор верным.






