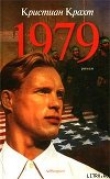Текст книги "И обратил свой гнев в книжную пыль..."
Автор книги: Петер Вайдхаас
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Чтобы добраться до «очка», мне надо было пробежать полгалереи до угла по фасаду, где вниз во двор вела деревянная лестница, а там вдоль той же стены назад в противоположный угол двора, где находился вонючий сортир.
Десять дней и ночей провел я на этом постоялом дворе в изнурительной лихорадке – с грохотом несся по лестнице вниз, когда терпеть уже не было сил, и, слабея с каждым разом, медленно и тяжело дыша, с трудом карабкался назад, добираясь до своих нар и впадая в тяжелое забытье.
Я не различал ни дня ни ночи. Лихорадка и галлюцинации переносили меня в другое измерение, не имевшее ни начала, ни конца. Только муэдзин ронял время от времени в это безграничное пространство свой монотонный клич «Аллах иль акбар!», прерывая царившую в моей голове путаницу внеземными ритмическими паузами.
Через десять дней я настолько оправился, что смог подойти к желобу с кранами и немного помыться. Надев чистое белье, я вышел с постоялого двора, чтобы раздобыть себе какой-нибудь легкой еды. В течение десяти дней я только пил воду и сильно истощал.
Я купил цыпленка, чтобы попросить кого-то сварить бульон, и немного хлеба. Но стоило выйти из лавочки, как бесконечный туман, не отпускавший меня десять дней, снова навалился на меня, и я вынужден был сесть прямо на землю, чтобы не упасть.
Мне помог встать какой-то молодой человек, поднявший не только меня, но и цыпленка, выпавшего у меня из рук. И когда я жестами, а потом по-английски объяснил ему, чего хочу, он приветливо взял меня за локоть и, поддерживая, осторожно и медленно довел до дома своей матери, которая сварила мне восхитительный бульон.
Я пробыл в этом гостеприимном доме четыре дня, его заботливая мать сделала все, чтобы поставить меня на ноги. Здесь же я узнал, что из затеи добраться из Мерсина пароходом до Кипра и дальше до Израиля ничего не выйдет. В Турции началась «революция». Власть взяли военные и свергли правительство премьер-министра Мендереса, а все границы на замке. И тот, кто попытается покинуть страну, может надолго угодить в тюрьму.
Мои обеспокоенные хозяева, которые постепенно занервничали, что незаконно и без разрешения укрывают у себя иностранца, посоветовали поехать все же в Мерсин, сесть там на пароход в Измир или Стамбул, где было больше возможностей, чем здесь, покинуть страну.
Я так и сделал. Еще в тот же день я очутился в пароходном агентстве в мерсинском порту. Через два дня из Израиля должно было прибыть пассажирское судно «Мармара» и отбыть потом через Аланью, Анталью и Фетхие на Измир. Я купил на имя «Talebe» (Немец) за четырнадцать марок восемьдесят пфеннигов билет на нижнюю палубу и укрылся на два дня в маленьком пансионате, где только спал, набираясь сил.
Предстоящее морское путешествие сулило мне все то, о чем я мечтал, думая об Индии: романтическую отрешенность, встречи с людьми, фантастические миражи, необыкновенные пейзажи, горы, море…
Усилившаяся в эти дни способность глубокого эмоционального восприятия окружающего мира наверняка объяснялась моей физической слабостью и связанной с этим сверхчувствительностью. У меня была ясная голова, я воспринимал все происходящее вокруг чрезвычайно отчетливо – каждый удар волны о борт, любое покашливание мучающегося бессонницей пассажира, каждый крик чайки. И бег времени остановился. Стерлось одномерное чередование суток, сопровождающее нас, когда мы прокладываем наши пути по жизни. Все происходило одновременно, и так же одновременно мне удавалось все это воспринимать.
Судно встало на якорь в мерсинском порту, когда опустились вечерние сумерки. Я отыскал для себя защищенное от ветра местечко на передней палубе, пристроил там, насколько это было возможно, вещички и стал ждать, пока суета на палубе уляжется и большинство моих попутчиков – турецкие крестьяне с семьями – устроятся на ночлег. Тогда я встал, пробрался на цыпочках на середину корабля и вскарабкался по бортовой веревочной лестнице наверх, в солярий первого класса. Там я перенес шезлонг в защитную тень от трубы и стал любоваться ночью.
Под монотонное «тук-тук-тук» в машинном отделении «Мармара», переваливаясь с одного бока на другой, медленно прокладывала путь по морю. Почти круглая луна освещала серебристо-голубым светом контуры Тавра, мимо которого мы проплывали под тихое постукивание механизмов. Дул легкий ветерок и шевелил мои тогда еще густые волосы. Я был счастлив. Блаженно ловил мгновения. Небесное пространство надо мной все ширилось, оно было бесконечным. Чавканье морской воды, шлепавшей по днищу судна и бортам и бившейся вдали о скалы, как музыка, ласкало мой слух.
Музыка доносилась и из глубины судна. Из бара то взмывали, то опускались иногда гуттуральные, иногда визгливые, часто повторяющиеся пассажи типичных мелодий в ритме танца живота, их выводил женский голос в сопровождении турецких музыкальных инструментов.
Я слегка задремал в затаенном укрытии, а может, слишком погрузился в свои мысли, от которых очнулся, увидев неожиданно появившуюся у поручней певицу, пропевшую последние такты в ночную тишину моря, навстречу медленно проплывавшему мимо нас Тавру.
Силуэт мужчины с цветком в руке приблизился к неутомимой певице. Галантный кавалер склонился, как на оперной сцене, и протянул даме цветок. Но она даже не взяла его, а обрушила на мужчину словесный шквал, с каждым мгновением набиравший силу и темп и звучащий все громче и громче, а под конец, излив тоску, вырвала у него цветок и бросила за спину – прямо мне на колени.
Я боялся дышать, испытывая, однако, удовольствие при взгляде на отвергнутого любовника, который вскоре после этого исчез. А прекрасная певица – так я предположил в ночи – осталась одна и принялась горько рыдать.
Я был уверен, что все это сентиментальная комедия и сплошной театр, однако все же подумал, не встать ли и не обнять ли ее в утешение. И отнюдь не нелегальное пребывание на палубе первого класса удержало меня от этого шага, а исключительно боязнь, что мне достанется не меньше, чем предшественнику, а то еще и побольше. Так я и остался сидеть в своем укрытии со сладко пахнущей розой в руках. А когда дама перестала наконец плакать и скрылась внутри корабля, я подошел к поручням и, обрывая красные пахучие лепестки один за другим, дал им исчезнуть в морской пучине. Чувство упущенной любви повергло меня в глубокую печаль.
На следующий день солнце стояло уже высоко в небе, когда я проснулся в своем шезлонге. Голубоглазый и белокурый молодой человек стоял прислонившись к поручням и смотрел на меня.
– Что ты здесь делаешь, ты ведь с нижней палубы, да?
Так как на нем был темно-синий пиджак с золотыми пуговицами, я подумал, что он член команды, и стал отвечать ему заикаясь. Он засмеялся и позвал кого-то, кто находился на другом борту корабля. Он крикнул на каком-то языке, которого я никогда раньше не слыхал, но определенно не по-турецки. Появилось четверо или пятеро молодых людей и одна девушка – все чуть старше двадцати – и принялись меня с улыбкой разглядывать.
– Не бойся, мы тебя не продадим, – сказал опять блондин по-английски. – Ты уже завтракал?
Я отрицательно покачал головой, находясь в сильном смущении. Они позвали меня с собой. Я пошел за ними, полный сомнений.
– Мой друг! – сказал блондин стюарду. – Принесите ему мой завтрак!
Здесь за чашкой чая сидели еще несколько человек из их группы, углубившись в разговоры, в которые мой новоиспеченный «друг» время от времени вмешивался.
– На каком языке вы говорите? – отважился я наконец спросить.
Блондин повернулся ко мне:
– На иврите. Древнееврейском языке. Мы – израильские студенты, все – сабры. Ты знаешь, что такое сабр? – Ответа он дожидаться не стал. – Это колючие и сочные плоды одного из суккулентов, то есть мы – «кактусы». Так у нас в Израиле называют уроженцев страны, потому что они – колючие снаружи и нежные внутри!.. А ты, твой английский не британский, откуда ты родом?
Я оцепенел. Вот он, момент, которого я так боялся. Поэтому и только поэтому я так стремился в Израиль. «Голландец!» – мелькнуло у меня в голове. «Я – голландец! Голландцы тоже иногда плохо говорят по-английски. И немецкий они знают!» Я часто выдавал себя во время походов за голландца, опасаясь излишних дискуссий по поводу немецкого характера или рассуждений о милитаристском духе немцев. «Я родом из Голландии. Голландец я!» – кричало все у меня внутри. Меня охватил панический страх, словно я и есть тот самый виноватый – я, этот отощавший «автостопщик», вот уже много лет убегающий от своей несчастной родины, потому что не может снести вины, которая лежит на всех – его родителях, соседях и на возможных «авторитетах». «Я из Голландии, я родом из Голландии: тюльпаны, сыр, Анна Франк! Нет!»
– Я – немец! – выпалил я излишне громко. Группа умолкла, и все как один, посуровев, стали смотреть теперь на меня. Я встал и пошел на палубу, где лежали мои вещи, и сел на свой рюкзак. Вокруг меня кипела громкая и неумолчная жизнь. Палубные пассажиры-турки обихаживали своих детей, курили, болтали с соседями. Во мне все как будто вымерло.
«Я – немец». Немец! – отзывалось эхом в моей душе. Впервые я публично признал свою причастность к тому, от чего, подспудно сознавая свою совиновность, бежал из года в год. Это было так просто: «Я – немец!» Звучало, правда, не очень хорошо. Вроде как «Я один из Гиммлеров, Гейдрихов, Эйхманов». Или: «Я один из тех, кто навечно отмечен клеймом преступника, тот, кто вечно должен нести на себе чудовищную вину, которую взвалили на себя немцы по отношению к евреям». Признав свою идентичность, я почувствовал себя совершенно спокойно, хотя не испытал ни облегчения, ни радости.
Ближе к вечеру он пришел ко мне на нижнюю палубу, этот блондинистый «кактус» из Израиля. Мы долго молча стояли у поручня и смотрели на пенящуюся морскую воду.
– Мои родители смогли убежать в 1938 году, – заговорил он вдруг без всякой связи. – У них была отличная аптека в Люнебурге. Все остальные члены моей семьи были уничтожены – бабушка, дедушка, дяди, тети!
У меня перед глазами встали фотографии из «Желтой звезды»: бабушки, дяди, тети на грузовиках! Он опять замолчал. Мы смотрели на море. Почти все время нашего совместного пребывания на корабле и потом, когда мы жили с ним в Измире в одной комнате, мы молчали. Мы любили друг друга. Нас тянуло друг к другу. Но мы не могли преодолеть то, что стояло между нами: я – немец, он – еврей!
Это было его первое путешествие за пределы Израиля. И это была его первая встреча с молодым немцем послевоенного поколения. Был бы я из старых закоренелых сородичей, сказал он мне однажды после целой недели знакомства, ему все было бы ясно, а так…
На судне не было кошерной еды, и он все время приносил мне вниз то, что полагалось ему. Он садился напротив, но на меня не глядел. Вечерами мы долгие часы сидели друг подле друга на моем любимом месте в тени трубы и неотрывно смотрели на море.
Мне так хотелось рассказать ему о себе и своей жизни, но как только я пытался связать слова воедино, они начинали звучать фальшиво тщеславно или как оправдание. «Оправдание – в чем?» – думал я потом и злился на самого себя. И он тоже делал попытки о чем-то поговорить со мной, но так ничего и не сказал. Так мы и сидели, держа свои мысли при себе, и между нами зависала неподъемная тяжесть, для которой новая жизнь до сих пор не подобрала подходящего слова.
Мы прибыли в Аланью. И могли сойти на берег. Группа израильских студентов решила совершить экскурсию на гору, возвышавшуюся над городом. Морские разбойники воздвигли там во II веке до Р. X. неприступную крепость. Примерно через сто лет, в 67 году до Р. X., римляне отправили туда Помпея и с ним значительные боевые силы, чтобы разбить пиратов, державших под угрозой всю восточную средиземноморскую торговлю. В средние века сельджукский султан Ала-ад-дин Кей-Кубад завоевал этот маленький город и расширил его.
Я присоединился к студентам, мы пешком взобрались на эту историческую скалу и уселись на покрытом скудной зеленью холме неподалеку от вознесшейся над морем остроконечной вершины. Израильтяне предались оживленной беседе на своем языке. Я же сидел немножко в стороне от них, и тут со мной это и приключилось.
Я задремал, и мне приснился сон.
Гора расступилась передо мной, и я заглянул в глубокий круглый кратер. На стенах этого кратера я увидел рыцарей, солдат, панцирные латы и шлемы – воинов всех времен и народов! Все пришло в движение. Казалось, каждый сражается по законам своего периода истории: рубит, колет, стреляет. Я как бы заглянул в историю человечества. И увидел распри и раздоры, беду и нищету народов, победы и поражения, надежды и отчаяние как людей сегодняшнего времени, так одновременно и средневековья, и античности.
Я все видел, и меня вдруг осенило. Я понял, что движет людьми с незапамятных времен. Я постиг закон истории. Я познал закон жизни.
Что это со мной было? Но увиденная мною картина вдруг исчезла. Я поднялся, словно оглушенный, и побрел, пошатываясь, вслед за группой, которая уже начала спуск.
Это было неописуемо! Может, мне, ослабленному болезнью и ставшему сверхчувствительным, было видение? С беспримерной ясностью мне открылась сама жизнь. На «Мармару» я возвратился другим человеком. Последующие часы я сидел на палубе как одурманенный и думал о том, что только что пережил. Что же со мной произошло? Такое ведь не могло мне просто присниться! Это было нечто большее. Оно захватило и изменило меня. Это могло быть только воспоминанием о чем-то, что я уже однажды раньше «знал», некое изначальное, «примальное» воспоминание.
Я не мог себе этого объяснить и, что еще хуже, не мог сформулировать в словах то, что познал. Все было во мне, но я не мог ничего сказать. Мне не хватало для этого слов. Я узнал что-то, что находилось за пределами возможностей языка. И я не знал, как это выразить.
Но с этого момента я наверняка «знал», что жизнь развивается по собственным внутренним законам. С этого момента я «осознал», что жизнь не бессмысленна и не разрушительна, а только следует своим правилам, которые нам предстоит открыть и познать.
Неважно, при каких обстоятельствах случилось это тогда со мной на вершине горы Аланья, но и сегодня, после стольких лет, картины эти кажутся мне даже еще невероятнее: было ли то видением или галлюцинациями, но они стали для меня исходным душевным потрясением, жившим во мне и оказывавшим на меня влияние многие годы. Я все время искал во всем, что приключалось со мной в жизни, объяснение виденному мною на горе Аланья.
Однако наше путешествие продолжалось. Мы прибыли сначала в Анталью, потом в Фетхие, Бурсу и на четвертый день добрались наконец до Измира.
Мы с «люнебуржцем» направились в один пансионат. Я тут же принялся разузнавать, какими путями можно покинуть это заблокированное государство. Похоже, намечалась возможность перебраться через Чесму, расположенную на полуострове в восьмидесяти километрах от Измира, на греческий остров Хиос, до которого оттуда было всего одиннадцать километров.
Я решил испробовать этот вариант. Мой израильский друг стоял на ступеньках пансионата. Мы не простились, не пожелали друг другу счастья и не выразили надежды встретиться однажды снова. Я просто пошел, а он стоял и смотрел мне вслед, пока я не исчез за углом. Мы никогда больше не виделись.
Я сел в маленький автобус, до отказа набитый турками и их домашней скотиной: козами, овцами, курами… Через несколько часов он должен был прибыть в Чесму. Я уступил древней турчанке с трудом отвоеванное при штурме этого тарантаса место и стоял теперь в проходе ковыляющего и подпрыгивающего на ходу рыдвана на одной ноге между ящиками и мешками.
Примерно через сорок минут, отъехав от Измира восемнадцать километров, дряхлый мотор диковинной колымаги начал чихать. Еще через несколько сотен метров он заглох, и все пассажиры вывалились со своим скарбом и скотом наружу, чтобы стать свидетелями того, как водителю удастся запустить это «автоископаемое», испускающее вместе с паром и дух. Вскоре, однако, выяснилось, что водитель просто-напросто забыл заправиться, и тогда все спокойно стали наблюдать, как он пошел с пятилитровой бутылью из-под вина назад в Измир, чтобы наполнить ее горючим.
Мои нервы были словно оголенные провода! Я высчитал, что все это ожидание растянется по меньшей мере часов на пять. Я видел перед собой асфальтированную дорогу и был убежден, что преодолею это короткое расстояние примерно за то же время на попутке. Я догнал шагавшего вразвалочку водителя и потребовал назад свои деньги. Еще и сегодня вижу его удивленный и недоумевающий взгляд, когда он, покопавшись в кармане брюк, отдал мне (в перерасчете) две марки восемьдесят пфеннигов. Довольный, я перекинул рюкзак через плечо, взял гитару и, полный надежд, зашагал навстречу желанной цели.
Начало моросить. Одна, две машины проскочили мимо, и все стихло. Через несколько километров асфальт закончился, и дорога превратилась в скользкую колею, покрытую грязным месивом. Я продолжал бодро шагать, все еще надеясь, что какой-нибудь грузовичок или фургончик ускорит мое продвижение. Навстречу мне шел караван из одногорбых верблюдов и мулов.
– Салам алейкум! – приветствовал проводник, ехавший впереди на осле.
– Салам алейкум! – ответил я.
Местность начала меняться. Обе стороны непроезжей дороги окаймляли теперь рыжие глинистые холмы. Я шел и шел. Постепенно спустились сумерки. И вдруг я кожей ощутил, что вокруг меня – библейский пейзаж. Может, за этими мрачными холмами, громоздящимися с обеих сторон моего пути, и хищные звери водятся? И иду ли я вообще по дороге в Чесму, или уже давно заблудился и не заметил этого?
Меня обуял страх. Теперь я не просто быстро шел, я бежал. И вдруг увидел впереди слабо вспыхивающий свет. Я еще прибавил скорости, двигаясь все время навстречу свету – это оказался разведенный костер. Измученный вконец, я направился к костру. Передо мной расположился на отдых караван. Собаки обнюхали меня, когда я подошел. Тот, кто поддерживал огонь, пробормотал «салам алейкум», на что я, не ответив, сел к огню. Я вытащил из рюкзака кусок сыра. Турок подал мне кожаный мешок с водой. Я поблагодарил его поклоном. Потом раскатал свой спальный мешок, накрылся плащом и заснул мертвым сном.
Когда я наутро проснулся, то был уже один – каравана и след простыл. Огонь еще немножко теплился. Я скатал свой мешок, сложил пожитки и пошел искать дорогу, обнаружив ее вскоре в виде изрытого глубокими колеями непроезжего пути, и бодро зашагал, испытывая радость от только что пережитого «библейского приключения».
Часов около одиннадцати я наткнулся на деревню и решил там позавтракать. В каждой турецкой деревне есть что-то вроде сборного пункта, так называемое «кафе», где, сидя на улице под тентом от дождя и солнца на расшатанных стульях за расшатанными деревянными столиками, можно получить чай, сваренные вкрутую яйца, соль и немного хлеба. Я сбросил с себя в таком «кафе» рюкзак, заказал чаю и одно яйцо и спросил неуверенно обступившую меня деревенскую молодежь про автобус на Чесму, постукивая при этом по циферблату часов и обращаясь к стоявшим поближе с просьбой показать мне время отправления. «Четыре часа», – последовал единодушный ответ, подтвержденный потом и уличными прохожими. Я принялся приводить в порядок вещи, пострадавшие от дождя и грязи, сделал дорожные записи, все время заново справляясь у заходивших в «кафе» людей и показывая на часы.
– Автобус – Чесма?
– Четыре часа, – следовал неизменный ответ.
Было уже три часа, потом четыре и, наконец, пять.
– Автобус – Чесма? – спрашивал я все более нервно.
Наконец мне попался более пожилого возраста житель деревни, повидавший «мир». Он тоже показал на четыре часа на моем циферблате.
– Четыре часа, четыре часа! – заорал я, как безумный. – Но где же тогда этот ваш автобус?
Он прошел в четыре часа, попытался объяснить мне этот деревенский «знаток», но в стороне от деревни, в одном километре отсюда, где дорога на Чесму, там он проехал! Взбешенный, я закинул за спину рюкзак и кинулся бегом из этой дурацкой деревни. Опять я месил грязь на дороге. Потому что опять шел дождь.
Я дошел до хибары, в которой жили с дюжину турецких солдат. Подсел к костру, разожженному у порога, и выпил с ними предложенного мне чаю.
Наступила ночь, и они пригласили меня переночевать вместе с ними. Внутри домика ничего не было, кроме стола и стула. Однако я согласился, потому что события прошедшей ночи подсказывали мне, что нет смысла отказываться от ночлега в сухом месте.
Когда костер потух, мы направились в дом. Я разложил мешок и устроился в нем на ночь. Но из этого ничего не вышло. Стоило последней свече погаснуть, как послышались какие-то странные звуки и стоны. И вот уже один из тех, кто лежал рядом со мной, зашарил по моему спальному мешку. Вот их уже двое, потом трое! И тут до меня дошло, в чем дело. Я выбрался, пустив в ход кулаки и раздавая налево и направо удары, из спального мешка, схватил вещи и бросился на улицу.
Опять я маршировал в одиночестве сквозь этот ночной библейский пейзаж. Опять начало тихонечко моросить. И дождевые капли сбегали по моим щекам, словно слезы.
Вдруг я услышал рычание мотора. Я увидел, как вспыхивают фары – то тут, то там. Как сумасшедший кинулся я бежать, петляя по скользким холмам. Это был мой последний шанс выбраться отсюда. Да, но где дорога? Никогда еще меня не охватывала такая паника. Если машина проедет мимо меня, я не переживу ночи в этой дикой пустыне. Я кидался то в одну, то в другую сторону, где видел вспыхивающий свет фар медленно приближающегося транспорта. Наконец я встал на дороге непосредственно перед слепящими меня фарами и стал призывать водителя, дико размахивая руками, остановиться.
Машина остановилась. Водитель вылез из кабины и подошел ко мне. Это был тот же самый водитель и тот же самый автобус, от которого я в своем возбужденном состоянии отказался накануне. Человек посмотрел на меня печальными глазами, потом покачал головой и медленно повел меня в автобус, в нем было совершенно пусто. Водитель уложил меня на заднее сиденье, укутал одеялом и принес кусочек сыра, перед тем как тронуться дальше.
Примерно в одиннадцать часов утра он ссадил меня перед пансионатом в Чесме. Шатаясь, я вошел вовнутрь. Бросаясь на кровать, я успел только заметить, что все четыре ножки стояли в консервных банках с водой. Я слишком устал, чтобы удивиться этому. Измученный, я заснул в ночлежке, перенаселенной клопами и вшами.
Прошло три дня, прежде чем я нашел рыбака, согласившегося перевезти меня за внушительную по тем временам сумму ночью на Хиос.
В тот же день я сел на пароход, отправлявшийся в Афины: опять место на палубе, но на сей раз никакого шанса забраться на верхнюю палубу первого класса – его просто не было. Мы добирались до Пирея одиннадцать часов, и все это время я держался подальше от пассажиров. Я был весь во вшах. Кроме того, изо рта шел ужасный запах – начиналось цингообразное воспаление десен. И это еще не все – мои кишки тоже не желали «отставать»: перенесенная мною, как я думал, «турецкая болезнь» снова давала о себе знать, да еще и как громко! Это переполненное событиями и горестями путешествие неотвратимо приближалось к концу. Я это чувствовал. Вряд ли у меня хватит еще сил взять в Афинах новый старт и попытаться добраться в обход Турции до цели моей мечты – Индии.
Сойдя в Пирее с корабля, я уже смирился с тем, что это – конец «великого похода» и одновременно одна из завершающих фаз моего жизненного пути. Я не отправился, как раньше, на протестантское кладбище в Афинах, чтобы переночевать там среди могил и собрать на следующее утро у голосующих на дорогах хиппи новейшую информацию о дешевых ночлежках, кратчайших маршрутах передвижения и о покладистых «девицах» вдоль выбранного пути, – вместо этого я купил пачку продававшегося тогда повсюду ДДТ, снял комнату в маленькой чистенькой гостинице и на другой день отправился к говорящему по-немецки зубному врачу, который в тот же вечер пригласил меня – настолько я уже привел себя в порядок – в немецкий клуб «Филадельфия» на богатый витаминами ужин.

Под Фоджей мне снова повезло…
В Афинах я оставался десять дней, пока мое здоровье не пришло окончательно в норму, правда, я угодил там в ловушку к контрабандистам, промышлявшим бриллиантами, от которых избавился, сбежав на паром, курсировавший между Пиреем и Бари.
Под Фоджей «удача на дорогах» снова покинула меня. Я простоял целые сутки на оживленной туристской трассе, и никто ни разу не остановился. В конце концов поздним вечером я решил устроиться на ночлег на пляже и встретил там трех молоденьких итальянок, пустивших меня переночевать в их летний домик. Потом они целую неделю с любовью ухаживали за мной и всячески баловали.
Утешенный, окрепший и с большей внутренней уравновешенностью вступил я в последний этап этого отрезка моей жизни, в течение которого с лихвой изведал эмоциональные взлеты и падения. Я искал бегства на стороне. И это не было только жаждой приключений или желанием увидеть чужие страны. Что-то толкало меня, будто хлыстом выгоняло из дома. Я выскочил и разорвал этот маленький и тесный мирок провинциального рурского городка.
Я словно искал романтический «голубой цветок», скитался по свету, как юный рыцарь в поисках Грааля или «золотого руна», пытался найти какие-то ответы на свои вопросы. Из всего перечисленного я не нашел ничего. Зато познал, что есть другой мир.
Друзья на родине удивлялись, когда я рассказывал им о том, что увидел и пережил, но ни один из них так и не последовал моему примеру, кроме друга Ади, который после моего рассказа в 1957 году о греческом острове Санторин ездит туда постоянно.
Родина обрела некую относительность. Она перестала быть для меня единственно возможным местом и соответственно мироустройством на земле. И я отправлялся назад домой с некоторой уверенностью, что, возвратясь с чужбины, сумею воссоздать там что-нибудь для себя, что сможет с гарантией дать мне чувство принадлежности к этому историко-культурному пространству.