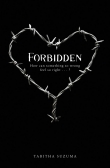Текст книги "Зима, когда я вырос"
Автор книги: Петер ван Гестел
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Почему ты не зовешь ее просто Лишье? Зачем все время добавляешь Оверватер? – спросил папа, почесывая бровь.
– Так ее зовут.
– А почему ты плакал тогда на Амстеле?
По-моему, если человек поплакал и перестал, об этом незачем больше вспоминать. Я так уже совсем забыл о своем приступе плача. И пусть никто мне о нем не напоминает, тем более папа.
– Потому, – сказал я.
– Я спросил: почему?
– Я и отвечаю: потому.
– Вот что я хотел тебе сказать, Томас…
Он замолчал, потому что должен был высморкаться.
– Ну так скажи. А я – я тебе ничего больше не буду говорить про Лишье Оверватер.
Он неторопливо спрятал носовой платок.
– Тебе нельзя поехать со мной в Пайне, – сказал он, – маленькому мальчику там делать нечего; там будут кормить невкусной английской едой, а я должен буду все дни напролет только читать и читать. И я буду расстраиваться от мысли о том, что ты ходишь вокруг и что эти немецкие мальчишки могут украсть у тебя кепку или начнут тебе рассказывать сказки о том, что Гитлер построил хорошие дороги.
– У меня нет кепки.
– Знаю.
– Я останусь тут? – спросил я. – Здесь, в этом доме?
Папа не отрывал от меня взгляда, но не видел меня, потому что думал.
– Ты так хочешь?
– Нет, я просто спросил.
– Ты переедешь к тете Фи. У тебя будет отдельная комната, та вот, боковая, – теперь тебе не придется спать у тети Фи на чердаке.
– И тебя не будет рядом, если я проснусь?
– Не будет.
– Лишье Оверватер едет летом с мамой и папой во Фрицландию [5]5
Фрицландия – нидерландская провинция у побережья Северного моря.
[Закрыть]. Если будет ясная погода, они будут кататься на яхте. Она уже научилась плавать и обещала меня тоже научить.
– Я уезжаю ненадолго, – сказал папа. – Всего на несколько месяцев.
– Ты будешь носить солдатскую форму?
– Ты что, обалдел?
– Но ты же будешь служить вместе с солдатами?
– Нет, я буду служить в цензуре, у англичан; ну да, я буду служить, но ходить буду в своих брюках и в своем пиджаке.
– Ты ведь никогда не стрелял, да?
– Да, никогда.
– Ты об этом жалеешь?
– Что нет, то нет.
– Ты и в Пайне тоже не будешь стрелять?
– Конечно, нет – в кого же там стрелять?
– Во фрицев.
– Зачем?
– Так, ради забавы.
– Нет, Томас, – сказал папа. – Я не буду в них стрелять, они сейчас безоружные и несчастные.
– Я бы в них пострелял.
– К счастью, детям разрешается носить только игрушечные ружья. А то было бы черт знает что.
– У меня нет игрушечного ружья.
Папа засмеялся и спросил:
– Noch ein wenig? Еще немножко?
– Нет! – завопил я.
Среди ночи я проснулся в страхе. Мне снилось что-то ужасное, но когда мне снятся ужасные вещи, я их сразу забываю.
Я зажег настольную лампу.
На соседней кровати спал папа. Богатырским сном.
Одеяло укрывало его не полностью, и я видел его ботинки, полоску носков и белые ноги. Вечером ему было слишком лень раздеваться. Я удивился, что он не просыпается от собственного храпа.
Оттого что папа лежал в кровати так несуразно, а от его одежды пахло табаком, мне вспомнилась голодная зима сорок четвертого года. В середине зимы у папы было еще несколько коробок с окурками, из которых он крутил самокрутки, а вот папиросная бумага кончилась. Из тоненькой Библии, в которой было, наверное, несколько тысяч страниц, он выдергивал полупрозрачные листочки и закручивал в них табак. «Я пускаю в ход только те страницы, на которых Бог ведет себя как Гитлер и истребляет целые народы».
Я смотрел на папу. Ботинки его казались неестественно большими. Подбородок был покрыт черной щетиной, рот открылся. Я никогда больше не буду кидать ему в рот горошины, потому что от этого он может жутко подавиться, знаю по собственному опыту.
Я продолжал думать о голодной зиме.
В конце концов чинарики тоже кончились. Папа время от времени подносил ко рту два выпрямленных пальца и смотрел удивленно, почему это между ними нет сигареты.
Папа застонал. Теперь он мог проснуться в любую минуту.
Вот бы сейчас снова была война, думал я, вот бы опять было холодно и темным-темно на улице, вот бы на всех окнах опять было затемнение, – я бы тогда спал в своей комнате и слушал бы, как в соседней комнате переговариваются мама с папой.
Но война уже давно кончилась, печка топилась с потрескиванием, а у меня болел живот от свиной отбивной.
Я начал проваливаться в сон.
– Что же это такое, – услышал я у себя за спиной папино ворчанье, – как же это я не снял ботинки?
В огромном доме у Звана
На большой перемене все шло шиворот-навыворот. Была пятница. Школа всем уже надоела, до субботнего полдня, когда мы наконец-то будем свободны, еще далеко, а о длинном сонном воскресенье никто вообще не думал.
Ребята в шутку боролись друг с другом.
Я прислонился к стене и смотрел на девочек. Они играли в классики на той части улицы, которая была посыпана песком. Если кто-нибудь из мальчишек, придуриваясь, хотел попрыгать по квадратам вместе с ними, они кричали: «Убирайся прочь, к собственной сестре!» или «Пропади пропадом!» А минуту спустя снова напевали себе под нос в такт прыжкам.
А потом они принялись играть в прятки.
Лишье Оверватер водила: приложила руку к стене недалеко от меня, уткнулась головой в локоть и стала считать. Я осторожненько придвинулся к ней.
– А мой папа, – сказал я ей в левое ухо, – едет во Фрицландию, он стал офицером в английской армии, ух, вчера он примерял форму, он теперь командир, со стеком под мышкой, вот…
Лишье Оверватер перестала считать.
Посмотрела на меня сбоку, дико замотала головой и убежала.
– Он опять за свое! – кричала она.
Девочки вылезли из своих укрытий, окружили Лишье Оверватер и стали смотреть на меня со злостью, хоть я вовсе ничего плохого не делал.
Мальчики прекратили свои дурацкие игры и увидели, что Лишье Оверватер указывает на меня. Как они развеселились! Они медленно придвинулись ко мне целой группкой.
Такой группы лучше остерегаться.
Несколько мальчишек незаметно подошли к Лишье Оверватер сзади.
Вот они окружили нас с Лишье. Мы оба оказались в идиотском положении, и я этому страшно радовался.
– Это жених и невеста! – заорал Олли Вилдеман. – У них любовь, ха-ха-ха!
Девочки закрыли лицо руками. Мальчики из других классов оборачивались и смотрели через плечо, что это у нас за шум, но не вмешивались.
Я обрадовался, что мы с Лишье Оверватер жених и невеста, но и испугался тоже. Раздумывать было некогда. Они тянули меня вперед и вперед. А мою «невесту» подталкивали все ближе и ближе ко мне. Ей это совсем не нравилось. Она громко визжала и отбивалась; казалось, будто она хлопает то одну, то другую муху на лбах и щеках у этих мальчишек.
Я был от нее без ума.
Мы подходили все ближе и ближе друг к другу – Лишье Оверватер и я. Еще чуть-чуть – и наши носы столкнутся.
Я не понимал, чего от нас хочет эта кодла.
– Вы чё, нельзя, нам же запретили, – сказал у меня за спиной Дан Вролик, – ведь у него умерла мать.
Я видел злые глаза Лишье Оверватер. Она плотно сжала губы.
– Поцелуйтесь! – рявкнул Олли Вилдеман. – А ну-ка поцелуйтесь этак нежненько.
Рука, державшая меня сзади за загривок, сжалась еще сильнее. Я ни за что не хотел оказаться еще ближе к злющему лицу Лишье Оверватер; не хватало только, чтобы она меня укусила. Мне удалось вырваться. Тогда меня снова грубо схватили за загривок. Я во второй раз вывернулся и стал как сумасшедший молотить кулаками. Кто-то подставил мне ножку, и я растянулся во весь рост на белом снегу. Секунду спустя меня со страшной силой пнули в бок. К своему ужасу я заметил, что чуть не задыхаюсь от громких рыданий. И укусил кого-то за руку, оказавшуюся рядом с моим лицом. Такого громкого вопля я не слышал еще никогда в жизни. Даже девчонки из других классов прибежали посмотреть, в чем дело, хоть так не принято.
Тут эти гады вмиг оставили нас с Лишье Оверватер в покое. Просто отошли прочь и продолжили свои идиотские прерванные игры – снова дрались, ругались и плевались.
Лишье Оверватер причесала растопыренной пятерней волосы, помотала головой и поправила юбку, затем повернулась в другую сторону, сделала два шага и опять стала преспокойно прыгать по своим квадратам, а другие девочки из нашего класса потолпились вокруг нее и тоже вернулись к прежней игре.
Казалось, будто ничего и не произошло. Даже мальчишка, которого я укусил, снова смеялся.
Только я был теперь не такой, как прежде. Руками я вытер лицо, хотя прекрасно знал, что от такого вытирания оно станет еще грязнее. Но грязное лицо лучше, чем бледное и заплаканное.
Пит Зван, вернувшийся со своей ежедневной прогулки на перемене вокруг квартала, совершенно спокойный, подошел ко мне. Помог мне встать.
– Томас, – сказал он, – что же ты такое делаешь?
– Одного из них я здорово укусил, – сказал я.
– Тебя ни на секунду нельзя оставить одного.
– Кусаться очень подло, – сказал я.
– Вот и я про то, – сказал Пит Зван.
Мы с Питом Званом шли рядом по мосту Хохе Слёйс. Я не мог для себя решить: это он идет со мной или я иду с ним? Иногда такие вещи непонятны.
Посередине моста мы остановились. Мы увидели мост Махере Брюх и там, вдали, Синий мост. По льду, как по широкой белой дороге, шла женщина в черном пальто и везла за собой санки, на которых сидел маленький мальчик. Ну совсем как на рождественской открытке. А если я чего-то терпеть не могу, так это таких вот слащавых рождественских открыток.
– Не люблю Амстел, – сказал я.
– Амстел красивый, – сказал Пит Зван.
– Мы дома не праздновали Рождество, – сказал я.
– А-а, – сказал он.
– Мы посидели у печки и выпили по стакану горячего молока. По радио, к счастью, не было баек про младенца Иисуса, а играла красивая тихая музыка.
– А кто это «мы» посидели у печки?
– Мы с папой.
– A-а, – сказал Пит Зван.
– У тебя наверняка было веселое Рождество, да, в доме на Ветерингсханс?
– Почему ты так думаешь?
– С высоченной зеленой елкой, да? Мой папа начинает чихать от елок, он чихает даже от герани на подоконнике у тети Фи.
– У него сенная лихорадка?
– А что это такое?
– При сенной лихорадке человек чихает весной из-за пыльцы.
– Значит, это не сенная лихорадка, раз папа чихает зимой от рождественских елок. Это ты промахнулся. Папа начинает точно так же чихать, когда по радио поют йодлем [6]6
Йодль – особая звукоподражательная манера пения без слов.
[Закрыть]. А ты любишь йодль?
– Нет, – сказал Пит Зван, – отвратительные звуки.
– Но ты от них не начинаешь чихать?
– Почти начинаю, – сказал Зван.
Мы пошли дальше.
Я все рассказывал и рассказывал ему про наше Рождество – и в конце концов совершенно забыл, что он идет рядом со мной. Например, я рассказывал:
– От музыки по радио мы осоловели. «Прекрати напевать», – сказал я папе. «Ты что, сильно не в духе? – спросил он. – Знаешь что, давай проветримся, я знаю очень хороший кафешантан». И мы пошли в этот очень хороший кафешантан, там среди столиков стояла огромная елка – такая, под потолок, с золотыми и серебряными гирляндами, и на расстроенной скрипке скрипач играл рождественскую мелодию, было так здорово…
– А как же вас туда пустили? – спросил Пит Зван с улыбкой. – Разве можно просто так?
– Нет, – поспешно ответил я, – ты что, здоровенный портье в фуражке сказал, завидев меня: «Детям сюда нельзя, ни в коем случае», но папа дал ему гульден на лапу, и он сделал вид, что не видит меня.
– Да, – улыбнулся Питер Зван, – так можно решить любую проблему.
– Так вот, – продолжал я, – мы сидели вдвоем за малюсеньким столиком, после занудных рождественских мелодий зазвучала наконец-то веселая музыка, папа сказал: «Под такую музыку могут танцевать только обезьяны», но все-таки пошел танцевать, с длинной-длинной дамой, во рту у нее был длинный-длинный мундштук с тоненькой сигаретой, она чуть не подожгла папе волосы – ведь папа у меня небольшого роста.
Дойдя до площади Фредерика, мы перешли через нее и вошли в Галерею [7]7
В Галерее на площади Фредерика, построенной в XIX веке и разобранной в 1960 году, располагались магазины и зрительный зал.
[Закрыть]. Было очень приятно идти по чистым плиткам, а не по твердому снегу. Большого смысла в этой прогулке по Галерее нет, потому что, идя через нее, делаешь лишний поворот, но нам с Питом Званом спешить было некуда. Вот только я не мог понять, кому же это из нас двоих пришла в голову мысль зайти в Галерею.
– А я и не знал, – сказал Пит, – что кафешантаны в Рождество бывают открыты.
– Конечно, открыты, – сказал я, – просто вы этого не знаете; вы не знаете, потому что сидите дома, глядя на зажженные свечки.
– По-моему, твоему папе не место в кафешантане.
– Откуда ты знаешь, Зван?
– Ты всегда будешь меня так называть – Званом?
– Да, потому что имя Пит неинтересное. Кто же дает своему ребенку имя Пит?
– Мои папа с мамой дали мне имя Пит, – сказал Зван. – А ты часто рассказываешь такие замечательные истории?
– Нет, – сказал я. – А тебе правда понравилось? Ты, наверное, шутишь?
– А другим эти истории нравятся?
– Дядя Фред их терпеть не может. Как-то раз он сказал: если ты до двенадцати часов не скажешь больше ни слова, я дам тебе двадцать пять центов.
Зван тихонько присвистнул.
– Я очень хотел получить эти двадцать пять центов. Но потом меня вдруг опять понесло рассказывать…
Зван затрясся от смеха. Странное дело, его смех можно было только увидеть, а слышно ничего не было.
Мы вышли из Галереи.
У кинотеатра напротив «Вана» мы остановились. Если бы мы пошли дальше, то на углу Ветерингсханс и канала Регюлир нам пришлось бы расстаться. Мы стали рассматривать афиши: там были кадры из фильма о каком-то английском короле в блестящих латах.
– Это Генрих Пятый, – сказал Зван и показал на мужчину с такой же челкой, как у меня. – Он перебил много французов, поэтому он теперь герой. Через пятьсот лет немцы тоже будут считать Гитлера героем.
– Нет, – сказал я, – не может быть, такого не будет никогда.
– Все может быть, – сказал Зван.
– Я спрошу у папы, как он думает, – сказал я.
– Твой папа – неловкий и застенчивый человек из художественного мира, да ведь?
– Ты ничего не знаешь о моем папе, – сказал я.
– Ты рассказывал мне, что он пишет книгу, – значит, он из художественного мира.
– Но я не рассказывал, что он неловкий и застенчивый.
– Это я знаю от Бет.
– А кто такая Бет?
– Бет живет этажом выше, – сказал Зван.
– Я не спрашиваю, где она живет.
Зван смотрел прямо перед собой.
– Это твоя сестра?
– Двоюродная.
– Она блондинка?
– Нет, не блондинка, у нее черные-черные волосы.
– А сколько ей лет?
– Послушай, Томас, прекрати занудствовать, пожалуйста.
– Ты что, я не занудствую, мы же весело болтаем…
– Ей тринадцать лет.
– Ого, как много.
– Да, ей уже много лет.
– А почему твоя двоюродная сестра живет над тобой?
– Она там спит и делает уроки.
– Уроки?
– Почему ты так поморщился?
– Это звучит ужасно.
– Я пошел домой, – сказал Зван.
– Я тоже, – сказал я.
– Пошли со мной вместе, – сказал Зван, – у меня дома иногда бывает весело, заранее никогда не знаешь.
Уже на лестнице Зван начал разговаривать шепотом.
– Почему ты шепчешь, Зван?
– А вдруг она спит.
Я подумал: какой прок от двоюродной сестры, если она дрыхнет посреди дня.
Он медленно-медленно открыл дверь наверху. Вот глупый. Если не хочешь, чтобы дверь скрипела как не знаю что, ее надо открывать быстро, а не медленно.
Мы вошли в довольно темную гостиную в глубине дома. Двери между комнатами были закрыты. На большом столе из красивого темного дерева, без скатерти, стояли две тарелочки, на каждой по блестящему яблоку и серебристому ножику. Еще я увидел открытую баночку варенья, из которой торчала тоненькая ложечка, – это напоминало натюрморты дяди Фреда. Теперь я понял, почему Зван разговаривал шепотом, – это был дом, располагающий к шепоту. Здесь вместо переносной печки был камин, за окошечком светились раскаленные угли.
Зван подошел к закрытым дверям в соседнюю комнату, приложил ухо к дереву и прислушался.
– Она спит, – прошептал он.
– Пим, – раздался женский голос, – я тебя слышу, раздвинь же двери!
– Она не спит, – прошептал я.
Зван раздвинул двери, отчего в нашей комнате стало светлее.
В комнате со стороны улицы было очень мало мебели, тетя Фи назвала бы такую комнату лысой. Обои были светлые, здесь тоже горел камин, на каминной полке стояли только большие часы – они не тикали и показывали двенадцать часов, так что от них не было никакого проку.
На диване с изогнутой спинкой сидела, опираясь на большую подушку, женщина. Ее ноги были прикрыты одеялом.
По-моему, она смотрела в окно.
– Боже мой, кто это с тобой, Пим? – спросила она.
Откуда она знала, что Зван пришел не один? Увидела мое отражение в стекле или почувствовала, что Зван кого-то привел?
Она повернулась в мою сторону.
Это была, что называется, благородная дама, в «Вана» таких дам не встретишь.
– Кто ты такой? – спросила она.
– Это Томас Врей, тетя Йос, – поспешно сказал Зван. – Он живет тут напротив, на канале Лейнбан, его дом видно отсюда.
Ничего себе! Звану был виден мой дом, если он смотрел из гостиной в глубине дома через канал. Вот уж о чем я не думал. Сколько раз он, наверно, подсматривал за мной, когда я дышал на стекло и рисовал на нем фигурки или играл на улице или в одиночестве на льду? Сколько раз он видел моего папу у окна? И маму – сколько раз Зван видел мою маму?
– Я хочу услышать его собственный голос, – сказала тетушка Звана. – Томас, скажи что-нибудь.
Я молчал.
– Скажи же, не стесняйся.
– Чего там стесняться. Мы учимся в одном классе, – сказал я.
– Он говорит не совсем интеллигентно, Пим, – сказала тетушка.
– А вы что, заболели? – спросил я.
– Пардон, – ответила она.
– Томас хотел спросить: «Как вы себя чувствуете, мефрау?» Бет ведь рассказывала вам, тетя Йос, про Йоханнеса Брея и его сына, помните?
– Очень может быть, – сказала тетушка. – Бет много что рассказывает.
В присутствии тетушки Зван казался каким-то маленьким и не выглядел так солидно и взросло, как в школе.
Тетушка рассматривала меня.
Елки-палки, подумал я, у меня такие грязнющие колени, и лицо тоже перепачканное.
– Случилось что-то очень плохое, да, Пим? – спросила она. – Наверняка случилось что-то плохое; всегда случается что-то плохое… Как же я забыла…
– Это неважно, – сказал Пим.
– Все важно… А может, и нет, – сказала она.
Взяла стакан воды, положила на кончик языка таблетку и залпом выпила воду.
– А Бет дома? – спросил Зван.
– Голубчик, – сказала тетушка, – я не знаю. Твой друг такой тощенький, он, наверное, голоден? Покорми его, если он хочет есть, а сам не ешь, ты достаточно упитанный.
Зван вовсе не был толстым. Но его тетушка выглядела очень худой. Ее руки выше локтя были тоньше моих лодыжек.
– Как вы сегодня себя чувствуете, тетушка? – спросил Зван.
– Я поспала часа два-три, а когда проснулась, был уже день.
– Доктор сказал…
– Лучше бы доктор ничего тебе не говорил; наш доктор слишком мал ростом, я хочу доктора повыше, он бы увидел, что ты всего лишь ребенок. Я рада, Пим, что у тебя теперь есть друг, я этому очень рада. А ты тоже рад?
– Чрезвычайно, – сказал Зван хмуро.
Тетушка Звана рассмеялась.
– Мне нет даже сорока лет, – сказала она мне. – Я вовсе не пожилая дама, как ты, наверное, подумал. Я не знаю твоего отца. А откуда Бет его знает? Я знаю очень мало. Но я точно знаю, что Пим привел тебя не просто так, тут должно быть что-то особенное. А если в тебе есть что-то особенное, то просто так этого и не расскажешь, правда?
– Ничё во мне такого нет, мефрау, – сказал я.
– Послушай, Пим, он говорит очень небрежно, да; на канале Лейнбан все так говорят, не думая о культуре речи?
– Это влияние школы, – сказал Зван. – Время от времени он разговаривает так же, как многие ребята в школе, а сейчас он так разговаривает оттого, что смущается.
– Но ты же учишься в том же классе. Почему ты не говоришь, как остальные ребята? Хотя да, конечно же, я знаю, что ты не общаешься с другими, у тебя свой путь, ты слишком много читаешь, от тебя надо прятать книги. Ты уже принес уголь с чердака?
– Сейчас схожу.
– Ты не оставишь меня наедине с этим мальчиком?
Зван вышел из комнаты, потом обернулся и сказал:
– У него год назад умерла мама.
А потом спокойно закрыл за собой дверь.
– И еще сходи в «Вана», – крикнула ему тетушка, – купи печенья «Мария».
Я остался с ней с глазу на глаз. Она смотрела на меня.
Зачем Зван рассказал про мою маму? Глупо с его стороны. Теперь я стоял как дурак. В этой богатой комнате мне совершенно не хотелось быть несчастным сиротой с неинтеллигентным выговором. Как ни странно, я подумал: может быть, я попал сюда благодаря тому, что у меня умерла мама? Вот уж нетушки. Какая чушь. Но если такие мысли приходят в голову, то они приходят в голову, ничего не поделаешь. Я засмеялся.
– Что же тут смешного? – спросила она.
– Ой, ничего, – сказал я.
– Ты тоже считаешь, что Пим немного странноватый?
Я и не кивнул, и не помотал головой. На странноватые вопросы лучше не отвечать.
– Год назад, – сказала она.
– Меня не надо жалеть, – сказал я.
– Ну и правильно. Люди, вызывающие жалость – это ужас. И это слишком просто. Если хочешь вызвать жалость, всегда можно найти повод. Твоя мама болела?
– У нее был грипп, – сказал я.
Тетушка чуть не рассмеялась, но вовремя сдержалась и только глубоко вздохнула.
– Сколько тебе лет? – спросила она.
– Десять, – ответил я.
– Пиму тоже десять – хотя ты, конечно, и сам это знаешь. Я терпеть не могу разговаривать о возрасте. Ты тоже не любишь? Десятилетнего мальчика никто не принимает всерьез.
– Я об этом не думаю, – сказал я.
– А Пим думает, и слишком много. Поэтому он мало разговаривает. Он тебе нравится?
Я пожал плечами.
Она тоже пожала плечами. Когда одноклассники меня копируют, это противно, а когда взрослые, то это весело.
– Я рада, что ты не сказал: он мне нравится.
– Почему?
– Это слишком простой ответ, а вот пожать плечами – это отлично. Ты скучаешь по маме?
Знаю я этих взрослых. Они часто задают вопросы, к которым ты не готов.
– Я жду ответа, Томас.
– Скучать – я не совсем понимаю, что это значит.
– Я тоже не совсем понимаю, что это значит.
– Вы меня дурите?
Она улыбнулась.
– Вовсе я тебя не дурю, – сказала она, – но каким языком ты разговариваешь, почему ты не сказал: «Вы надо мной смеетесь?..» Хочешь приходить к нам почаще? Просто звони в дверь, если надумаешь. Может быть, кто-нибудь откроет, может быть, нет.
Я помотал головой.
– Я кажусь тебе старой и уродливой?
Я опять пожал плечами – ведь я знал, что ей это нравится.
– Уходи. И закрой за собой двери.
В гостиной никого не было.
Я посмотрел на два яблока и на ложечку в банке с вареньем. Яблоки мне лучше не трогать, а варенья можно лизнуть. И еще можно быстро сбежать вниз по лестнице.

Я подошел к одному из больших окон, посмотрел на улицу и увидел на той стороне канала наш дом. С такого расстояния он казался очень узким. Там у окна стоял мой папа.
Я помахал ему.
Сколько я ни махал, он не пошевелился. Да и как он мог знать, что я здесь стою. Казалось, он погружен в тяжкие размышления. Я ничуть не удивился – это его обычное состояние.
В этом незнакомом доме я разговаривал о маме. У нас дома мы этого не делали. Не знаю почему. Не говорили – и все.
Может быть, я стал предателем?
Папа пожал бы плечами, если бы я ему об этом рассказал. А если бы спросил, не стал ли я предателем, он ответил бы: «Если хочешь быть предателем, то ради бога, я не возражаю».
Дверь у меня за спиной открылась, и в комнату кто-то вошел. Я обернулся и к своему изумлению обнаружил, что это не Зван, а девочка с длинными черными волосами и очками в железной оправе на носу. Она была не слишком большого роста.
Я показал большим пальцем за спину, в сторону своего дома, и сказал:
– Э-э-э, я живу вон там, я одноклассник Звана.
Она кивнула.
Я показал на закрытые раздвижные двери и сказал:
– Зван думал, что она спит, но она не спит. Тебе правда тринадцать лет?
Девочка ничего не ответила. Она была похожа на школьную учительницу в уменьшенном масштабе.
– Зван зовет ее тетей, – сказал я. – А ты знаешь почему?
– Наверное, потому что она его тетя.
– И ты тоже зовешь ее тетей?
– Нет, мамой.
– Почему?
– Потому что она моя мама.
Она смотрела мне прямо в глаза. Для девочки она уже очень долго со мной разговаривала. Я к такому не привык. Я чувствовал это даже коленками; еще немного – и мне пришлось бы схватиться за стол, чтобы не упасть.
– Ты Томас Врей, – сказала она. – А я Бет Зван. Пим – мой двоюродный брат. Как ты себя чувствуешь, Томас?
– Доктор снова разрешил мне есть всё, – сказал я.
Она на миг насупилась.
Шутку о том, что доктор разрешил все есть, я украл у Мостерда. Он всегда так отвечает, когда папа спрашивает его о здоровье. Бет не могла этого знать. Но улыбнулась она совсем незаметно. Так я решил. Улыбаться – это вообще чуть-чуть, а улыбаться незаметно – и вовсе чуть-чуть-чуть.
– Ты вырос, – сказала она.
Бет подходила все ближе ко мне. От волнения у меня заболел живот. Она была в точности того же роста, что и я, ни на сантиметр больше, ни на сантиметр меньше. Она обошла вокруг меня, потом остановилась совсем рядом, наши носы почти соприкасались. От нее пахло остывшим раствором порошка для кипячения белья, очень приятный запах.
– Ты какой-то бледненький, – сказала она. – Ты достаточно ешь меда?
– Мед у меня скоро из ушей польется, – сказал я.
Она быстро отошла от меня, выдвинула ящик из темно-коричневого шкафчика – и быстро вложила мне в правую руку ослепительно чистый носовой платок.
– Не только мед из ушей, но и кое-что из носа, – сказала она. – Пожалуйста, высморкайся!
О боже, подумал я, неужели заметно, я же знаю, что нос время от времени надо вытирать.

Я хорошенько высморкал нос. Я никогда в жизни еще не сморкался, стоя совсем рядом с девочкой; мне стало ужасно неловко.
Когда я протянул ей платок обратно, она поморщилась.
– Ты что, он мне больше не нужен, оставь себе.
– Спасибо, – сказал я, – от него приятный запах. Я буду каждый час сморкаться в твой платок, независимо от того, надо или нет.
– А где Пим?
– Пошел в «Вана», – сказал я. – За печеньем «Мария».
– А-а, – сказала Бет, – он там всегда стоит мечтает, а все эти нахалки лезут без очереди.
– Вы зовете Звана Пимом, да?
– Да, Пимом.
– И правильно, – сказал я. – Пит – поганое имя.
– Ты всегда так сквернословишь?
– Я? Сквернословлю?
– Ты уже видел мою маму?
– Еще бы.
– Что она тебе сказала?
– Много всего.
– Вы с Пимом вместе играли в детстве, помнишь?
– Нет, – сказал я. – Зван вообще никогда не играет.
Ей понравилось, что я называю ее двоюродного брата Званом.
Я с первой минуты влюбился в Бет по уши. Но не Думаю, что она с первой минуты влюбилась в меня по уши.
– Вы со Званом просто забыли, вам было тогда по четыре годика.
– По четыре года? Нет, не может быть.
– Тебе что, никогда не было четыре года?
– Конечно, когда-то было, но ужасно давно.
– Ден Тексстрат – тебе что-нибудь говорит это название?
– Да, это тихая улица, там отлично можно играть в футбол в одиночку, там есть глухая стена.
– Ты все забыл о том времени, когда тебе было четыре года?
– Конечно, помню – я ходил тогда в христианский детский сад.
– Почему в христианский?
– Он был близко от дома, там рассказывали всякие интересные истории, ах ты господи, про Авессалома и Давида, до сих пор помню. Авессалом хотел стать царем, но царем уже был его отец, и тогда Авессалом подумал: а укокошу-ка я папу. Получилось черт знает что, Авессалому пришлось взять ноги в руки, но улепетывая, он запутался длинными волосами в кустах и там повис.
– Каким грубым языком ты говоришь! – возмутилась Бет.
– Он барахтался, как рыба на крючке, а потом Иоав пронзил его три раза копьем. Давид плакал об умершем сыне; воспитательница заливалась слезами, рассказывая об этом, а я нет – мне было просто очень интересно.
– Это хорошая история. Только очень уж много ты употребляешь грубых слов. А ты понимаешь, о чем в ней речь?
– Конечно, я же ее тебе рассказываю.
– Речь в ней идет о борьбе между отцом и сыном – о борьбе между могуществом и молодостью.
Я не понимал, о чем она.
– Это отличная история, – сказал я, – тебе она тоже нравится?
Бет рассмеялась.
– Любой сын узнаёт в ней себя, даже если сыну четыре года.
– Зван никогда ничего не рассказывает о Ден Тексстрат – она здесь совсем рядом, рукой подать.
– Да, я знаю.
От моей истории мне стало тепло и приятно. По-моему, Бет тоже разрумянилась.
– Только не разговаривай о ней с мамой или с Пимом, – сказала Бет.
– Неужели они не знают историю про Давида и Авессалома?
– Да нет же, глупенький, не говори с ними о Ден Тексстрат.
Я вытащил из кармана носовой платок, потому что струйка из носа достигла верхней губы, и снова громко высморкался.
Двумя пальцами Бет собрала крошки со стола и ссыпала их в одну из тарелочек. Я смотрел на ее бледные руки и коротко подстриженные ногти.
– Я так испугалась, – сказала она, не глядя на меня, – я так испугалась, когда услышала, что у тебя умерла мама.
– А кто тебе об этом рассказал?
– Твой папа. Я случайно встретила его на улице. И спросила: «Как поживает малыш Томми, как поживает ваша жена?»
Я вздохнул и подумал: какая вежливая девочка.
– И тогда он мне рассказал. Пиму я на всякий случай не стала говорить.
– Папа ни разу не упоминал ни о какой встрече, – сказал я. – Он никогда не рассказывает об обыкновенных вещах – о том, что происходит за углом или что он делает в городе.
– Когда я услышала, что вы с Пимом оказались в одном классе, я подумала, что, наверное, скоро тебя увижу.
И Бет смущенно засмеялась.
Я тоже смущенно засмеялся, но у меня получилось не так хорошо, мой смех был больше похож на фырканье и иканье.
– И вот ты наконец пришел, – сказала она. – Почему ты не снимаешь пальто, Томас?
Я медленно снял пальто.
Пим был ее двоюродным братом, ее мама приходилась ему тетей, и мне было запрещено разговаривать про Ден Тексстрат. Когда чего-то не понимаешь, то можно спросить, как и что, но когда ничего не понимаешь, то и спросить ничего не можешь, потому что не понимаешь, с чего начать.
За столом мы сидели втроем. И ничего не говорили.
Бет намазывала мед на несколько печений «Мария».
Зван аккуратно и медленно счистил шкурку с двух яблок. Одно из них он потом отдал Бет, второе оставил себе.
Мне он не дал ничего, хотя Бет и поставила передо мной блюдечко.
Красивыми ножичками они разрезали яблоки пополам. И каждый дал мне по половинке. Теперь на моем блюдечке лежало целое яблоко, а у них по половине.
Бет и Зван разрезали свои половинки на маленькие кусочки и съели их жутко аккуратно, не было слышно ни звука.
Я откусил кусок яблока зубами и с удовольствием услышал свое собственное чавканье – в этом доме на Ветерингсханс было слишком тихо.
Потом мы все съели по печенью с медом. Пальчики оближешь! От сухого печенья «Мария» я всегда кашляю, а «Мария» с медом тает на языке, это еще вкуснее, чем «Наполеон».
Я подумал: сразу видно, что у них за столом не каждый день сидят гости.
– У нас здесь почти никто не бывает, – сказала Бет.
Я ни о чем не стал спрашивать.
Но я не хотел, чтобы опять наступило долгое молчание.