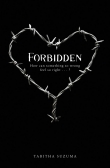Текст книги "Зима, когда я вырос"
Автор книги: Петер ван Гестел
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Два мальчика поодиночке
В воскресенье утром я пошел к тете Фи за своей еженедельной порцией «Наполеона». Иногда я думаю о тете Фи, сам того не желая. Это сестра моей мамы, на два года старше нее. «Мне шесть лет, – сказала мне когда-то, давным-давно, одна девочка, – а тебе восемь, так что ты умрешь раньше меня». Я с ней полностью согласился. Но она ошиблась. Мама умерла, а тетя Фи жива-живехонька.
На Ван Ваустрат не было ни души. Собака с длинной шерстью обнюхивала помойные бачки. Такая же голодная, как я. Но у нее была теплая шуба, а у меня – нет.
Из печных труб на больших домах поднимался дым. Когда я на него смотрел, у меня затекала шея.
Мои руки превратились в ледышки.
Я опять потерял варежки. Если тетя Фи заметит, то свяжет мне новые из кусачей шерсти. Не так давно она связала для меня рейтузы – за один день в школе они меня так искусали, что я даже заболел.

До Теллегенстрат, где живет тетя Фи, совсем недалеко. Там стоят дома из аккуратных кирпичиков и с квадратными окнами. Воскресенье на Теллегенстрат – это воскресенье втройне.
Я увидел тетю Фи в среднем окне ее квартиры на втором этаже – она поливала герань. Заметила меня и стала мне изо всех сил махать. Я взбежал по лестнице бегом. Да, получается, я люблю ходить в гости к тете Фи.
Таз уже стоял посреди комнаты. Тетя Фи взяла ведро с горячей водой и наполнила таз, не пролив на пол ни капли.
Хорошо, что сегодня воскресенье.
Этих веселых девушек, которым тетя Фи по будням дает уроки кройки и шитья, сегодня не было. Я не люблю, словно старикан, сидеть с ногами в тазу, когда вокруг меня порхают девушки лет восемнадцати. Они тогда смеются надо мной. Это, впрочем, ничего не значит: они смеются от всего, что видят и слышат.
Я восседал на кресле с твердыми пружинами. Тетя Фи присела передо мной на корточки и сняла с меня сапоги. Я видел ее макушку и вдыхал запах маминого горьковатого шампуня.
Тетя Фи вытащила из сапог мои носки.
– Постираю, – сказала она, – и заштопаю, на печке мигом высохнут.
Я сунул ноги в воду.
По привычке сказал:
– Ой, как горячо.
Я наклонил голову как можно ниже, чтобы она не видела, как я сияю от счастья.
– А где дядя Фред? – спросил я, после того как тетя Фи повесила выстиранные носки на сушилку у печки.
– Он в кино, – сказала тетя Фи, – в зальчике, где по утрам в воскресенье показывают документальные фильмы об Африке. Твой дядя обожает их – знаешь почему?
Я помотал головой, потому что не имел об этом ни малейшего представления.
Тетя Фи неожиданно качнула бедрами и сделала волнообразные движения руками. Я испугался, когда она протанцевала по комнате.
– Зулусские девушки, понимаешь ли, – сказала тетя Фи грустно. – Они танцуют и поют нагишом, и за пятьдесят центов можно на них смотреть.
Я смущенно глядел на пальцы своих ног. В горячей воде они казались совсем белыми.
– Африканская природа твоего дядю ни капли не волнует, – сказала тетя Фи. – Он наслаждается этими черными попками.
Я ничего не говорил. Я когда-то раньше уже слышал разговоры о том, что дядя Фред хотел фотографировать учениц тети Фи голышом. Тетя Фи ему не разрешила. На самом деле дядя Фред мечтает быть настоящим фотографом, но пока не получается, он работает на душной работе в большой конторе, где ему не разрешают дни напролет толковать о фотографиях. Тетя Фи говорит ему, чтобы он фотографировал натюрморты, потому что ей это очень нравится. Вот Фред и занимается натюрмортами. Эти фотографии развешаны по всем комнатам – гигантское голое яйцо, рядом с ним ложечка, кувшинчик и груша, отбрасывающие длинные тени, или два лимона, таких большущих, что они не похожи на лимоны, – все жутко скучно.
Тетя Фи перестала танцевать.
– Хочешь уже сейчас свой кусок «Наполеона»? – спросила она.
– А носки высохли?
– Нет. И заштопать я их смогу, только когда они высохнут. Мой чайник ты принес?
– Забыл.
Тетя Фи вздохнула.
– Знаешь, малыш, как я за тебя переживаю, – сказала она. – Я иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о тебе. Мальчугану тяжело, думаю я. Он живет под одной крышей с этим чудаком. Да, твой отец не виноват, ведь он артист. Я всегда говорила твоей маме: не выходи за артиста, детка, погуляй с ним вдоволь, но в дом этого мечтателя не пускай. Но она вышла за него, упрямица. На свадьбу твоя мать надела мою шляпку, а отец был, как полагается, в галстуке, но с пятнами. Через год родился ты. Мама души в тебе не чаяла, но ей хотелось ходить на танцы и развлекаться. Тогда тебя приводили ко мне. Я тебя купала в ванночке. Ты так любил купаться, ты гулил, когда я тебя вынимала из ванночки и вытирала… А теперь у тебя остался только твой чудак-отец. Чудесный человек, но он воспитывает тебя ужасно, эти его заборные слова, очень жалко… Покажи-ка мне ноги.
– Не покажу.
– Почему?
– Это две ноги, на каждой пять пальцев, смотреть не на что.
– Тогда я отолью тебе подливки в миску. Хочешь холодной картошки?
– Нет.
– Ты разучился говорить «да»?
– Давай сейчас.
– Что значит «давай сейчас»! Будь любезен, скажи вежливо.
– Дай, пожалуйста, мне сейчас мой «Наполеон», дорогая тетя Фи.
Она засеменила прочь. В кухне она продолжала со мной разговаривать. Я не мог разобрать ни слова. Мама раньше тоже всегда разговаривала со мной из дальней комнаты, когда я сидел в гостиной. «Я тебя не слышу!» – кричал я ей. «Прекрасно слышишь, – кричала она в ответ, – ты просто не хочешь слушать».
Вода в тазу подостыла. Но я все равно погрузился в дрему. Тетино бормотанье превратилось в мамино бормотанье.
Я опомнился, когда тетя Фи сказала мне прямо в ухо: «Не спать, чудик!»
Она стояла так близко от меня, что могла бы легко снять «сон» из уголков моих глаз. Я часто дергаюсь оттого, что она так похожа на маму.
– Не смотри так кисло, медвежонок ты мой! – сказала она.
Я балдел от тети Фи, ведь мама тоже часто звала меня медвежонком.
– Медвежата живут в зоопарке, – сказал я.
Я протянул руку и взял кусок «Наполеона». Он лежал на блюдечке с трещиной, похожей на вопросительный знак. Я мог выбирать: откусить прямо от всего куска или приподнять верхний слой теста, слизать толстый слой желтого крема, а потом съесть верх и низ по отдельности. Последнее было более правильным, но если смело кусать все сразу, то лучше чувствуешь вкус. Так я и поступил. Крем размазался по носу и верхней губе, жирные комочки плавали даже в тазу.
– Твоя мама всегда была такой хорошей девочкой, – рассказывала тетя Фи. – Я до сих пор многого не понимаю. Если хочешь о чем-нибудь расспросить меня, то давай.
– Если ты ничего не понимаешь, – сказал я с полным ртом, – то зачем мне спрашивать?
– Сначала проглоти, а потом рассуждай, дружок!
Я проглотил все, что было во рту, и громко икнул.
– Ты что, совсем дикарь, Томми? – спросила она.
– Нет. А зовут меня Томас.
– Мне все время кажется, что ты диковатый.
Я так резко вынул ноги из таза, что забрызгал тетю Фи. Она весело рассмеялась. Удивительный человек – веселится в самые неожиданные моменты, именно тогда, когда думаешь: вот теперь она рассердится уже всерьез.
По дороге домой я встретил Пита Звана. Нельзя сказать, чтобы он выглядел по-воскресному, хотя одет был очень аккуратно. Впрочем, в школу он одевался тоже аккуратно.
– Да это же Пит Зван! – сказал я.
В его глазах не было ни радости от встречи, ни удивления.
– Здравствуй, Томас, – сказал он.
Томасом меня называет только папа. Теперь, когда Зван тоже назвал меня Томасом, мне показалось, что он взрослый.
– Я только что слопал кусок «Наполеона», – сказал я. – у тети Фи.
Он не удивился. Я показал ему мисочку.
В ней застывшая подливка, – сказал я. – Морозу конца не видно, да? Кстати, что же такое «зимний лед»?
– Это вроде полярного льда. Толщиной сантиметров двадцать. На Южном полюсе есть лед, образовавшийся несколько веков назад.
– А что ты делаешь на улице?
– Иду по ней.
– А куда ты идешь?
– Не куда, а откуда.
На длинной и холодной Ван Ваустрат я увидел голую шею Пита Звана и воротничок его белоснежной рубашки; воротничок выглядел потертым, там и сям малюсенькие дырочки, но все же Пит Зван, несомненно, был мальчиком из хорошей семьи. Я знал от Олли Вилдемана, что Пит Зван живет в богатом доме на Ветерингсханс. Мне очень хотелось бы побывать в таком доме. Но мы с одноклассниками редко ходили друг к другу в гости – точнее сказать, никогда.
– Мой папа пишет книгу, – сказал я.
– Да, – ответил Пит Зван, – я знаю, что он пишет книги.
– Откуда ты знаешь? Ведь они нигде не продаются, его книги, – это толстые тетради у нас дома.
– Слухом земля полнится.
– Ты тоже хочешь писать книги? – спросил я.
– Пока не знаю. Может быть.
– Почему ты пока не знаешь?
– Чтобы написать книгу, надо много всего повидать и пережить, – сказал он.
– А что надо повидать и пережить?
– Много всего, Томас.
– Терпеть не могу воскресенье, по воскресеньям становишься таким заторможенным…
– По-твоему, я заторможенный?
– Нет. А я?
Он взглянул мне в глаза. Он никогда не улыбался.
– Ладно, пока!
– До свиданья, Томас. Смотри не урони миску.
Я подбросил миску и ловко ее поймал. Он наконец-то засмеялся – тихо-тихо, едва слышно.
Я пошел дальше, он пошел дальше. Я пошел домой, он – в сторону Амстердам-Зёйд. Я обернулся и посмотрел ему вслед. Пит Зван шел по улице такой одинокий. Он тоже обернулся и увидел, что я иду по улице такой одинокий.
Зловещие собачки
Воскресный вечер. Печка как раз прогорела, когда к нам наверх с веселым шумом пришли Рейнир Борланд и Адриан Мостерд. Они случайно встретились в сумерках на Лейденской площади. Я люблю, когда они приходят, потому что папа от них веселеет.
– В кармане ни цента, – сказал Борланд. – Я и говорю Аду: у меня дома молоко скисло и хлеб заплесневел, пойдем-ка к Йоханнесу, пусть он накормит нас обедом!
– Глубокоуважаемые господа, – сказал папа, – печка прогорела, уголь закончился, а в буфете мышь повесилась.
Старый добрый Мостерд с гордостью показал папе какой-то грязный пакетик.
Борланд прошелся по комнате, папа ударил его по руке при попытке раскрыть толстую тетрадь на столе. Борланд – художник. Его картины никто не покупает. «Мое время еще не настало», – говорит он.
Папа освободил пепельницу, пересыпав из нее окурки в Другую, еще не совсем полную.
Борланд сел рядом с холодной печкой, протянул к ней Руки и от блаженства закрыл глаза. Казалось, он наслаждается теплом.
Я заметил, что на ногах у него сандалии, и спросил:
– А у тебя не замерзают пальцы на ногах?
– Если это произойдет, – сказал он, не открывая глаз, – я их отрублю и заспиртую.
Я покатился со смеху.

Мостерд показал папе пару копченых селедок. Они лежали на прожиренной газете. Папа осмотрел их с недоверием. Мостерд понюхал и сказал:
– Все в порядке, я купил их три дня назад у разносчика, они свежи, как девичьи щечки.
– Смотрите, – показал я пальцем на Борланда, – смотрите, он думает, что печка греет, вот чудак.
– Горящая печка – друг любого человека, – сказал Борланд, – а ваша холодная печка – это же яркая личность, вот это меня и согревает!
Мостерд все еще не отдышался после подъема по лестнице.
– С вашего позволения, господа, я не буду снимать пальто, – сказал он. – Я должен защищать свое старое тело от мороза и влажности. Расскажите мне о скорби, и страдании, и горе, это меня утешит.
Я обожаю Мостерда. Он не говорит, а поет. Артист на заслуженном отдыхе. Так говорит папа. Я не знаю, что значит «на заслуженном отдыхе». Но я знаю, что Мостерд совершенно ничего не может запомнить и носит по две пары носков, одну поверх другой, у него длинные седые волосы До плеч и большие, как блюдца, уши. А когда у него на лице горестное выражение, мне становится безумно смешно.
За столом папа поделил селедку на всех поровну. Борланд снял сандалии и носки, а потом подстриг нашими огромными ножницами ногти на ногах. Мне совсем не было противно смотреть, потому что ноги у него чистые.
Каждый состриженный ноготь он какое-то время держал между большим и указательным пальцем над пустой угольницей и только потом бросал в нее.
– А почему ты не выкидываешь ногти сразу? – спросил я.
– Мне тяжело расставаться с частицами моего «я», – сказал он.
– Как у тебя дела в школе, малыш? – спросил Мостерд.
– Решаю задачи, – сказал я, – а потом еще задачи. Занудство.
– Ты прав, – сказал Мостерд, – от арифметики нормальному человеку мало проку, считать люди учатся на практике, но этой практики лучше избегать. А про Вондела [2]2
Йост ван ден Вондел (1587–1679) – классик нидерландской литературы.
[Закрыть]вам учитель рассказывает?
– Кто такой Вондел? – спросил я.
– Твой вопрос ранит меня в самое сердце. Йост ван ден Вондел три века назад сочинял стихи и торговал чулками в лавке на Вармусстрат; мечты его были величественны, а язык – грандиозен. Я ошибаюсь, или ты правда подрос на несколько сантиметров?
– Не знаю, – сказал я.
Мостерд сочувственно покачал головой. И произнес торжественно:
– Родитель не жалея сил
Растит детей своих.
От малышей не счесть хлопот
И горя – от больших.
– Чего-чего? – спросил я.
– Это Бондел, малыш. У меня нет детей. Жизнь избавила меня от многих страданий.
– По тебе этого не скажешь, – съязвил Борланд.
Мостерд подмигнул мне.
– Этот субъект – мерзавец, – сказал он. – Но картины он пишет прекрасные.
Оттого что в комнате было много народу, я согрелся. Папа, Борланд и Мостерд не смолкали ни на миг. Что они делали – ссорились или веселились?
Борланд умеет ругаться еще крепче, чем папа, я иногда краснею от стыда.
Мостерд говорил очень громко и брызгал слюной, как верблюд. Папа держался за живот от смеха. Может быть, они забыли, что я тут же, в комнате?
Я подошел к Борланду и попросил:
– Можно я затянусь твоей сигаретой? Ну пожалуйста, всего один разок.
Борланд дал мне свою зажженную сигарету, я вдохнул дым, втягивая щеки, и засмотрелся на огонек. Сигарета на глазах уменьшалась в размере. Здорово! Я засмеялся и закашлялся. Мостерд постучал меня своей гигантской лапищей по спине. И тут же папа подавился куском селедки. Ему нельзя есть рыбу, он вечно давится. Наконец-то они обратили на меня внимание! Я ловко вскочил на сундук с нафталином и старой одеждой, развел руки в стороны и сказал:
– Я самый способный в классе. Я читаю лучше всех.
Их это совершенно не волновало.
Значит, надо сделать что-нибудь другое. Рассказать про собачку – да-да, про собачку. Когда я рассказал эту историю тете Фи, она долго шмыгала носом, хотя вовсе не была простужена.
– Однажды я увидел на льду собачку, – закричал я. – Она так замерзла, что даже перестала дрожать. Она только смотрела – вот так вот – большими влажными глазами, вот посмотрите!
Указательными пальцами я сдвинул кожу под глазами вниз.
Невероятно – они все замолчали. И смотрели на меня с таким выражением, будто говорили: «Не переборщи, мы и так уже вот-вот зальемся слезами». Но самое интересное было впереди – об этом они еще не знали.
Я продолжал рассказывать:
– Я хотел взять эту собачку на руки, бедняжечку, но оказалось, что задница у нее вмерзла в лед. В зимний лед. Который иногда достигает толщины в двадцать сантиметров. Почти как полярный лед, может лежать вечно, а в один прекрасный день растаять. – Я с пылом мотал головой.
Они явно не ожидали услышать от меня таких научных сведений о льде (почерпнутых от Пита Звана).
– Люди с баржи дали мне миску с теплой водой и тряпку. Миска была с трещинкой и текла.
Тот, кто помнит подробности насчет мисочки, не врет.
Я посмотрел на слушателей. Они сидели словно воды в рот набрав. Я был горд как никогда.
– А потом я растопил лед под собачкой, – рассказывал я со слезами в голосе. – Песик стал меня лизать, облизал все лицо, его язык чуть не примерз к моему носу, – это была совсем паршивая беспородная собачонка, но паршивые беспородные собачонки тоже хотят жить.
Я смолк и скрестил руки на груди в ожидании аплодисментов.
– И всё? – спросил папа.
– Всё, – ответил я.
Борланд сказал:
– А потом Фикки рассказал тебе, где он живет, и ты вернул его счастливому хозяину.
Я ничего не ответил.
– Ах, малыш, – сказал Мостерд своим гулким, как из колодца, голосом, – в правде нет никакой радости, в этом ты прав. Ты поэт, но для высокого полета у тебя еще слабоваты крылышки.
Папа усмехнулся.
– Всё это – чистая правда, – воскликнул я и поднял два пальца, – клянусь!
Они молча смотрели на меня. С ними шутки плохи, с этими друзьями. Я спрыгнул с сундука, забрался за кресло и уткнулся головой в колени. Я вам покажу, думал я, старые хрычи, крылышки, говорите, слабоваты, – идите вы в болото, чтоб вам пусто было, черт бы вас побрал, никогда ни за что я вам ничего больше не расскажу.
Когда в доме не было угля, я всегда рано ложился спать. После того как Борланд с Мостердом скатились по лестнице, я разделся и лег в нижнем белье под одеяло, – ах, если б это было настоящее одеяло! Под моими тремя паршивенькими одеяльцами я все равно дрожал от холода.
На блошином рынке папа купил мне ко дню рожденья (мне исполнялось десять) комплект детских книг. Вся стопка стоит у меня в ногах, а книга, которую я читаю сейчас, лежит под подушкой.
Обожаю старые книги. У них чудесный запах, в них часто рассказывается о бедных деревенских детях: отец работает в поле или на фабрике, зарабатывает по четыре гульдена в месяц, а мама лежит при смерти.
Старые девчоночьи книги я тоже люблю. Девочки в них такие правильные, ходят в красивых платьицах из бархата с кружевами, они любят маму, папу и младшего братишку. И они чуть-чуть шаловливые. На самом деле таких девочек не бывает.
Папа опять сел работать.
– У меня получается странная книга, – часто повторяет он.
Но когда он принимается читать свою толстую тетрадь, на глаза у него наворачиваются слезы, так ему самому это нравится. А сейчас он не читал, а писал новое.
Пит Зван сказал мне недавно: чтобы написать книгу, надо много всего повидать и пережить.
Я подумал: сам-то Пит Зван наверняка ничего еще не пережил. Болтун. А вот я кое-что пережил. И даже многое пережил. Я могу написать об этом отличную книгу. То-то Пит Зван удивится! Только вот я не напишу книгу, у меня даже нет толстой тетрадки.
Вдруг погас свет.
– Фу-ты ну-ты! – воскликнул мой папа в гостиной. – А у меня ни цента! Фу-ты ну-ты!
– Зажги свечу! – сказал я.
– Если я буду писать при свече, глупыш, – сказал он, – то книга у меня получится невыносимо сентиментальной. Сгоняю-ка я к Фи. Ладно?
– Нет, – сказал я.
– Почему?
– Я боюсь оставаться один.
– Я вернусь через полчаса. Обещаю вернуться через полчаса.
– Принеси для меня чего-нибудь вкусненького, чего-нибудь сладенького, ладно?
– Хорошо, постараюсь.
– После селедки у меня во рту противный вкус.
– Зачем ты это сказал, – ответил папа и рыгнул, – теперь я тоже это почувствовал.
Пальто ему надевать не потребовалось – он уже был в нем, когда работал.
Я слушал, как он ворчит, спускаясь по лестнице, потом вытащил из-под подушки книгу и фонарик с динамкой. Чтобы читать в темноте, приходится непрерывно им жужжать, – очень утомительно. На толстой обложке было написано: «Кр. ван Абкауде. Солнечное детство Фритса ван Дюрена».
Книга не девчоночья, хотя ее героя удальцом не назовешь; я знаю эту книжку наизусть. В середине у Фритса умирает его собачка Гектор – попадает под экипаж. Гектора лягает лошадь, а потом переезжают колеса. Это происходит ко всему прочему в воскресенье. В экипаже едут богатые мерзавцы, паршивая собачонка их совершенно не волнует. Гектора относят к ветеринару, Фритс идет следом.
Я открыл книгу и в темноте в два счета нашел страницы, где рассказывается об этом горе. Я жал и жал на жужжалку, она жужжала – и лампочка горела.
Там описывается, как Гектор лежит в кабинете ветеринара: «„Спасибо, хозяин“, – говорил его взгляд. Ему уже не было больно, он вытянулся на коврике и закрыл глаза навсегда. Гектор умер».
По щекам у меня текли слезы. Это было сладкое ощущение. Скоро придет папа. Когда он сунет монетку в счетчик и лампочки снова загорятся, он увидит у меня на лице следы слез. Нет, я не стану ему рассказывать о Гекторе. Такая жалостливая история о собачке – это не для него. Я просто буду смотреть на него. Я точно знаю, что он при этом подумает.
Лишье Оверватер поднимает руку
В четверг учитель дал нам задание писать буквы с длинными петлями. Мое простое перо то и дело цепляло бумагу. Высунув изо рта кончик языка, я внимательно следил, чтобы половинки пера не разъезжались, а то будут кляксы.
Я писал уж слишком старательно и даже уронил ручку на пол. Наклонившись, чтобы поднять ее, я заметил, что у Лишье Оверватер сполз один из клетчатых гольфов. На ее белой-белой икре я разглядел уйму светлых волосков. Длинным указательным пальцем Лишье Оверватер почесала под коленкой. Я тихонько ущипнул ее за икру и задел при этом ее руку.
От ее пронзительного крика я весь похолодел.
Я тут же сделал вид, будто ни о чем не думаю, кроме буквы с длинной петлей. Но краешком глаза следил за Лишье Оверватер. Та подняла руку и сказала громко и твердо:
– Учитель, меня бесстыдно ущипнули.
– Какой же негодяй это сделал? – спросил учитель.
Еще немного – и я уже сам поднял бы руку.
Лишье Оверватер указала на меня.
– Они здесь все нахалы, – сказала она, – но этот хуже всех. Вот я расскажу папе.
Учитель медленно подошел к парте, за которой я сидел.
– Я ущипнул ее совсем чуть-чуть, учитель, – сказал я. – Честное слово, вам не стоит беспокоиться.
– Это уж я решу сам, сопляк, – сказал учитель и ударил меня по щеке.
– Папа никому не разрешает меня бить, – сказал я.
– Твой папа говорит, что у тебя такая богатая фантазия, – сказал учитель. – Твой папа говорит, что ты такой тонко чувствующий мальчик. Я не понимаю, почему тонко чувствующий мальчик с богатой фантазией вдруг ущипнул девочку за мягкое место?
– У меня упала ручка. И тогда я увидел ее ногу. Я ущипнул ее, не подумав. И совсем даже не за мягкое место.
Лишье Оверватер смущенно смотрела на пуговицы своей блузки. Ей явно было стыдно, что о ее попе разговаривают на уроке. Я был от нее без ума.
– Знаешь, что случилось с тем мальчиком из шестого класса? – спросил учитель.
Я понятия не имел, о чем речь, и ответил:
– Нет, учитель, не знаю.
– Он во время урока вытащил из штанов свою волшебную флейту.
– Что вы говорите, учитель? – сказала Лишье Оверватер, украдкой глянув на меня, и ее глаза в тот момент были больше и голубее, чем когда-либо.
– Его на три дня выгнали из школы, – невозмутимо продолжал учитель. – Завуч целых полчаса разговаривал с его родителями. А девочка из его класса от ужаса целую неделю не могла говорить.

Учитель продолжал стоять вплотную ко мне, у меня от этого зачесалась голова. Я попытался написать букву «g» с красивой петлей, но ничего не получалось. Оттого что мальчишки изо всех сил старались удержаться от смеха, вокруг меня словно повисла тишина. Я подумал: больше никогда в жизни не буду связываться с девчонками.
– А твой отец вообще-то служил в армии?
– Да нет, – ответил я почти с улыбкой, – конечно, нет.
Учитель съездил мне по другой щеке.
– Получай, – рявкнул он, – это тебе за «конечно, нет».
Я хотел возразить, но тут прозвенел звонок.
Пройдя через подворотню, я направился домой кратчайшим путем. Оставив мост Хохе Слёйс слева, я пересек замерзший Амстел по льду. Обе щеки горели – приятное ощущение равновесия. Затвердевший снег скрипел у меня под ногами.
Я чувствовал себя прекрасно.
Наконец-то учитель хорошенько мне врезал. Я уже давно расстраивался из-за того, что учитель, раздавая оплеухи направо и налево, меня всякий раз пропускал. И теперь наконец-то я тоже заработал. И этим я был обязан Лишье Оверватер.
У меня в голове все перемешалось. Поэтому я сосчитал до десяти – это проще простого, но когда я попытался сосчитать обратно от десяти до одного, то быстро сбился. Шесть, четыре, пять, как это там… ну да ничего, такое может случиться с любым.
Я дошел до середины Амстела.
Вообще-то ветер был не такой уж сильный. Но на широкой белой равнине казалось, будто он хочет сдуть меня с ног.
Я увидел, как Лишье Оверватер и Элшье Схун идут рядом вдоль набережной. Они направлялись к мосту Махере Брюх.
Я тайком двинулся по льду параллельно им.
Они болтали друг с дружкой без умолку и шли под руку, так что ветру свалить их было намного труднее, чем меня. Да и вообще упасть вдвоем – это здорово. Падать в одиночку, как я это все время делал, – совсем не здорово, колени у меня уже так запачкались, что даже не было видно крови. Я бежал вприпрыжку по скользкому льду и старался не отставать от девочек, при этом я раза четыре шлепался – то растягивался носом вниз, то тяпался на попу, – но мне не привыкать.
После Амстелслёйса я потерял их из виду. Я помчался по скользкому льду во весь опор. Я знал: чем быстрее бежишь, тем меньше скользишь. Недалеко от Махере Брюх я остановился. Я был один-одинешенек среди ледяной пустыни.
Девочки невозмутимо шагали по мосту. Они должны были меня видеть. Я махал им обеими руками. И вот мне показалось, что они на меня смотрят. Я по-дурацки продолжал махать. Они еще больше сблизили головы и продолжали себе секретничать.
О чем они болтали?
Лишье Оверватер изо всех сил мотала головой, это я видел. Может быть, Элшье Схун сказала: «По-моему, Томми ужасно смешной». Очень может быть. Да, очень может быть.
Они пошли по Керкстрат и скрылись из виду.
Лишье Оверватер живет на Утрехтской улице, Элшье Схун – на одном из каналов в центре. У каждой наверняка есть отдельная комната. Уютная комната, где всегда тепло; там, наверное, стоит старенький детский стульчик, а на нем сидит любимый мишка – с пролысинами у носа и на ушах, оттого что его часто гладят. В точности я этого никогда не узнаю, девчоночьи комнаты – это что-то такое далекое, хотя во многих домах они совсем близко.

Я развернулся и двинулся по льду обратно, прочь от Махере Брюх. Дойдя опять до Амстелслёйса, я увидел, что на перилах в самой середине моста Хохе Слёйс стоит человек, держась за фонарь.
Я остановился.
Оттого что человек выглядел жутко нелепо, я сразу понял, кто это.
– Привет, папа! – сказал я тихонько.
Я не мог понять, что он там делает на перилах моста. Он был слишком стар для подобных шуток. Он бы мог быть моим дедушкой. Тетя Фи говорит, что для папы я поскребыш.
Вот он мне помахал.
Мне было за него стыдно. Не люблю, когда он валяет дурака на людях. И откуда он знает, что я Томас? Я слишком далеко от него, и он не может видеть наверняка.
Я побежал к мосту, на котором стоял папа.
Он все махал и махал.
Добежав до самого моста, я остановился. Помахал ему в ответ и крикнул:
– Что ты там делаешь?
– У меня есть работа! – заорал папа. – Томас, я еду во Фрицландию!
Тут я заревел. Так, что сам испугался. Я заревел не из-за полученных оплеух, не из-за жуткого крика Лишье Оверватер и уж точно не из-за Фрицландии, а просто само так получилось.
Папа был, по его меркам, в прекрасном настроении. Пел в кухне, даже засучил рукава и принялся рассказывать мне о Пайне – городишке в Германии, где он будет работать в учреждении, которое он называл БАР.
– А что это значит? – спросил я.
– British Army over Rhine – Британская рейнская армия, – сказал он с важным видом.
– Как-как?
– Мне пришлось сдавать экзамен, Томас, теперь могу тебе об этом рассказать. А то я боялся провалиться. Когда человеку за пятьдесят, то проваливаться на экзамене очень не хочется, после пятидесяти экзамены надо не сдавать, а принимать, так ведь? Я сдал блестяще, по-немецки я говорю так же хорошо, как до войны, а майор, принимавший у меня экзамен по английскому, засмущался из-за собственного плохого произношения.
– И что ты будешь делать в Пайне?
– Зарабатывать денежки, малыш; тебе ведь нужна новая куртка, новые очки…
– Но я не ношу очков.
Папа хмыкнул.
– Я буду работать в цензуре, – сказал он, – буду целыми днями читать письма, написанные фрицами. Англичане боятся, что фрицы снюхаются с русскими или тайком соберут новую армию.
– Значит, ты будешь дни напролет только письмишки почитывать.
– Я это вижу иначе. Цензура не делает мир счастливым. Я плохой человек. Но и плохой человек должен заботиться о том, чтобы его сын не голодал.
– Почему ты плохой человек?
– Эти письма от Генриха к Хильдегарде меня абсолютно не касаются. Я не хочу их читать. И я не буду их читать. Я вложу их обратно в конверт и поставлю на конверт штемпель. Это самое приятное, если ты плохой человек, – можешь сам решать, что ты хочешь делать, а чего не хочешь. Передай-ка мне соль. Эти котлетки на косточке чудесно пахнут, правда?
Я сидел один за накрытым столом. Папа повесил себе на левую руку протершееся почти до дыр кухонное полотенце и разыгрывал из себя официанта. Наклонился ко мне, щелкнул каблуками.
– Перестань, – сказал я, – не изображай, пожалуйста, фрица.
– Verzeihung [3]3
Извините! (нем.)
[Закрыть], – сказал он.
– Перестань.
– Через несколько месяцев ты будешь жить как принц. Мы пойдем в зоопарк, в цирк. В Пайне я расквартирован в старинном немецком особняке, я там буду по вечерам курить сигареты, потягивать коньячок и смотреть в окно, как фрицы пробираются по заснеженной улице в ботинках или тапках.
Он поднес блюдо к самому моему носу.
– Noch ein wenig Kartoffeln, ja? [4]4
Еще немного картошки? (нем.)
[Закрыть]
– He говори по-немецки, это противный язык.
Папа сел, взял в руку обглоданную косточку и принялся задумчиво ее рассматривать.
– Когда я сегодня тебя увидел, – сказал он и улыбнулся, – когда я сегодня увидел тебя на льду, я подумал: смотрите, вон мой сын Томас, смотрите, парень отлично развлекается сам, до чего же он веселый малый.
– Я сначала шел вместе с Лишье Оверватер.
– Лишье Оверватер, – повторил папа задумчиво. – Это девочка?
– Нет, мальчик!..
– И о чем вы разговаривали?
– Обо всем на свете.
– Расскажи что-нибудь.
– Она сказала, что очень любит плавать в бассейне, и что ей каждый день дают по двадцать пять центов на бассейн, а она иногда прогуливает и покупает себе на эти деньги что-нибудь вкусненькое, а купальник мочит в фонтане на площади Фредерика, а полотенце только немножко обрызгивает водой. Однажды она нечаянно упустила купальник, и он уплыл на середину фонтана, и она подумала: что же теперь делать? Сняла туфли и чулки и пошла по воде за купа…
– В фонтане уже давно нет воды, Томас. Сейчас слишком холодно.
Я помолчал.
– Ну да, – ответил я после паузы, – это было прошлым летом, она всегда рассказывает о том, что было давным-давно, совсем как ты, странная привычка; я всегда рассказываю просто о том, что произошло вчера, потому что хорошо это помню. Например, вчера она пригласила меня к себе домой; у нее очень большая комната, когда там разговариваешь, приходится орать во весь голос, и ее мама принесла нам красный-красный лимонад, и я подавился им, такой он был сладкий, а Лишье Оверватер сказала: «А теперь, мама, уходи», и когда мама ушла, мы стали играть в игральные кости, в какую-то дурацкую игру, она смеялась, когда проигрывала, а проигрывала она все время, и вообще Лишье Оверватер непрерывно смеялась.