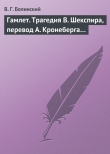Текст книги "Золотая Адель. Эссе об искусстве"
Автор книги: Петер Надаш
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Конечно, возникает вопрос: которым или каким измерением того, неведомой природы, пространства является та двухмерная плоскость, которую мы, небрежно дернув плечом или тяжело вздохнув, называем обыденным словом «жизнь»?
Тот, кто после всех этих бесплодных колебаний и невразумительных рассуждений вернется к картине Каспара Давида Фридриха, без всякого труда может убедиться в том, что у этой написанной на холсте плоскости не два, а три центра. Масса клубящихся на небе туч подобна груде камней, валяющихся на земле; оба эти скопления расположены внизу и вверху, по диагонали относительно друг друга, и в этом смысле являются зеркальным отражением друг друга – в той же мере, в какой краски на земле и в небе, вне всяких сомнений, перекликаются друг с другом в общем освещении, хотя качественно они различны. Поверхность земли, под влиянием тех чувств, которые я испытываю к потерпевшим кораблекрушение, видится мне большей, чем на самом деле; но в той же мере небо, как оно видится зрителю, меньше той площади, которую оно действительно занимает на картине, хотя я знаю, что оно больше, – то есть оно располагает самостоятельной, опирающейся на знание видимостью. Равновесие, необходимое для взаимоотражения видимостей, достигается благодаря тучам, почти закрывающим сияющую луну; в тучах, которые клубятся в небе, словно проступает чье-то бородатое лицо, кажущееся почему-то знакомым. Оно движется вместе с тучами, но чувствует-ся, что оно вовсе не намерено уйти с ними за горизонт.
Таким образом, видимость, связанная со знанием, представляет собой прямую противоположность видимости, связанной с чувством.
Правда, в первый момент я это лицо не заметил, но, заметив, больше уже не мог видеть там просто клубящиеся тучи.
Лицо это – округлое, старческое (чтобы не сказать: древнее), с тупым носом, пухлыми щеками и расплывающимся, растянутым ртом, темная глубина которого притягивает взгляд; то же самое можно сказать о провалах глазниц: взгляд на этом лице кажется взглядом слепого, или, возможно, такое впечатление возникает из-за отсутствия видимых глазных яблок. Лицо смотрит не на нас: оно видит только воздух; если оно кричит, то кричит не нам, а в пространство. Судя по темному провалу рта, лицо это – страдающее; если же смотреть на мягкую глубину глазниц, то оно – скорее радостное. Доброе – или гневное… А знакомым оно кажется потому, что напоминает сразу много лиц с различными выражениями, которые как-то связаны с нашими собственными переживаниями или с нашей игрой фантазии.
В самый первый момент оно заставляет вспомнить ужасную голову горгоны Медузы, а потом, спустя долгое время, – лик всепрощающего христианского Бога. В то же время злоба и добродушие, веселость и страдание – все, что можно на нем увидеть, заставляет представлять различные человеческие лица. Например, лицо это напоминает и увековеченный Силанионом свиноподобный портрет Сократа с бородой и продавленным носом, и пастельный автопортрет самого Каспара Давида Фридриха с безумными глазами; но нам вполне может явиться в облачном месиве и голова слепого – и всевидящего – Гомера.
Путешествуя по бескрайним водам поиска сходств и различий, культурная память в конце концов садится на мель видимости, связанной со знанием: в древних чертах мы узнаем лик Протея. Протей – божество морских глубин в небе, или божество земли в пустоте. Облака сообщают воздуху черты человеческого лица, огонь дает земле тепло, которое в любой момент может погасить вода. Согласно чувству он, Протей, живет у огня, согласно знанию – в пустоте; с одной стороны, он – рождение, с другой стороны – смерть, с одной стороны – тепло, с другой – холод, с одной стороны – ночь, с другой – день, с одной стороны – чувство, с другой – знание, с одной стороны – огонь, с другой – вода, с одной стороны – воздух, с другой – земная твердь.
Все это означает: попав в это пространство, пространство неведомой природы, мы должны различать, чтó сюда относится и что не относится. Ибо мы можем говорить так: с одной стороны, то-то, с другой стороны, то-то, – об измерении, в котором находится бытие, но не можем – об измерении небытия. Например, мы должны внести тонкое различие в обыденное представление, согласно которому смерть и небытие – вещи тождественные, точно так же как тождественные вещи – рождение и бытие. Дело скорее обстоит так: рождение и смерть суть стороны, относящиеся к измерению бытия, в то время как дух и душа – стороны, относящиеся к измерению небытия. Эти две располагающиеся друг в друге плоскости образуют такое трехмерное пространство, которое не тождественно ни одному, ни другому измерению, но поэтому не может существовать и отдельно от обоих.
Человек в состоянии меланхолии, размышляя о плоскостях рождения и смерти, о бытии, неизбежно окажется в этом обладающем неведомой природой трехмерном пространстве: ведь лишь размышляя о плоскости духа и души, о небытии, он может достичь той плоскости, о которой намеревался размышлять: плоскости бытия, которое есть рождение и смерть. Он размышляет то о бытии с точки зрения небытия, то о небытии с точки зрения бытия, но сразу о том и о другом он размышлять не может.
Вот что – пускай не более того – нам удалось, во всяком случае, выяснить о природе этого пространства: у него есть две плоскости, а следовательно, три измерения. И точно в таком же смысле мы должны скорректировать сказанное о деятельности человека в состоянии меланхолии. Ибо да, это правда, что деятельность эта есть работа духа в душе или работа души в духе, и в обоих случаях она направлена на бытие, то есть должна заниматься бытием с точки зрения небытия; но тогда правдой должно быть и то, что точно так же деятельность эта есть работа рождения со смертью или работа смерти с рождением, и в этом случае она направлена на небытие, ибо она занимается небытием с точки зрения бытия. А любой хорошо знает по собственному опыту, что деятельность как таковая предполагает всего две возможности: творение или уничтожение. Так что тот, кто занимается бытием, будет уничтожать, а тот, кто занимается небытием, будет творить, поскольку деятельность никогда не может быть направлена на самоё себя.
Вот только где в этой видимой упорядоченности место Протея? В котором из измерений: бытия или небытия? И где должно быть место четырех стихий, если существование их в определенных случаях предполагает друг друга, в других же случаях условием небытия одной стихии является бытие другой? Или – куда я должен поместить понятие «ничто», если по смыслу его место – среди вещей несуществующих, а по характеру – среди существующих?
Прежде чем пытаться искать ответы на эти тяжелые вопросы, попытаемся, следуя Карою Керени, внимательно вслушаться в слова Гомера, повествующего о Протее.
Протей, рассказывает Керени, один из трех морских божеств, которых Гомер называет halios geron, то есть морскими старцами; хотя точных сведений об обстоятельствах его рождения у нас нет, однако само имя его говорит о том, что он – одно из первородных существ, то есть один из сыновей Кроноса и Реи.
Уже в период нашей истории Менелай Атрид, светловласый герой, двадцать дней промедлил у острова Фарос, тщетно ожидая «благосклонного отплытию ветра»[8]. Он отправился на родину из Египта, корабль его «пробежал» целый день «с благовеющим ветром», однако у Фа-роса сел на песчаную отмель. Когда Менелай, обуреваемый горем, ходил «печально стезей одинокой» – в это время товарищи его «розно бродили (…) по зыбучему взморью и рыбу остросогбенными крючьями удили – голод терзал их», – к нему подошла нимфа Эйдофея и посоветовала, что ему делать в этом безвыходном положении. «Здесь пребывает издавна морской проницательный старец, равный бессмертным Протей, египтянин, изведавший моря все глубины и царя Посейдона державе подвластный; он, говорят, мой отец, от которого я родилася. Если б какое ты средство нашел овладеть им внезапно, все б он открыл: и дорогу, и долог ли путь, и успешно ль рыбообильного моря путем ты домой возвратишься? Если ж захочешь, божественный, скажет тебе и о том он, что у тебя и худого и доброго дома случилось с тех пор, как странствуешь ты по морям бесприютно-пустынным». Так лукавая нимфа выбалтывает понравившемуся ей герою секреты своего отца.
Однако светловласый герой знает, что смертному трудно голыми руками подчинить себе бога, и когда он спрашивает, каким образом он мог бы это сделать, Эйдофея с готовностью инструктирует его: «Все объявлю откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать; здесь ежедневно, лишь Гелиос неба пройдет половину, в веянье ветра, с великим волнением темныя влаги, вод глубину покидает морской проницательный старец; вышед из волн, отдыхать он ложится в пещере глубокой; вкруг тюлени хвостоногие, дети младой Алосидны, стаей ложатся, и спят, и, покрытые тиной соленой, смрад отвратительный моря на всю разливают окрестность. Только что явится Эос, я место найду, где удобно спрячешься ты посреди тюленей; но товарищам сильным трем повели за собою прий-ти с кораблей крутобоких. Я же тебе расскажу о волшебствах коварного старца: прежде всего тюленей он считать и осматривать станет; их осмотрев и сочтя по пяти, напоследок и сам он ляжет меж ними, как пастырь меж стада, и в сон погрузится. Вы же, увидя, что лег и что в сон погрузился он, силы все соберите и им овладейте; жестоко начнет он биться и рваться – из рук вы его не пускайте; тогда он разные виды начнет принимать и являться вам станет всем, что ползет по земле, и водою, и пламенем жгучим; вы ж, не робея, тем крепче его, тем сильнее держите.
Но, как скоро тебе человеческий голос подаст он, снова принявши тот образ, в каком он заснул, – вы немедля бросьте его; и тогда, благородному старцу свободу давши, спроси ты…» – словом, спрашивай о чем хочешь. Все так и произошло. Протей «вдруг (…) в свирепого с гривой огромною льва обратился; после предстал нам драконом, пантерою, вепрем великим, быстротекучей водою и деревом густовершинным; мы, не робея, тем крепче его, тем упорней держали. Он напоследок, увидя, что все чародейства напрасны, сделался тих…» – и ответил на все вопросы.
Тот, кто жаждет узнать свою судьбу, дол-жен одолеть не только вепря, пантеру, дракона и льва, но и воду, и, если нужно, огонь. Правда, тому, кто, стремясь узнать свое будущее, действует силой, не пристало прибегать к изощренным приемам, приноравливаясь к бесчисленным метаморфозам противника: ведь он борется с одним-единственным божеством, у которого одна сущность. Так что в твердых руках деятельного человека множественные формы сводятся к одной-единственной форме. Однако к такому масштабному действию смертного может подвигнуть только божество. Хотя бы по той простой причине, что без него ни ко льву, ни тем более к огню невозможно было бы подступиться с голыми руками. Если же одно божество попало в ловушку другого божества, то оно, со своей стороны, норовит решить проблему таким образом, чтобы смертного, которого можно рассматривать как победителя, с помощью какой-нибудь уловки перенаправить по ведомству третьего божества. Обещанная справедливость – это всегда нечто большее, чем реально достигнутая: с помощью божеств мы, конечно, можем совершить насилие над одним-единственным богом, – но ведь богов-то много.
Гомер – приводя диалог Протея и Менелая Атрида – говорит об этом так:
«Должен бы Зевсу владыке и прочим богам гекатомбу
Ты, с кораблями пускаяся в путь, совершить, чтоб скорее,
Темное море измерив, в отчизну свою возвратиться.
Знай, что тебе суждено не видать ни возлюбленных ближних
В светлом жилище своем, ни желанного края отчизны
Прежде, пока ты к бегущему с неба потоку Египту
Вновь не придешь и обещанной там не свершишь гекатомбы
Зевсу и прочим богам, беспредельного неба владыкам.
Иначе боги увидеть отчизну тебе не дозволят».
Так он сказал, и во мне растерзалося милое сердце:
Было мне страшно, предавшись тревогам туманного моря,
Вновь продолжительно-трудным путем возвращаться в Египет.
Так напоследок, ответствуя, хитрому старцу сказал я:
«Что повелел ты, божественный старец, то все я исполню;
Ты же теперь объяви, ничего от меня не скрывая:
Все ль в кораблях невредимы ахейцы, с которыми в Трое
Мы разлучилися, Нестор и я, возвратились в отчизну?
Кто злополучный из них на дороге погиб с кораблями?
Кто на руках у друзей, перенесши тревоги, скончался?»
Так я спросил у него, и, ответствуя, так мне сказал он:
«Царь Менелай! Не к добру ты меня вопрошаешь, и лучше б
Было тебе и не знать и меня не расспрашивать: горько
Плакать ты будешь, когда обо всем расскажу я подробно…»
Менелай, конечно, может узнать из уст Протея, какая судьба постигла его товарищей; однако, прольются из его глаз слезы или они останутся сухими, знание прошлого не даст ему возможность сделать какие-либо выводы относительно своего будущего.
Все мы – странники, ищущие пристанища. Странники, идущие оттуда сюда или отсюда туда. Из тьмы на свет или из света во тьму. У нас или есть надежда, или надежды нет.
Деятельность, которая представляет собой выбор одной-единственной возможности из множества, неизбежно ставит знак равенства между многими возможностями и одной-единственной возможностью, хотя ясно, что равными они быть никогда не могут. Любая деятельность – это выбор одной-единственной возможности и отказ ради нее от всех иных. Другого просто не дано. Ведь отказ от одной-единственной возможности ради многих – это еще не деятельность. С другой стороны, деятельность, выразившаяся в следовании одной-единственной возможности, выбранной из многих, может осуществляться двумя способами: она может быть разрушительной и может быть созидательной, в зависимости от того, на что она направлена, на бытие или на небытие; но быть сразу тем и другим она не может, так что ради одного я в любом случае должен отказаться от другого. Отказ порождает необходимость жертвы – потому, что он наносит ущерб тому целому, которое, в соответствии с моим знанием, все же существует как целое в моих чувствах, а в соответствии с моими чувствами – как целое в моем знании, то есть как целое трехмерное пространство духа и души, чувства и знания.
Страннику, ищущему пристанище, постоянно приходится возвращаться туда, откуда он вышел. Из состояния деятельности он попадет туда, где нет возможности действовать, и, таким образом, должен будет признать истинность того пространства, в котором многое и одно, созерцание и действие, хаос и упорядоченность не могут быть тождественны друг другу, но являются разными сторонами одной и той же плоскости. Однако тогда он видит или упорядоченность с точки зрения хаоса, или хаос с точки зрения упорядоченности, а значит, снова выберет или одно из множества, или множество вместо одного. То есть будет или действовать, или бездействовать.
Это возвращение, совершаемое по приказу Протея, – краеугольный камень меланхолии.
Поскольку деятельность есть забвение множества ради одного-единственного, то способом корректировки, предпринятой ради восстановления множества, не может служить ничто, кроме вспоминания. И наоборот. Поскольку деятельность ведет к реализации одной-единственной возможности, то способом корректировки не может быть ничто, кроме «реализации» – в воображении – множества возможностей, располагающихся за пределами реального опыта.
Что же касается той плоскости, которая с одной стороны – забывание, с другой – вспоминание, с одной стороны – обретенный опыт, с другой – воображение, с одной стороны – упущение, с другой – принесение жертвы, плоскости, которую мы, однако, не можем отождествить ни с плоскостью рождения и смерти, ни с плоскостью души и духа, а значит, не можем сказать, что она, эта плоскость, относится к измерению бытия, как не можем сказать, что она относится к измерению небытия, тогда как она находится в тесной связи с обоими, – словом, это та плоскость, которую античное мышление называло мифом, а мышление нового времени – культурой.
Менелай может реализовать собственную судьбу как будущее, строящееся на одной-единственной возможности, лишь в том случае, если из настоящего момента, момента отказа, вернется туда, откуда он вышел: в один-единственный момент прошлого, когда в его распоряжении все еще было множество возможностей.
Если принесение жертвы, с точки зрения богов, может предотвратить упущение, в этом случае можно представить такую человеческую деятельность, которая одновременно предполагает и путь, ведущий от множества вариантов к одному-единственному, и возвращение от одного-единственного варианта к множеству; то есть такую деятельность, которая – ни деятельность, ни бездеятельность.
Это двустороннее движение должен осуществлять – и послушно осуществляет – каждый человек, независимо от того, действует он или бездействует. Если он действует, то будет двигаться по плоскости обретения опыта и забывания, если бездействует – по плоскости воображения и вспоминания. Двигаться сразу в двух направлениях он не может, ибо вспоминание не может обходиться без забывания, а воображение – без приобретения опыта; так что движется он то так, то этак.
Нет деятельности, которая не приводила бы к упущениям. И нет упущения, которое не требовало бы своей жертвы. Меланхолия – жертва, соответствующая любой деятельности. Дело в том, что с точки зрения деятельности самое большое упущение – это бездеятельность. Меланхолия же – такая бездеятельность, которая направлена исключительно на деятельность – и из-за этой своей направленности должна все-таки рассматриваться как деятельность. Это – единственная угодная богам жертва, которая может предотвратить упущение, хотя является его следствием.
Прибегая к помощи сравнений, мы могли бы сказать: вспоминание – подобие огня, забывание – подобие воды, приобретенный опыт – подобие земли, воображение – подобие воздуха; в культуре, как в природе, имеются четыре основные стихии. И эти основные стихии, подобно стихиям природы, образуют – что вытекает из характера их взаимоотношений – не две, а всего лишь одну плоскость: то плоскость вспоминания и воображения, то плоскость забывания и приобретения опыта.
На этой плоскости, в пространстве, природа которого неведома, и движется человек в состоянии меланхолии.
Эти две соотносимые друг с другом плоскости, которые мы можем назвать самостоятельными измерениями культуры, действуют подобно парным плоскостям рождения и смерти или души и духа, о которых мы тоже говорили как о самостоятельных измерениях. Однако несмотря на подобие, мы должны сказать, что измерение культуры не тождественно ни измерению бытия, ни измерению небытия. Можно разве что утверждать, что в пространстве измерений бытия и небытия культура дает то третье измерение, к которому мы до сих пор не могли подобрать слóва, говоря о нем лишь с помощью порядкового числительного. Если деятельность протекает в плоскости забывания и приобретения опыта, она направлена на небытие и будет разрушать, а в этом смысле приведет к упущению; в то же время, если деятельность протекает в плоскости вспоминания и воображения, она направлена на бытие и будет творить, но и в этом случае ведет к упущению: оба варианта требуют принесения жертвы, это их общая черта. Так с точки зрения измерения культуры мы говорим о событиях, происходящих в двух других измерениях.
А если это действительно так, тогда каким образом и с помощью чего можно судить о культуре? Вот каким вопросом задается человек в состоянии меланхолии. Если он смотрит на культуру из мира «чего-то», она представляется ему «ничем», если он смотрит на нее из мира «ничего», она выглядит «чем-то»; но такие умозаключения мало что ему дают. Подобно тому, как сумму углов треугольника не могут определить сами углы, – для этого нужно искать четвертую точку (точку зрения), которая и позволит определить, правильным ли является утверждение части о целом – о пространстве неизвестной природы.
У нас тоже нет иного варианта: нам придется вернуться туда, откуда мы вышли.
После стольких зыбких умозаключений, после стольких сомнительной ценности выводов становится очевидным: на картине Каспара Давида Фридриха – тут мы перечеркиваем все свои прежние утверждения – не один, не два, не три, а четыре центра.
Центр, названный первым, дает – в соответствии с психологией чувства – видимость центра; центр, названный вторым, дает – в соответствии с геометрией знания – реальность центра. Если первый приобщает к миру «чего-то», второй – к миру «ничего». Мир «чего-то» характеризуют рождение и смерть, мир «ничего» – деятельность души и духа; но все это можно сформулировать, лишь глядя на картину из третьего центра. Этот третий центр мы назвали культурой – и не смогли отождествить ее ни с «чем-то», ни с «ничем», хотя с точки зрения первого она ведет себя как «ничто», а с точки зрения второго – как «что-то»; поэтому мы назвали ее третьим измерением, проистекающим из взаимосвязи двух указанных плоскостей. Однако если оно, это измерение, ведет себя как самостоятельная плоскость, тогда три располагающиеся друг в друге плоскости должны создавать такое четырехмерное пространство, которое не тождественно ни первому, ни второму, ни третьему измерениям, хотя и не является отдельным от них.
Если культура – третье измерение, содержащее взаимосвязи между одним и многим, между видимостью и реальностью, между бытием и небытием, то меланхолия должна относиться к такой реальности, которая причастна ко всем трем измерениям, хотя не тождественна им.
Культура ведет себя как самостоятельное целое по отношению к множеству и к одному, к видимости и к реальности, к «чему-то» и к «ничему», к бытию и к небытию; однако это доступно ей лишь при условии, что она всегда судит о деятельности с точки зрения той плоскости, на которую эта деятельность направлена.
Если деятельность происходит на плоскости забывания и приобретения опыта, то, следовательно, она направлена на реальность, на «ничто», на множество, на небытие, тогда она будет разрушать, уничтожать, и в этих условиях культурная деятельность заключается в том, чтобы, ссылаясь на видимость, на «что-то», на одно, на бытие, на творение, назвать природу допущенного антидействия и определить жертву, которая соответствовала бы мере и характеру разрушения.
Находясь в роли третьего над другими двумя измерениями и держась подобно какому-нибудь независимому и беспристрастному контролеру, наставнику, она в то же время действует и сама, то есть или разрушает, или творит, а значит, в любом случае допускает некое антидействие.
На полотне Каспара Давида Фридриха на нас слепым взглядом смотрит Протей.
На полотне Каспара Давида Фридриха один из потерпевших крушение следит за костром и жмурится от едкого дыма; второй смотрит в сторону суши, которая с камня, где все они сидят, конечно, не видна; третий смотрит в море, и блеск вод у горизонта слепит ему глаза.
Взгляд Протея устремлен в пространство с трехмерной плоскости.
Четвертый центр полотна Каспара Давида Фридриха находится вне полотна Каспара Давида Фридриха.
Протей смотрит на плоскость, знанием о которой он обладает; на этой плоскости находимся мы: ведь место, где мы находимся, располагается как раз там, где должен быть, за пределами картины, четвертый центр полотна Каспара Давида Фридриха.
Когда мы, стоя в четвертом центре картины, с уверенным ощущением трехмерности мира смотрим на двухмерную плоскость картины, на нас с двухмерной плоскости взирает такой трехмерный мир, отсутствующим третьим измерением которого можем быть только мы сами.
Двухмерная видимость пространства картины соотносится с трехмерной реальностью нашего пространства так же, как реальность четырехмерного пространства соотносится с видимостью трехмерного пространства Протея.
Если бы это было не так, то и Каспар Давид Фридрих не написал бы свою меланхолическую картину: ведь трехмерный мир можно лишить третьего измерения лишь при том условии, что мы будем созерцать видимость трех измерений из реальности некоего четвертого измерения.
О мире, образа которого у него нет, Протей не может знать ничего, кроме того, что Каспар Давид Фридрих чувствует о таком мире, образом которого он обладает.
Если космологи правы в том, что мир – это трехмерная проекция четырехмерного образования, и если Пуанкаре не ошибался, говоря, что природа образования, располагающего более значительным количеством измерений, не может отличаться от природы того пространства, которое известно нам как пространство трехмерное, то для нас отсюда следует, что мы должны холить и лелеять не того человека, который весьма существенное различие это ощущает как тождество, а того, кто лишен этого чувства. Этот человек – политик, этот человек – влюбленный.
Давайте же говорить о политике, давайте говорить о любви.
1986
Пина Бауш, философ тел
(Перевод О. Серебряной)
Между премьерами «Фрица» в январе 1974 года и «Трагедии» в феврале 1994-го прошло двадцать лет.
За эти двадцать лет Пина Бауш поставила с коллективом своего танцевального театра почти тридцать больших спектаклей, показав их дома в Вуппертале, а потом и на гастролях по всему миру. В течение года коллектив дает в среднем семьдесят представлений: тридцать в городе, который их приютил и финансирует – частично из городского, частично из земельного бюджета, – и еще сорок на гастро-лях, все доходы от которых забирает себе город. Танцевальный театр – это даже не здание. Собственного телефона у них тоже нет. Есть репетиционный зал – а выступают они в вуппертальской опере, она же театр, Shauspielhaus.
В рамках идущей сейчас ретроспективы коллектив Пины Бауш играет одиннадцать спектаклей из тех, что были поставлены за прошедшие двадцать лет. Мне удалось сходить на пять представлений. Два вечера подряд – на «Синюю Бороду», через несколько дней – на Two Cigarettes in the Dark, «Гвоздики» и «Палермо, Палермо». Им и посвящены эти заметки. Но поскольку речь идет не просто о театре, а о театре танцевальном, причем, по-видимому, о наиболее значительном явлении танцевального искусства нашего времени, то едва ли возможен текст, который сохранял бы надлежащую скромность или, по крайней мере, не пытался бы неуклюже заслонить собой танец.
Собственно, лучше всего было бы, если бы каждый пошел и сам составил себе представление о том, что происходит на сцене танцевального театра Пины Бауш. Да и я не выступал бы с этими импровизированными заметками, если бы не знал, что в этом сезоне будапештской публике представится возможность увидеть ее танцевальный коллектив. В ходе первых и, будем надеяться, не последних гастролей танцевального театра Вупперталя состоятся премьеры двух постановок Пины Бауш; их я, само собой, не обсуждаю вовсе. Расскажу лучше о тех спектаклях, с которыми у венгерской публики до сих пор не было возможности познакомиться.
Скованность, национальная иконография
«Синяя Борода» Пины Бауш – это не история Белы Балажа[9] и даже не история Белы Бартока; здесь рассказывается о том, что могло бы произойти, но не произошло в целомудренной истории двух венгерских авторов. Обо всем том, что они своей историей завуалировали. Пина Бауш отделяет эту вещь от той позиции, которую эти двое столь мучительно и неловко навязывали нам на протяжении шестидесяти шести лет: позиции, в которой надо казаться бесчувственным, совершать ритуальные действия, всегда быть готовым к самозащите и быть начисто лишенным гибкости. Никогда я не понимал, что до такой степени раздражает меня в «Синей Бороде».
Неизбежная предвзятость по отношению к национальной культуре приводит к тому, что люди просто не воспринимают, не хотят понимать определенные вещи. Например, что эротика – страшная сила, но от нее совершенно не обязательно должно разить тленом и прелью. Во время представления я наконец увидел, какой величины аршин должен был проглотить Бела Балаж, чтобы не дай бог не дать этой истории зазвучать в тех регистрах, в каких ей, в силу самой темы, следовало бы звучать. Он же декламирует, встав на цыпочки. Насколь-ко можно представить себе жизнь Балажа по его дневникам, подобный отказ от гибкости вовсе не был характерной для него чертой, и уж тем более этот отказ не вытекает из темы. Это уступка духу времени. Перед салонной публикой в символическом ключе разыгрывается тема, которую уже тогда надо было обсуждать во всех деталях и тонкостях. Конечно, благодаря оригинальной музыке Бартока история Балажа обретает объем, но, как и в случае со многими другими музыкальными драмами, либретто оказалось высоким порогом, о который композитор, к сожалению, споткнулся. Не случайно, конечно: ведь он сам его для себя выбрал.
Пина Бауш в своей блаженной наивности не замечает всего этого венгерского убожества. Она с ним работает, занимается его истолкованием, наделяет его смыслом, да еще и обогащает настоящую драматическую полноту такими нюансами, которые Бартоку не могли прийти в голову – в силу присущей ему застенчивости, скованности, которая действительно определяла его личность, в силу его сдержанности и закрытости. У нее на сцене движутся свободные, наделенные индивидуальностью страстные и страдающие люди, а не застывшие в позе величия искалеченные существа. Она говорит о том, что на самом деле мучило Бартока, но о чем он вынужденно хранил скорбное молчание. Пина Бауш срывает замки с музыки Бартока, распахивает двери и окна в душном пространстве либретто. И надо добавить, что срывает она и те замки, которые, по правилам нашей национальной иконографии, считаются священными и нерушимыми.
Наверное, в любом национальном искусстве есть значительные произведения, веками сохраняющие непререкаемый авторитет. Я и сам, к примеру, лет до тридцати не мог взглянуть на звездное небо и не подумать: тюрьма[10]. Как-то прекрасным летним вечером я под давлением обстоятельств наконец взбунтовался против поэта. Зачем было писать такие глупости? И почему я верил, что так оно и есть на самом деле, а не только в стихотворении? Ведь если и существует что-то, что не имеет ничего общего ни с тюрьмами, ни с тюрьмой земного бытия, то это как раз те самые звезды. Земля для меня как раз потому и не тюрьма, что на небе есть звезды.
«Замок герцога Синяя Борода» – куда более гиблый случай. Все, что конструкция либретто утверждает об отношениях двух людей, о связи между мужчинами и женщинами, – напыщенно, высокопарно, фальшиво, ложно. На этот счет у меня и до этого сомнений не было. И тем не менее я верил, что мрачность Бартока, его достоинство, скованность, строгость – это закон, незыблемый закон природы. Я и теперь не могу поставить его под сомнение, ибо музыка поразительна и оригинальна, – разве что благодаря Пине Бауш вижу и другую сторону медали. Она демонстрирует нам вполне разумно устроенные личные убежища и нелепые маски тонко чувствующего человека. У закономерного есть личная сторона, которой никогда нельзя пренебрегать. Величавость Бартока – декорация, которая скорее заслоняет, чем побуждает что-то увидеть. Пина Бауш открывает такие двери в его музыку и отпирает такие двери изнутри ее, что от этого меняется сама природа произведения, его законы становятся другими. Она восстанавливает индивидуальность в ее суверенных правах, от которых венгерское художественное мышление под давлением сменяющих друг друга тираний время от времени охотно отказывается. В этом представлении о музыке Бартока исчезает вся почтенная национальная иконография. Зато я узнал много всего такого, чего до этого узнать не мог, в том числе и о собственном национальном характере. Который, конечно же, обладает какой-то властью и над эротической стороной жизни. Я, к примеру, не замечал, что мучительная готовность вечно от кого-то защищаться характерна не только для либретто Балажа – она же пронизывает и музыку Бартока, является, так сказать, одной из ее тоник. И на все это я обратил внимание потому, что в каждый следующий момент ожидал совершенно другого, чем то, что в действительности происходило на сцене у Пины Бауш.