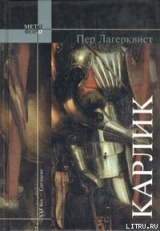
Текст книги "Карлик"
Автор книги: Пер Лагерквист
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
До того как снова зажгли свечи, я успел различить своими глазами карлика, которые видят в темноте зорче человеческих, что иные из гостей судорожно сжимали рукоятку кинжала, будто готовые к любым неожиданностям.
С какой стати? Ведь то были всего-навсего танцовщицы, которых герцог нанял в Венеции для развлечения гостей.
Как только зала снова осветилась, в дверях снова появился гофмаршал на своей белой кобыле и зычно возвестил о «событии» вечера, удивительнейшем, изысканнейшем кушанье, и тотчас со всех сторон стали стекаться к столам слуги – их было, верно, больше пятидесяти, – они несли над головами огромные, отделанные драгоценными каменьями серебряные блюда, на которых восседали, как на тронах, павлины, позолоченные, с распущенными хвостами, переливавшимися всеми цветами радуги. Их появление вызвало совершенно идиотский восторг. И недавний страх, и перевернутые факелы, напомнившие о смерти, – все улетучилось, словно и не бывало. Люди как дети: одну игру тотчас забывают ради другой. Лишь ту игру, в которую я с ними сыграю, им не удастся забыть.
Потаращив глаза на невиданное кушанье, они накинулись на него с той же жадностью, с какой накидывались на любое блюдо. И все началось заново по милости этих спесивых птиц, которыми я всегда гнушался и которые напоминают мне людей, – видно, потому люди так ими и восхищаются, почитая за лакомство. Когда с павлинами было покончено, на столе снова появились фазаны, каплуны, перепелки, утки, осетры, карпы и сочащееся кровью жаркое из диких животных – снова целые горы еды, которую они заглатывали с такой алчностью, что меня чуть не вырвало от омерзения. А затем явились горы печений, конфет и всяких вонявших мускусом сладостей, пожиравшихся с такой быстротой, точно гости весь вечер просидели голодные. А под конец они набросились на искусно выпеченные и прекраснейшие, по их же собственным словам, фигуры богов из греческой мифологии, резали их на куски и запихивали в рот до тех пор, пока не остались одни крошки. Столы выглядели словно после нашествия варваров. Я смотрел на это опустошение и на этих разгоряченных, потных людей с величайшим омерзением.
Тут выступил вперед гофмейстер и потребовал тишины. Он объявил, что сейчас будет представлена замечательнейшая сцена-аллегория, сочиненная по высочайшему повелению герцога его придворными поэтами для развлечения и удовольствия высокочтимых гостей. Тощие, худосочные поэты, которые сидели в самом дальнем углу за самым бедным столом, навострили уши – эти примитивные, самодовольные создания с нетерпением предвкушали исполнение своего хитроумного творения, которое по причине его глубокомысленного и иносказательного содержания долженствовало составить украшение праздника.
На сооруженных у стены подмостках появился, сверкая доспехами, бог Марс и заявил, что он решил свести двух могучих воинов, Целефона и Каликста, в битве, которая прославится на весь мир и увековечит их имена, но главное – убедит людей в его, бога войны, всемогуществе и величии: пусть все увидят, как два благородных мужа, покорные его воле, вступили в героическую схватку, пролив в его честь свою кровь. Доколе отвага и рыцарство пребудут на земле, оные неоценимые добродетели станут служить ему, и никому другому, сказал он и с этими словами удалился.
Тут на подмостки вышли оба воина и, едва завидев друг друга, ринулись в бой и показали в этой довольно долго длившейся сцене такое искусство владения мечом, что те из гостей, кто знал в этом толк и мог по достоинству оценить поединок, пришли в восторг. Я тоже должен признать, что дрались они замечательно и что я получил большое удовольствие от этой сцены. Они делали вид, будто наносят друг другу опаснейшие раны, пока наконец, якобы обессиленные от потери крови и увечий, не рухнули оба замертво на пол.
Тут опять выступил вперед бог войны и стал говорить в красивых выражениях про их славную битву, уготовившую им смерть героев, про свою неодолимую власть над людскими душами и про самого себя, превосходящего своим могуществом на земле всех богов Олимпа.
Потом он удалился. Послышалась вкрадчивая, тихая музыка, и через некоторое время на подмостки выплыла богиня Венера в сопровождении трех своих подружек по имени «грации» и увидела двух поверженных воинов, валявшихся в совершенно растерзанном виде и купавшихся, как она выразилась, в собственной крови. Три грации склонились над ними и стали причитать, мол, как это ужасно, что двое таких красивых, великолепных мужчин ни за что ни про что лишились своей мужской силы и испустили дух, а их повелительница, покуда они оплакивали горькую судьбу воинов, объяснила, что, без сомнения, это жестокий Марс их раззадорил и заставил кинуться в бессмысленную битву. Грации с этим согласились, но не преминули ей вместе с тем напомнить, что Марс ее любовник, которого она, несмотря на всю свою небесную кротость, заключает в объятия. Но она заявила, что это низкая клевета. Разве могла бы богиня любви полюбить это кровожадное, варварское божество, всем ненавистное и отвратительное, вплоть до собственного его отца, великого Юпитера? С этими словами она подошла и коснулась убитых своим волшебным жезлом, и они тут же вскочили, живые и невредимые, и протянули друг другу руки в знак вечного мира и дружбы, обещая никогда больше не поддаваться на соблазны жестокого Марса, который вовлек их в эту кровавую, смертельную битву.
Затем богиня произнесла длинную и трогательную речь о любви, в которой восхваляла ее как самую могучую и самую кроткую из всех властвующих над нами сил, как источник жизни и начало всех начал. Она долго говорила о благостной власти любви, которая, мол, самой силе дарует нежность и которая диктует земным существам небесные законы и способна заставить склониться пред собою все живое, которая способна исправлять и облагораживать грубое и низменное в людях, управлять поступками правителей и обычаями народов, и что, мол, человеческая любовь и человеческое милосердие уже начали свое триумфальное шествие по разоренному, оскверненному кровью миру, имея у себя в услужении благородство и рыцарственность и одаряя род людской иными добродетелями, нежели воинская честь и боевая слава. И, подняв вверх свой волшебный жезл, она возвестила, что именно она, божество всемогущее и всевластное, завоюет грешную землю и обратит ее в обитель любви и вечного мира.
Будь у меня лицо, способное улыбаться, я непременно бы улыбнулся, услышав это наивное заключение. Чувствительные излияния богини встретили, однако, живой отклик у зрителей и многих взволновали и растрогали, заключительные же красивые словеса все слушали, можно сказать, затаив дыхание. Сочинители, породившие на свет это творение, приписали, судя по их довольным физиономиям, весь успех представления себе, хотя про них и думать забыли. Они, я уверен, рассматривали эту свою изобилующую намеками и красивыми словами аллегорию как самое значительное из всего, что происходило на празднествах в честь заключения договора о вечном мире между нашим герцогским домом и домом Монтанца. Я же смею думать, что самым значительным было то, что последовало за этим.
Мое место было, как обычно, за спиной моего высокого повелителя, поскольку, прекрасно изучив его, я могу угадывать его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и исполнять его приказания так, будто я часть его самого. Он сделал мне знак, никем, кроме меня, не замеченный, чтобы я налил Лодовико, его сыну и его приближенным того самого драгоценного вина, которым я распоряжаюсь и рецепт которого известен только мне. Я взял свой золотой кувшин и налил из него сначала Быку. Он давно уже сбросил отороченную мехом накидку, разгорячившись от всего выпитого, и сидел в своем ярко-красном камзоле, коренастый, мясистый и совершенно багровый от чрезмерного прилива крови к голове. Золотые цепи, которые обвивали его бычью шею, до того перепутались, что он выглядел в них как закованный. Воздух вокруг этой напичканной снедью туши был отравлен газами, потом и винными парами, и находиться рядом с этим звероподобным существом было противно до тошноты. Есть ли на свете тварь омерзительнее человека, подумал я, отходя, и стал наливать по очереди самым знатным его приближенным, тем, кто сидел за герцогским столом. Потом я наполнил золотой кубок Джованни, заметив при этом, что Анджелика уставилась на меня своими круглыми голубыми глазами с тем же точно выражением наивного изумления, как в тот раз, когда, будучи еще ребенком, поняла по моему окаменевшему древнему лицу, что я не хочу с ней играть. Когда я подходил, она, я заметил, выпустила его руку и внезапно побледнела, испугавшись, видно, не проник ли я в их постыдную тайну. И она не ошиблась. Мне гадко было наблюдать за их сближением, тем более преступным, что они принадлежат к двум враждующим домам и что они совсем еще дети, а уже погружаются в грязную трясину любви. Я наблюдал румянец на их лицах, эту краску, выступающую, когда кровь взбудоражена постыдными желаниями, желаниями, которые, вырываясь наружу, являют собой столь тошнотворное зрелище. Противно было видеть эту смесь невинности и похоти, особенно пакостную и превращающую любовь между людьми в этом возрасте в нечто совершенно уж безобразное. Я с удовольствием подлил ему в кубок, который был пуст только наполовину – оно и неважно, моего напитка достаточно только капнуть.
Затем я подошел к дону Риккардо и налил ему до краев. Это не входило в мою задачу. Но у меня есть свои собственные задачи. Я и сам могу давать себе задания. И, увидев, что герцог на меня смотрит, я спокойно выдержал его взгляд. Странный взгляд. У людей бывает такой взгляд. У карликов никогда. Словно нечто затаенное, обитавшее где-то на дне его души, всплыло вдруг на поверхность и со страхом и сладострастием наблюдало за мной. Некое затаенное желание вынырнуло на минутку из темных глубин, как боящееся света водяное чудище с извивающейся скользкой спиной. У древнего, подобно мне, существа никогда не бывает такого взгляда. Я твердо смотрел ему в глаза, и, надеюсь, он заметил, что рука моя не дрогнула.
Я знаю, чего ему хочется. Но я знаю также, что он рыцарь. Я не рыцарь. Я всего лишь карлик рыцаря. Я угадываю его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и, будучи как бы частью его самого, исполняю даже самые неслышные его приказания. Хорошо иметь при себе такого вот маленького браво[3]3
bravo – наемный убийца (итал.)
[Закрыть], делающего за тебя часть твоих дел.
Как раз когда я наполнял дону Риккардо кубок, который, разумеется, опять был пуст, он захохотал, откинувшись назад, так что борода у него встала торчком, а рот с двумя рядами широких белых зубов разинулся во всю ширь, зазияв огромной дырой. Я мог заглянуть ему в самую глотку. Я уже говорил, насколько неприятно, по-моему, наблюдать смеющегося человека. Но видеть, как хохочет своим вульгарным хохотом этот шут, «влюбленный в жизнь» и считающий ее такой неотразимо приятной, было противно до невозможности. Десны и губы у него были совершенно мокрые, а в уголках глаз, откуда к расширенным блестящим зрачкам шли тоненькие кровяные прожилки, все время скапливались слезы. Ниже короткой черной щетины под бородой прыгал на шее кадык. На левой руке у него я заметил то самое кольцо с рубинами, которое герцогиня подарила ему как-то раз, когда он заболел, и которое я прятал у себя на груди завернутое в одно из ее похотливых любовных писем.
Чему он смеялся, я не знаю, да мне это и неинтересно, я уверен, что сам я все равно не нашел бы в этом ничего забавного. Смеялся он, во всяком случае, в последний раз.
Я свое дело сделал. И ждал теперь последствий, стоя подле этого жизнерадостного шута и распутника и вдыхая его запах и запах бархата от его темно-красного камзола, цвет которого должен был символизировать страсть.
И вот герцог, мой высокий повелитель, поднял свой зеленоватый бокал и с самой любезной улыбкой обратился к своим почетным гостям, к Лодовико Монтанце со всей его блестящей свитой, – в первую очередь, разумеется, к сидевшему напротив Лодовико. Бледное, породистое лицо герцога производило впечатление благородства и изысканности и сильно отличалось от всех остальных, красных и опухших. Своим приятным, мягким и в то же время низким и сильным, настоящим мужским голосом он провозгласил здравицу в честь вечного мира, что воцарится отныне между обоими государствами, между герцогскими домами и между народами. С бесконечными, бессмысленными войнами отныне покончено, настало новое время, которое всем нам принесет счастье и радость. Наконец-то исполнится слово Писания о мире на земле. С этими словами он осушил свой бокал, и одновременно с ним осушили в торжественном молчании свои золотые кубки и высокие гости.
Мой повелитель сел и долго сидел задумавшись, с бокалом в руке, точно рассматривая сквозь стекло мир.
Праздник снова зашумел, и мне трудно сказать, как долго это продолжалось: бывают случаи, когда представление о времени как бы утрачивается. К тому же слишком велико было во мне внутреннее напряжение, почти нестерпимое, и слишком велика была моя злоба на Джованни, который даже не притронулся к своему кубку. Охваченный гневом, я смотрел, как Анджелика с бледной улыбкой передвинула кубок к себе, сделав вид, будто хочет выпить сама. Я надеялся, что они оба отведают моего напитка, что, будучи влюблены, они захотят выпить из одного источника. Но ни один даже не притронулся. То ли проклятая девчонка что-то заподозрила, то ли они и без вина были пьяны своей страстью. Злоба кипела во мне. Для чего им жить! Дьявол их побери!
Зато дон Риккардо опрокинул, разумеется, свой кубок залпом. Этот последний в своей жизни кубок он осушил, кстати, за здоровье герцогини, неизменно галантный к даме сердца. Он паясничал даже у гробовой доски. Указав комическим жестом на свою негодную к употреблению правую руку, он поднял левой драгоценный напиток, которым я его попотчевал, и улыбался при этом во весь рот своей прославленной, а на самом-то деле просто-напросто глупой улыбкой. Она ему тоже улыбалась, сначала чуть лукаво, а потом с тем влажным, томным блеском во взгляде, который я видеть не могу без отвращения. Не понимаю, как не стыдно так смотреть.
Вдруг Бык издал дикий вопль, и глаза его странно остекленели. Несколько человек из его свиты, которые сидели по ту же сторону стола, вскочили было, но не смогли даже устоять на ногах, ухватились за край стола и грузно повалились обратно на стулья, корчась от боли, охая и бормоча что-то насчет отравы. Расслышать их было трудно. Но кто-то из тех, кому не было еще так плохо, крикнул на всю залу: «Нас отравили!» Все повскакали со своих мест, поднялся страшный переполох. Люди Лодовико, выхватив кинжалы и другое оружие, бросились со всех концов залы к главному столу и начали колоть и рубить наших, пытаясь пробиться к своему господину. Но наши тоже повскакали с мест, защищая себя и герцога, и заварилась невообразимая каша. И у них и у нас падали убитые и раненые, и кровь лилась рекой. Словно на поле брани, сражались в четырех стенах между накрытыми столами пьяные, краснолицые воины, которые только что мирно сидели бок о бок и вот вдруг сошлись лицом к лицу в смертельной схватке. Со всех сторон неслись крики и вопли, заглушая стоны и хрипы умирающих. Жуткие проклятия призывали всех духов преисподней явиться на место ужаснейшего из преступлений. Я взобрался с ногами на стул, чтобы лучше видеть происходящее. Вне себя от возбуждения, смотрел я на дело своих рук, смотрел, как я выкашиваю под корень это мерзкое племя, которое и не заслуживает лучшей участи. Как гуляет по их головам мой могучий меч, беспощадный и разящий, взыскующий кары и мести. Как я отправляю их на вечные муки в геенну огненную. Пусть все они сгорят в адском пламени! Все эти твари, называющие себя людьми и внушающие одно лишь омерзение и гадливость! Для чего им жить! Для чего жрать, хохотать, любить и плодиться по всей земле! Для чего нужны эти изолгавшиеся комедианты и хвастуны, эти порочные, бесстыжие существа, чьи добродетели еще преступнее, чем грехи! Сгори они все в адском пламени! Я казался себе Сатаной, самим Сатаной, окруженным всеми духами тьмы, которых они сами же вызвали из преисподней и которые толпились теперь вокруг них, злобно гримасничая и утаскивая за собой в царство мертвых их свеженькие, еще воняющие плотью души. С неизведанным мной доселе наслаждением, острым почти до потери сознания, ощущал я свою власть на земле. Это благодаря мне мир полнился ужасом и гибелью и из блистательного праздника превращался в царство смерти и страха. Я смешиваю свое зелье – и герцоги и сеньоры стонут в предсмертных муках и корчатся на полу в собственной крови. Я потчую своим напитком – и знатные гости за роскошно накрытыми столами бледнеют, и никто уже больше никому не улыбается, и не поднимает бокала, и не разглагольствует о любви к женщине и о любви к этой жизни. Ибо мой напиток заставляет забыть, что жизнь удивительна и прекрасна, и густой туман обволакивает все вокруг, и глаза слепнут, и наступает мрак. Я перевертываю их факелы и гашу их, и наступает мрак. Это я тут хозяин, я собираю их на свою зловещую Вечерю, где они слепнут, отведав моей отравленной крови, той самой, что изо дня в день питает мое сердце, но для них означает смерть.
Бык сидел неподвижно, лицо у него посинело, а поросшая редкой бородкой нижняя челюсть злобно отвисла, точно он собирался укусить кого-то своими гнилыми зубами. Глаза вылезли из орбит, пожелтев и налившись кровью, на него было страшно смотреть. Вдруг он резко дернул сдавленной цепями шеей, с такой злостью, словно хотел ее вывихнуть, и тяжелая голова свесилась на сторону. Его короткое бычье туловище изогнулось дугой, содрогнулось, словно в него всадили нож, – он был мертв. Те из его приближенных, что сидели за герцогским столом, корчились меж тем в адских муках, но вскоре и они затихли и не подавали больше признаков жизни. Что же до дона Риккардо, то он умирал, откинувшись назад и полузакрыв глаза, точно наслаждаясь моим напитком (это была его излюбленная поза, когда он смаковал тонкое вино), потом вдруг раскинул руки, будто хотел обнять весь мир, грохнулся затылком об пол – и конец.
В завязавшейся яростной драке и всеобщей сумятице всем было не до них, им пришлось умирать самим, уж кто как умел. Один только Джованни, который сидел по ту же сторону стола, что и Бык, и не притронулся по милости проклятой девчонки к моему зелью, кинулся к отцу и склонился над его безобразным телом, словно в состоянии был ему помочь. Но в то самое мгновение, как старый негодяй испустил дух, к Джованни пробился какой-то детина с кулачищами, словно у хорошего кузнеца, схватил его, точно перышко, в охапку и потащил к выходу. Этот трус позволил, разумеется, вытащить себя из драки. Таким вот образом он от нас и улизнул. Дьявол его побери!
Стол опрокинулся, и все, что на нем было, тут же превратилось в сплошную кашу под ногами сражавшихся, которые, обезумев от ярости, жаждали пустить друг другу кровь. Женщины давно уже с визгом разбежались, но в самый разгар схватки я увидел герцогиню, которая стояла каменным истуканом посреди царившего кругом разгрома, помертвелая, с застывшим лицом и остекленелым взглядом. Эта мертвенно-бледная маска с остатками румян на дряблой коже производила комическое впечатление. Наконец слугам удалось увести ее из этой залы ужасов, она последовала за ними безвольно, точно не соображая, где находится и куда ее ведут.
Люди Монтанцы, теснимые нашими превосходящими силами, стали отступать к выходам, но все еще бешено оборонялись, хоть оружия у них явно недоставало. Сражение продолжалось на лестницах, их преследовали до самой площади. Тут, однако, на помощь жестоко теснимому со всех сторон неприятелю подоспела вызванная из палаццо Джеральди личная стража Монтанцы, и под ее прикрытием врагу удалось бежать из города. Иначе бы их перебили всех до единого.
Я стоял один посреди опустевшей залы, в полумраке, потому что все канделябры попадали на пол. Одни лишь оборванные и голодные уличные мальчишки шныряли вокруг со своими факелами, разыскивая среди трупов остатки еды и испачканные лакомства, которые тут же и поглощали с невероятной жадностью, но при этом они не забывали хватать столовое серебро, пряча его под лохмотья. Побоявшись особенно долго задерживаться, они бросили факелы и улизнули со своей добычей, и я остался совсем один в целой зале. Теперь я мог спокойно оглядеться и подумать.
Освещенные колеблющимся светом догоравших на каменном полу факелов, среди луж крови и затоптанных, загаженных скатертей и остатков пиршественных яств, валялись кучами обезображенные трупы, свои и враги вперемешку. Их парадные платья были разодраны и выпачканы, а бледные лица еще искажены злобными гримасами, потому что умерли они в жестокой битве, в пылу безумной ярости. Я стоял, глядя на все на это своим древним взглядом.
Человеческая любовь. Вечный мир.
Говоря о себе и своей жизни, эти создания никак не могут обойтись без громких, красивых слов.
Когда на следующее утро я явился по обыкновению в спальные покои герцогини, она лежала в постели ко всему безучастная, с пустым взглядом и иссохшими губами. Этот рот, казалось, никогда уже больше не произнесет ни звука. Неубранные, тусклые волосы сбились в сплошной колтун на смятом изголовье. Руки бессильно лежали поверх одеяла. Она, по-моему, даже не замечала, что я тут, хотя я стоял посреди комнаты и смотрел прямо на нее, ожидая, не будет ли каких распоряжений. Я мог рассматривать ее сколько душе угодно. Румяна еще не стерлись с ее щек – единственное свидетельство прошлых радостей, кожа лица была увядшая и высохшая, а шея, несмотря на свою полноту, вся в морщинах. Такие выразительные прежде глаза застыли в неподвижности. Весь их блеск пропал. Никто бы не поверил, что она когда-то могла быть красива, что кто-то мог любить и обнимать ее. Самая мысль о чем-либо подобном казалась нелепой. В постели лежала старая, уродливая женщина.
Наконец-то.
При дворе у нас траур. Двор лишился своего шута. Сегодня состоялись похороны. Весь придворный штат, все рыцари и все патриции города провожали его, и, конечно, вся его собственная челядь, которая, я уверен, вполне искренне его оплакивает – приятно, должно быть, служить у такого беспечного, расточительного хозяина. Толпы черни высыпали на улицы поглазеть на процессию – этим беднякам нравилась, говорят, его легкомысленная особа. Они, как ни странно, таких любят. Сами живя впроголодь, они рады послушать красивые истории про чью-то беспечную, расточительную жизнь. Они знают, говорят, наизусть все анекдоты, которые про него ходят – про его «подвиги» и «проказы», – и пересказывают их в своих жалких лачугах, приютившихся возле его дворца. А теперь он еще раз их порадовал, дав возможность поглазеть на свои пышные похороны.
Герцог шел первым в процессии, низко опустив голову, и казался совершенно подавленным скорбью. Когда надо притвориться, он поистине удивителен. Хотя особенно удивляться, пожалуй, нечего. Ведь он многолик по своей природе.
Никто не осмеливался перешептываться. Что они там потом будут говорить в своих лачугах и дворцах – роли не играет. Случившееся объяснили роковым недоразумением. Дон Риккардо нечаянно выпил отравленного вина, которое было предназначено лишь для высоких гостей. Известно ведь, какой он страдал неутолимой жаждой, он сам, к сожалению, виноват в своей трагической гибели. Впрочем, всякий волен думать, что ему хочется. А что Лодовико с его свитой отравили, так все тому только рады, туда, мол, им и дорога.
Герцогини на похоронах не было. Она лежит как лежала, недвижимая, ко всему безучастная, и отказывается от пищи. Вернее, не отказывается, потому что она вообще не говорит, но слуги не могут ничего в нее впихнуть. Дура камеристка суетится вокруг, растерянная, с покрасневшими глазами, и размазывает по толстым щекам слезы.
Меня никто не подозревает. Ибо никто не знает, что я собой представляю.
Очень может быть, что герцог действительно скорбит по нем. При такой натуре это вовсе не исключено. Я склонен думать, что ему нравится по нем скорбеть, ему это кажется красивым и благородным. Рыцарская, бескорыстная скорбь – чувство возвышающее и приятное. К тому же он и в самом деле был к нему привязан, хоть и желал ему смерти. Теперь, когда его больше нет, он стал ему вдвойне дорог. Прежде всегда существовало нечто, что сковывало его чувства к другу. Теперь этого больше не существует. Добившись своего, он чувствует, как все больше и больше привязывается к нему.
Кругом только и разговоров что о доне Риккардо. Говорят о том, какой он был, да как жил, да как умер, да что сказал тогда-то и тогда-то, да как великодушно поступил в таком-то и таком-то случае, да какой он был безупречный рыцарь, да какой веселый и храбрый мужчина. Он словно бы стал теперь еще живее, чем при жизни. Но так всегда бывает, когда человек только что умер. Это быстро проходит. Нет истины бесспорней той, что тебя забудут.
Они же утверждают, что он никогда не будет забыт. И, выдумывая всякие небылицы про его исключительность и необыкновенность, они надеются сделать его бессмертным. Удивительно, до чего они ненавидят смерть, особенно когда дело коснется их любимчиков. Итак, сотворение мифа в полном разгаре, и тому, кто знал всю правду об этом кутиле, этом вертопрахе и шуте, остается только руками развести, слушая их небылицы. Их нисколько не смущает, что все это не имеет ни малейшего отношения к истине; по их словам, он был сама радость, сама поэзия и бог весть что еще, и мир без него уж не тот, и никогда уже им, увы, не услышать его заразительного смеха, и кончены его веселые проказы, и все они осиротели и убиты горем. Всем ужасно нравится скорбеть по нем.
Герцог великодушно принимает участие в мелодраме. Он печально выслушивает хвалебные речи, вставляя время от времени реплики, которые кажутся особенно красивыми потому, что исходят от него.
Но в общем и целом он, надеюсь, вполне доволен своим маленьким браво. Хотя, конечно, не подает виду. Он ни слова не сказал мне о случившемся, ни одобрения, ни упрека. Герцог волен и не замечать своих слуг, если ему так удобнее.
Он меня избегает. Как всегда в подобных случаях.
Скорбь герцогини ни в чем не выражается. Не знаю, как это истолковать, – возможно, это значит, что она очень сильно горюет. Она просто лежит в постели, уставившись в одну точку, и все.
Я, и никто иной, причина ее скорби. Если она в отчаянии, то только из-за меня. Если она переменилась до неузнаваемости и никогда не станет прежней, то только из-за меня. И если она слегла и лежит все время в постели, старая и безобразная, и не заботится больше о своей внешности, то все это тоже только из-за меня.
Я и не подозревал, что имею над ней такую власть.
Убийство снискало герцогу популярность. Все твердят в один голос, что он выдающийся правитель. Никогда еще его торжество над врагом не было таким полным и не вызывало такого поклонения его личности. Им гордятся, считая, что он проявил необыкновенную изобретательность и решительность.
Некоторые сомневаются, приведет ли все это к добру. Они, мол, предчувствуют недоброе. Но такие всегда отыщутся. Большинство же настроено восторженно, и стоит герцогу появиться, как его встречают ликованием. Кто из людей устоит перед обаянием правителя, для которого не существует препятствий на пути к цели!
Народ надеется, что наконец-то настанет спокойная и счастливая жизнь. Они довольны, что соседний народ обезглавлен: теперь он уж их больше не потревожит и не сможет помешать их счастью.
У них только и забот что о счастье.
Интересно бы знать, какие новые далеко идущие планы он теперь строит. Думает ли он снова на них напасть, пойти прямо на их город и овладеть им и всей страной? Это было бы проще простого после того, как все их главари, все сколько-нибудь значительные личности убраны с дороги. Мальчишку Джованни не стоит принимать в расчет, он не доставит нам никаких хлопот, этот трусливый сопляк, который чуть что – сразу удирать. Не мешало бы взять да поучить его, как подобает вести себя мужчине.
Я не сомневаюсь, что мой господин намерен пожать плоды убийства. Это было бы только разумно. Не удовольствуется же он тем, что есть. Уж коли посеял, то надо, разумеется, и пожать.
Ходят нелепые слухи, будто народ Монтанцы в ярости взялся за оружие, поклявшись отомстить за своего герцога и его приближенных. Одна болтовня, конечно. Вполне вероятно, что они действительно в ярости. Того мы, собственно, и добивались. Но что они взялись за оружие, вознамерившись мстить за такого правителя, что-то не верится. А даже если и так, не стоит придавать этому значения. Народ без правителя все равно что стадо баранов без вожака.
Я слышал, будто во главе встал дядя юного Джованни, брат Лодовико. Он-то будто бы и поклялся отомстить. Вот это уже больше похоже на правду. Народ не мстит за своих правителей, с какой стати, спрашивается. Ему при всех при них живется одинаково плохо, и он только рад избавиться хотя бы от одного из своих мучителей.
Говорят, он человек того же склада, что и покойный Лодовико, но до сих пор его затирали, не давая возможности сыграть сколько-нибудь значительную роль. Зовут его Эрколе Монтанца, и, судя по всему, он опасная личность, хоть и не воин. Говорят, будто он взял сейчас бразды правления в свои руки, чтобы, как он выразился, спасти страну в минуту смертельной опасности и вместе с тем попытаться оттеснить в сторону юного наследника престола, слишком, по его мнению, слабохарактерного для роли герцога, в то время как сам он – достойный продолжатель рода Монтанца и весьма, на его собственный взгляд, подходит на роль властителя. Ну что ж, вполне правдоподобно. Так оно обычно и происходит на свете.
Начинает, кажется, все же сбываться мое предсказание, что этому юноше с его оленьими глазами и медальоном на груди никогда не сидеть на троне.
Стянуты уже, говорят, значительные силы для осуществления этой самой мести, и неприятель якобы уже хлынул в страну, продвигаясь по долине вдоль реки. Во главе их стоит Боккаросса, который за двойную по сравнению с нашей плату вызвался умереть со своими наемниками за нового Монтанцу. Они зверствуют, жгут и уничтожают все живое на своем пути – как видно, они вовсе не собираются умирать, а предпочитают, чтобы умирали другие.
Наши военачальники спешно набирают войско, чтобы задержать их продвижение. В городе опять полно солдат, отправляющихся на поле боя, чтобы взяться наконец снова за свое дело.








