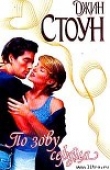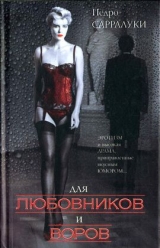
Текст книги "Для любовников и воров"
Автор книги: Педро Сарралуки
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Шляпу? А где она?
– У меня на кровати. Но я не решаюсь отдать ее тебе. Надо мной будут смеяться.
Она вытерла слезы. Казалось, к ней вернулось хорошее настроение. Она задумалась и взяла меня под руку. Мне хотелось целиком перенестись внутрь моей руки, превратиться в горячий камень на ее ладони.
– Давай сделаем вот что, – сказала она. – Это будет тайный подарок. Ты отдашь мне его потом, и я никому ничего не скажу. Раз у меня есть две такие же шляпы, никто не догадается, что та, которую я ношу, – твоя. Об этом будешь знать только ты. Ты и я.
Улыбаясь и совершенно забыв про печаль, переполнявшую ее всего несколько секунд назад, она повернулась ко мне спиной и возвратилась в столовую. Я остался стоять возле кухонного стола, совсем обезумев от безудержного, далее животного счастья. Иногда жажда жизни завладевает нами до такой степени, что становится почти бесстыдной. Если бы в этот момент мое сердце могло думать, оно бы не остановилось, как у Пессоа, а в буквальном смысле сошло бы с ума от счастья. В то весеннее утро с Полин я открыл нечто очень важное, что осталось во мне навсегда – еще один подарок, преподнесенный мне жизнью: я понял, что когда мужчина открывает свои чувства женщине, она не станет презирать его и превратится не во врага (как я всегда думал и чего больше всего боялся), а в сообщника. Это единственный способ, с помощью которого можно соблазнить женщину.
Пора было убирать комнаты. Я оставил Пако и его гостей за столом и решил начать, как и в прошлый день, с домика для гостей. О ночи, проведенной Долорес в одиночестве, можно было судить по пропитанному запахом духов беспорядку. За беспокойную манеру говорить, неестественные жесты, пристрастие к изысканности и тягу к неудачам ее саму можно было бы назвать благоуханным беспорядком, стихающим циклоном, разрушившим фабрику по производству духов. На столе Долорес лежала куча исписанных листов – на них было мало исправлений, но много пометок на полях. История Клары принимала все более отчетливые очертания. Я прочитал наугад несколько строчек: «Это был высокий и очень худой человек, с белой бородой и грустным взглядом, в котором всегда светилась глубокая задумчивость. Это был взгляд часовщика, погруженного в свою работу». Таково было описание Манфорда. Он представлялся мне реальным человеком, о котором мне много рассказывали и с кем я, возможно, когда-нибудь сталкивался. Я испытывал то же самое, что и Полин по отношению к героям рассказа Антона, – мне было трудно воспринимать Манфорда как литературный вымысел, сводя его к набору графических знаков. В моей памяти Манфорд представлял собой нечто гораздо более значительное: воспоминание о нем было для меня несравнимо более ярким, чем образы многих жителей нашего города. Возможно, я находился под влиянием Полин и ее странной теории о непоправимости уже созданного, или же на меня произвел впечатление этот рассказ о пересечении двух путей в тупике. Ночь медленно надвигается на домики у реки. Манфорд, не в силах больше выносить страдания, собирается покончить с собой, а в это время совсем рядом, в гостинице, затерянной в тропическом лесу, Клара ожидает его прихода. Он привязывает веревку к балке. А она в то же самое время трепещет под простыней, думая, что слышит его шаги в саду.
* * *
Я застелил постель и немного прибрал комнату. После этого я вернулся в особняк. На втором этаже не было слышно ни звука. Я вошел в комнату Исабель.
Там стоял какой-то кислый и неприятный запах – тот же самый, который я почувствовал от Антона, когда он меня обнял. Вспомнив ту жалкую любовную сцену, свидетелем которой я стал прошлой ночью, я с некоторым отвращением снял простыни и постелил новые. Я начинал понимать Исабель Тогорес – ее бесполезную трезвость ума, ее неприятие всего, что могло бы показаться сентиментальным, ее вечно скучающее выражение лица и изумление той легкостью, с какой всем остальным удавалось быть счастливыми. И дело было не в том, что Исабель не везло или она не умела устраиваться в жизни, – просто ей не удавалось убедить себя в чем бы то ни было. По-видимому, любовные волнения казались ей невыносимо наивными – фейерверками для таких простых душ, как Фабио. Она тоже была способна влюбляться – вполне возможно, она была влюблена в Антона. Но вряд ли можно потерять голову от любви к человеку, внушающему тебе жалость. А Исабель абсолютно ко всем испытывала сострадание. Даже к самому Пако. Именно из-за этого она постоянно была не в духе. Исабель, несмотря на свой низкопробный цинизм, чувствовала жалость ко всем и даже к себе самой: она была похожа на прокаженную в лазарете, знающую, что оттуда нет выхода и, что бы там ни было за этими стенами – зеленые луга, кристально-прозрачные реки, ленивая и чувственная аркадия, – никому из ее мира не суждено все это увидеть.
Однако действительно разительные перемены, заставившие меня подозревать, что этот день готовит нам немало неожиданностей, я нашел в комнатах Фабио и Умберто. Кровать первого даже не была расстелена. Я подумал, что он, вдохновленный темнотой, дождем и весной, провел всю ночь в кабинете с открытой дверью, работая над рассказом и глядя на спящую Полин. Для Фабио, любителя крайностей, сон был невыносимой обязанностью. Поэтому прошлой ночью, когда он спал в своей комнате, простыни остались ужасно скомканными: должно быть, на протяжении долгих часов, проведенных в полусне, Фабио метался в постели, терзаемый неожиданной беспричинной страстью.
Что касается Умберто Арденио Росалеса, то было очевидно, что он ужасно провел ночь. Он не мог ни в чем упрекнуть Фабио, охранявшего сон Полин при открытой двери и ушедшего с головой в свой невероятно чудесный рассказ, и поэтому удалился сразу же после партии в шахматы с таким видом, будто у него стащили бумажник. В его комнате был едва заметный беспорядок. То, что для любого другого человека было бы нормальным явлением и почти чудом для Долорес, в случае с Умберто говорило о его величайших муках. Полотенце не было безупречно разложено на вешалке, простыня была немного помята – знак того, что он ворочался и его сон утратил безмятежность; компьютер и электронная записная книжка не лежали строго параллельно краю стола. Умберто страдал почти без актерства – в этом он был полной противоположностью Фабио. Все это было вполне естественно, однако меня поразила неожиданная деталь. На ночном столике лежала закрытая тетрадь. Как только она попалась мне на глаза, я понял, что не смогу удержаться от искушения полистать ее. Из предосторожности я выглянул в коридор. Все по-прежнему были внизу. До меня долетали приглушенные звуки их голосов. Я притворил дверь, взял тетрадь и развернул ее. Это был дневник. Печатными буквами (тем же почерком, что и в обнаруженной мной записке к Полин) под вчерашней датой были написаны странные строки: «Мануэла напилась. Фабио Комалада ходит вокруг нее, как хищный зверь, но мне на это наплевать. У меня болит спина, и я устал: от самого себя, от писательства, от того, что Исабель и Антон смотрят на меня так, как будто я перешел им дорогу, от этого подлеца Пако. Сегодня он оскорбил меня из-за того, что я согласился на должность директора. Он совсем уже из ума выживает? В один прекрасный день мне все это надоест, и я открою всю правду».
О какой правде говорил Умберто? Почему он сомневался в здравом рассудке Пако? Действительно ли писателю было, что скрывать, или Умберто просто отстаивал свою правоту? Мог ли быть в чем-то прав такой человек, как он? Вдруг я понял, что не читал ни одну из его книг: они ни разу не привлекли моего внимания, и мне никогда не предлагал их издатель. Я решил взяться за это немедленно.
Вскоре я спустился на первый этаж. Пако и его гости собирались на прогулку. Я воспользовался этим моментом, чтобы убрать посуду со стола и проскользнуть в кабинет издателя. Я искал на полках до тех пор, пока не наткнулся на книги Умберто Арденио Росалеса. Наугад взяв одну из них, я отнес ее в свою спальню. В это время в гостиной Пако советовал всем переобуться и раздавал трости. Антону он вручил палку, вырезанную им самим из бука – она была столь причудливой, как у Дали, формы, что опираться на нее было довольно опасно. Долорес предназначалась трость из слоновой кости с трубкой в рукоятке, глядя в которую можно было наслаждаться видом парижского кафе. Умберто досталась трость в виде тонкой витой колонны с головой борзой собаки на рукоятке. Фабио получил трость с африканской аллегорией охоты, изображавшей негров вперемежку с улыбающимся зверьем. Исабель досталась изящная тросточка из черного дерева с серебряным шаром на рукоятке. Со свойственным ей изяществом Исабель взяла трость как церемониальный жезл. Наконец, Полин Пако дал палку из тростника и шепнул ей на ухо, что внутри спрятан стилет. Это было действительно так. Полин слегка потянула за рукоятку, и стальной клинок зазвенел в ее пальцах. Она тотчас вложила его обратно в ножны с тем страхом, который вызывает у некоторых людей оружие. Для себя Пако оставил военную реликвию. Это была грубообработанная палка со следами ударов и с четырьмя спаянными ружейными пулями в качестве набалдашника. По словам Пако, эта палка участвовала в кампании при Эбро в руках бравого офицера-фалангиста. Это была любимая палка издателя, и он обычно брал ее с собой, когда спускался в город.
Снарядившись должным образом, мы прошли через калитку и отправились по направлению к лесу. Полин, перед выходом попросившая меня принести ей шляпу, не преминула шепнуть мне украдкой:
– Это твоя шляпа. Я ее отличаю, потому что она чуть-чуть порвана вот здесь.
Сбоку на полях шляпы кромка немного распускалась, и из нее выбивались соломенные волокна. По-видимому, шляпу надорвал я сам, когда отрывал зубами этикетку с ценой. Это была моя шляпа, это действительно была она!
Пако шел впереди. С каждым шагом он с силой погружал свою палку во влажную землю. Дорога, превратившаяся почти в тропинку, вела в дубовую рощу. Кроны деревьев были так неподвижны, что, казалось, таили в себе молчаливую угрозу. Пако остановился возле лужи и попросил, чтобы все собрались рядом. В грязи были видны беспорядочные, смешавшиеся следы, как будто там устраивала пляски компания чертей. Пако указал на эти следы концом своей палки и сообщил нам, что сюда приходят пить кабаны.
– Кабаны? – повторила Долорес, с опаской озираясь вокруг.
Долорес чувствовала такую неловкость в сельской местности, какую испытывал бы, хотя и по совершенно иным причинам, свинарь Филиппа II в Тронном зале монастыря Эскориал. Писательница надела старые сапоги Пако, на несколько размеров больше своей ноги, из-за чего ей пришлось натянуть три пары носков. В этих сапогах, шелковом облегающем платье красного цвета и с тростью из слоновой кости в руке, она представляла собой довольно нелепое зрелище. Никто, и даже Долорес, не мог быть совершенным всегда. Пако ехидно взглянул на нее, но удержался от комментария. Он повернулся к Исабель и предложил, чтобы она, воспользовавшись прогулкой, рассказала нам свою историю.
– Хорошо, – сказала она, зашагав по тропинке. Исабель по-прежнему держала свою трость посередине – за всю дорогу она еще ни разу не коснулась ею земли. – Я задумала написать любопытную историю – историю об Эберардо Химено. Надеюсь, никто не воспримет это на свой счет. Я не стала обижаться, прочитав «Влюбленного дьявола», хотя он и показался мне наглым и жестоким плагиатом моей личной жизни. Так что не перебивайте меня. Итак, Эберардо был тучным и очень энергичным человеком. Его имя означало «вепрь», «сильный вепрь». Впрочем, оно ему прекрасно подходило. Он был такой решительный и огромный, что ходил всегда посередине тротуара, как будто никого в мире больше не существовало. Он всегда шел напролом и хотел стать писателем.
– Ну и ну, – обронил Умберто за моей спиной. – Трепещите, друзья.
– Никто его не публиковал. Первые его произведения не вызвали интереса у издателей, да и сам он им не нравился. Он был очень вспыльчив и легко взрывался. Его появление было подобно потопу, случившемуся в доме из-за того, что вы забыли завернуть краны. Он казался настоящим стихийным бедствием. Он всегда был рассержен и презрителен. В литературном цирке, которому он не принадлежал, но куда стремился с коварным постоянством, он считался неплохим прозаиком, погубленным невероятным отсутствием естественности. Нельзя быть таким неистовым в своих желаниях – таков был приговор тех, кто видел, как он ожесточенно борется с несуществующим (как казалось всем) врагом. Но именно это было причиной того, что ему все-таки удалось обосноваться в этом литературном мирке.
Мы все шли рядом с Исабель. Было заметно, что Пако очень доволен. Шагать по грязи и слушать рассказ было для него величайшим наслаждением. Ему недоставало лишь рюмки арманьяка.
– Эберардо все делал с остервенением. В один прекрасный день, устав бороться против всего и всех, он принял окончательное решение бросить писать. Он решил, что нет ни сюжета, ни стиля, ни мастерства, способных удивить его. К тому же уже давно он не встречал ни одной книги, которая бы ему понравилась. Книги, написанной другим, разумеется. Все было ни к черту негодно. Как он говорил, в этом не было правды, а один только соблазн. Даже Сервантес казался ему шарлатаном. Кто же тогда другие писатели? Сборище неудачников, самых обыкновенных мошенников. Однако это презрение было порождено его постоянными провалами. В его душе по-прежнему таился ураган. Внутри его жил настоящий вепрь. Во сне он часто издавал возмущенное рычание. Так вот, он решил перестать писать и послать все к черту. И в тот же самый день ему позвонил главный редактор из одного издательства. Эберардо помчался к нему. В первый раз в жизни, для того чтобы войти в такой кабинет, ему не пришлось брать дверь приступом. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то здесь было неладно. Вернее, все складывалось как-то подозрительно хорошо. Издатель встретил его своей профессиональной улыбкой, той заинтересованной улыбкой, которой одаряла Эберардо только торговка из магазина на углу. Он имел в этой лавке постоянно обновляемый, неисчерпаемый кредит. Но какое значение могли иметь деньги для такого человека, как он? Эберардо был важен только его роман. Он собирался назвать его «Выбрасывание из окна» или как-нибудь в этом роде. Эберардо чувствовал себя очень неловко в том кабинете. Он сидел в кресле как на иголках, а издатель по-прежнему смотрел на него с той же улыбкой… В этом мирке мы все таковы. Издатель должен заинтересованно смотреть на своих авторов. Иначе это будет воспринято как оскорбление. Писатель – это не человек, а гениальное произведение. Вам ли меня не понимать? На Эберардо никогда так не смотрели. Почему это вдруг делал тот издатель? Дело в том, что он был большой хитрец. Разумеется, его прототип – Пако.
Пако хрипло хохотнул, не разжимая губ. «Большой хитрец…» – это было ему по душе. Он на секунду остановился. Иногда люди до невозможности бывают верны своим привычкам. Под выцветшим свитером, в кармане рубашки, у Пако была припасена фляга. Он осторожно открыл ее и отпил глоток.
– Еще очень рано, – сказал он, – ну и черт с ним. Кто-нибудь хочет арманьяк?
Изъявил желание только Антон. Дубовая роща осталась позади. С этого места тропинка становилась извилистой. Она проходила между скал и сосен с кривыми стволами. Жесткие и колючие ветви можжевельника и ежевики загораживали дорогу. Склон становился все более крутым. Долорес посмотрела вверх с огромным неудовольствием. Со своей палкой она походила на одну из тех дам-исследовательниц, путешествовавших по Танзании в платье-жоржет и шляпе с вуалью. Только она никогда бы не отправилась в Танзанию по доброй воле. Несомненно, в представлении Долорес Африка была бескрайним пустырем, полным рытвин и булыжников. Я вспомнил о Марлен Дитрих, говорившей, что никогда не падает в обморок, потому что не может быть уверена, что сделает это элегантно. По-видимому, Долорес это вовсе не казалось странностью, а вполне естественной манерой поведения.
– Но чего же хотел этот хитрец-издатель? – продолжала Исабель. – Чего он хотел от Эберардо? Его душу? Но для того чтобы завладеть душой, нужно действовать постепенно. Поэтому он заказал ему биографию Наполеона. Эберардо, конечно же, пришел в смятение. Все его мысли были только о «Выбрасывании из окна». А разве не существует биографий Наполеона? Разве их не достаточно? Но издатель не собирался публиковать никому не интересную книгу, он не собирался публиковать Эберардо, чтобы потопить его. Он выбрал Наполеона, но с тем же успехом он мог бы остановиться и на Александре Великом или Карле III. Какая, в сущности, разница? Каждый из них подошел бы для серии «Великие деятели человечества». Так вот. Но несмотря ни на что, чудо должно было случиться. Таков уж был Эберардо. Он подумал, что можно сделать что-нибудь с жизнью Наполеона. Литература превратилась в тромб в его воспаленном мозгу. Потоп надвигался: все краны были открыты. Эберардо принял заказ. С этого дня он взялся за сбор документов, но его фантазия играла намного более значительную роль, фотографии французских дворцов были лишь открытками по сравнению с теми императорскими залами, которые рисовались его воображению. Русские города казались ему банальной топонимией. Намного более живописны были усеянные трупами заснеженные поля, представавшие перед его мысленным взором, как только он закрывал глаза. Чем больше книг он читал, тем более необузданным становилось его воображение. Эберардо пришел к убеждению, что исторические книги были не чем иным, как плохо написанными романами. Это и было первое из его многочисленных недоразумений. Он не описывал перипетии жизни Наполеона, а оживлял их внутри себя самого. Он стал думать от имени императора. Наполеон был уже не человеком и даже не легендой, а сублимированным, сложным и незабываемым персонажем лучшего романа всех времен.
– Мне нужна эта биография, – сказал Пако. – Я ее опубликую завтра же, даже если Исабель раскритикует ее в своей газете.
– Не дурачься, – ответила Исабель. – Дай мне закончить.
Мы шли гуськом. Полин поднималась передо мной, и я видел, как округлялись ее бедра при каждом шаге. Я с огромным удовольствием положил бы на них свои руки и, закрыв глаза, шел бы в такт ее шагам.
– Издатель увидел, что Эберардо обезумел даже больше, чем ожидалось. Это было испытание, и все складывалось отлично. Когда Эберардо вручили только что напечатанную книгу, он, сидя в кресле крошечного кабинета, почувствовал огромное восхищение самим собой. Он сказал издателю, что с этого дня Наполеон будет его Наполеоном. А тот, лицемер, лишь похлопал его по спине. «Выбрасывание из окна»? Ладно-ладно, всему свое время. Но теперь ему была крайне необходима вступительная статья о Стивенсоне, так как он собирался издавать полное собрание его сочинений. Пишущая машинка опять застучала, а вепрь рычал от негодования. Эберардо благодаря своему безграничному упорству не только сочинил несколько страниц головокружительной хвалы, но и писал страстные статьи, читал лекции и организовывал встречи, для того чтобы отстоять почетное место, которого заслуживал его обожаемый Туситала. В конце концов, он был не только его учителем, но и собратом. Стивенсон пережил новый период славы – хоть и не слишком громкой, но принесшей неплохой доход. Воодушевленный успехом, издатель решил провернуть еще одно дело. Он попросил своего мага, чтобы тот открыл одного американского писателя, автора детективов. Эберардо должен был выступить против обрушившейся на писателя несправедливости со стороны критики и читателей. Издатель умолчал о том, что это был, мягко говоря, посредственный писатель и что у него на складе хранились тонны его непроданных книг. «Ну что ж, – подумал Эберардо, – непонятый писатель?» Для него это было все равно, что говорить о себе самом. И он пустил в бой тяжелую артиллерию. Всего за несколько недель он превратил эту посредственность в образец трагической судьбы человека, служившего великой литературе и умершего в неизвестности от цирроза печени по вине мерзких читателей, живущих в этом мерзком мире. Он создал миф о страдальческой жизни этого писателя. В результате на складе издателя стало гораздо просторнее. С этого времени он стал заказывать Эберардо все, что усугубляло бы его странное помешательство. Эберардо сочинял вступительные статьи, организовывал кампании в прессе, не давал прохода журналистам из отдела культуры, с маниакальной одержимостью сотрудничал во всех литературных приложениях и журналах, которые не знали, как от него отделаться. Даже самые бездарные произведения превращались под его пером в литературные шедевры. Его вмешательство облагораживало их. Писатели, не получившие признания в своей собственной стране, приобрели известность в этих краях. Некоторые начинающие писатели были вознесены на такие высоты, о которых даже не могли и мечтать. Эберардо находил смысл в самых заурядных произведениях, и, охваченный священным гневом при виде равнодушия читателей, взывал к небу, прося защиты для вверенной его попечению книги, и громогласно требовал справедливости. Шли месяцы. Издатель приобрел известность своей способностью обеспечивать успех произведений, в действительности заслуживавших жалости. Он заработал большие деньги, эксплуатируя чужую страсть. А что же стало с книгой «Выбрасывание из окна»?
– Она по-прежнему никого не могла заинтересовать, – неожиданно ответил Умберто Арденио Росалес. – Эберардо умел только разжигать интерес, но сам не был способен создать ничего интересного.
– Именно так. Однажды они сидели в баре и выпили лишнего. После этого Эберардо стал очень назойливо приставать к издателю со своим романом. Очень назойливо. Издатель – in vino Veritas [1]1
Истина в вине (лат.).
[Закрыть]– похлопал его по спине. Он всегда так делал – как будто хотел немного успокоить Эберардо. Так вот, издатель похлопал его по спине и сказал, что романы имеют довольно относительную ценность. Они, подобно женщинам, приобретают значимость только тогда, когда такой энтузиаст, как Эберардо, теряет из-за них голову. Именно это необходимо всем романам и всем женщинам – чтобы кто-нибудь смотрел на них с восхищением, не видя их недостатков. «Выбрасывание из окна» было так же несовершенно, как и любая женщина, но это вовсе не означало, что это плохая книга. Когда-нибудь найдется издатель, способный увлечься этим романом. Но этим издателем не мог стать он сам – из-за соединявшей их дружбы и его принципа никогда не публиковать произведений своих ближайших сотрудников. Таков был уклончивый ответ хитрого издателя, после чего он снова похлопал Эберардо по спине. Сначала тот замигал глазами, как взбешенный вепрь, но лотом, выпив еще глоток, самодовольно захохотал.
Вокруг нас уже не было ни сосен, ни кустов, ни скал. Мы поднимались по неровному лугу: одни его участки были покрыты зеленой травой, а на других земля оставалась голой и сухой, несмотря на дожди. Здесь, в горах, вода долго не задерживалась, так же как в воздухе. Полин запрыгала от радости, увидев вершину. Антон пыхтел. Исабель, по-прежнему державшая трость за середину, казалась дряхлой участницей парада, возвращающейся домой.
– О чем думал тогда Эберардо, сидя за стойкой? – спросила Исабель, повернувшись к нам. – Почему он так рассмеялся? Все очень просто. Он подумал об Ампаро, своей бывшей жене. Понадобилось много времени, после того как она его оставила, чтобы Эберардо понял: она была всего лишь ворчливой толстухой, думавшей только об игре в бинго. Издатель был прав. То же самое и с книгами. По большому счету, они значили очень немного, совсем немного. А еще меньше значат писатели – ничтожные, одержимые пьяницы. Сборище гордецов, тщеславных графоманов или, что еще хуже, жалких отцов семейств. В действительности все, имеющее отношение к литературе, – просто хлам. Хорошо еще, что существовал такой человек, как он, способный придать хоть немного ценности этому мусору – так же как с этой дурой Ампаро. Кто был Стивенсон – кто? Чахоточный сын конструктора маяков, больной, находившийся в разладе с собственной душой и для развлечения писавший рассказики про пиратов, – в общем, неудачник. Лучшее из Стивенсона было эссе, написанное о нем Эберардо. А ведь он написал его всего за полчаса спустя рукава. Что уж и говорить о современных писателях, сидящих сложа руки и ожидающих с нетерпением, чтобы Эберардо, прочитав их книги, растолковал, чем же они столь замечательны. Да пускай они все катятся к черту! И Ампарито вместе с ними! Столько возиться с этой литературой, чтобы в конце концов понять, что литература – это он сам. Опершись на барную стойку, Эберардо надрывался от смеха. Литература свела с ума еще одного своего служителя. Мы все похожи на Эберардо – вам не кажется? В конце концов мы становимся профессионалами, шарлатанами. И забываем, как некогда, давным-давно, трепетали от волнения, стоя на носу «Эспаньолы», держащей курс на неизвестный остров, и чувствуя на щеках и губах соленые брызги воды из бездонного океана. Точка. Так заканчивается рассказ.
Пока «Эспаньола» вновь бороздила океан, подчиняясь фантазии Исабель Тогорес, мы достигли вершины горы. Оттуда был виден особняк на небольшом холме, расположенном на гладком склоне. Вдалеке смутно виднелась река среди теплиц, где крестьяне выращивали землянику. Мой городок находился ниже по течению, за излучиной реки, исчезавшей за холмами. На этой высоте был слышен очень отдаленный шум – гоготанье птиц, металлический звон, отрывистое рычание мотора – как будто звуки сохранялись в невидимых пузырьках, медленно поднимавшихся вверх и лопавшихся там, где мы находились. Пако воткнул палку в землю и созерцал пейзаж, опершись обеими руками на набалдашник из пуль.
– Не знаю, – сказала Полин, схватившись за поля шляпы, как будто дул сильный ветер, хотя воздух был неподвижен. – Мне жаль этого Эберардо. Он вызывает во мне жалость – со всей его энергией, которую он не знает, к чему приложить. Но он мне неинтересен. Это очень странно. Обычно меня все интересует.
– Мне бы хотелось жить так, как ты – витая в облаках, – ответила ей Долорес таким суровым голосом, что все мы замерли, не зная, что сказать.
В действительности меня тоже не заинтересовал Эберардо. Я подумал, что Пако и все остальные его гости знали, на что намекала Исабель своим рассказом. Но я был согласен с Полин. Это было мне неинтересно. Неизвестно почему, мне вдруг вспомнилось утро, когда издатель вошел в магазин моей матери. Пако имел здесь кредит, так же как и Эберардо в лавке на углу. Однако издатель всегда погашал свои счета, и кредит возобновлялся – постоянный и все время меняющийся, как те книги, которые я получал от Пако в подарок и где обнаруживал истории, рассказываемые им в казино. Благодаря Пако я воспринимал литературу не как страдание или борьбу с миром и уж вовсе не как шарлатанство, а как приятную прогулку. Я вспомнил то утро, когда издатель вошел в магазин в своем берете, держа в руке палку с набалдашником из пуль. Я боялся, что она упадет на пол и пули разлетятся в разные стороны, как салют. Моя мать резала ломтиками ветчину. Она подавала издателю еду и вздыхала, вспоминая прошлое. Ее мучила мысль, что в своей жизни она совершила какую-то непростительную ошибку. В то утро в магазине Пако положил мне руку на плечо. «Если когда-нибудь ты станешь писателем, – сказал он мне, – помни, что ты сам не представляешь никакого интереса. Никогда не говори о себе самом. Твоя мать, например, намного интереснее тебя. А ты – ничто. Всего лишь голос, который видит, – и ничего больше. Помни это». В тот момент я подумал, как всегда, что никогда не стану писателем. Я продолжал так думать и через некоторое время, стоя на той горе и восхищенно глядя на Полин; я так считаю и сейчас, когда пишу эти строки. Быть писателем означает зарабатывать этим на жизнь, что само по себе не может не сказываться отрицательно.
Пако по-прежнему стоял, глядя на долину. Его голос вывел меня из состояния задумчивости. Еще более хрипло, чем обычно, он сказал, не глядя на нас, как будто был один и мог позволить себе удовольствие говорить, ни к кому не обращаясь:
– Почему, когда я стою на вершине горы, у меня возникает неприятное чувство, будто кто-то издалека просит меня о помощи? Неужели правда, что крики о помощи навсегда остаются в воздухе?
Рыбный сукет достаточно быстр в приготовлении. Гораздо дольше готовится картофель, но тот, что выращивал в огороде Фарук, варился довольно быстро. Это был французский сорт, не распространенный в наших краях, несмотря на то что граница проходит совсем рядом. Этот картофель не был ни слишком жестким, ни мучнистым и не рассыпался при варке; кроме этого, он обладал необыкновенным горьковато-сладким ароматом, возбуждавшим аппетит. Это был отменный и вкуснейший сорт, и Пако часто мог ужинать блюдом из одного картофеля. Он готовил его в камине, положив внутрь каждой картофелины кусочек сливочного масла, чтобы они им пропитались.
Как я и предполагал, Лурдес хранила железный котелок в кладовке. Я поставил готовиться соус, добавив в него сладкий перец и несколько горошин черного перца, и стал резать картошку. Кроме Антона Аррьяги, прямиком направившегося к мини-бару, все гости уселись отдохнуть, едва вернувшись с прогулки. Долорес, избавившись наконец от сапог и трех пар носков, разглядывала свои ноги в полном отчаянии. «И что хорошего в этих горах? – сказала она уныло. – Они – все равно, что огромные кучи щебня, небоскребы, осевшие вниз и скрывшие под землей лифты. Честное слово, не понимаю, какое можно находить удовольствие в том, чтобы карабкаться по этим горам?»
Антон пришел на кухню за льдом для виски. Накладывая ему лед, я услышал голос Пако, предлагавшего приготовить на всех сухой мартини.
Я вспомнил одно утро. Некоторое время назад, когда я привез в особняк заказанные товары, Лурдес, бывшая в хорошем настроении, поведала мне секрет своей долгой службы в доме издателя. «Единственная хитрость, – сказала она мне, – не допустить того, чтобы он что-нибудь делал сам. Если тебе удастся добиться того, чтобы ему не пришлось пошевелить и пальцем, тогда можно работать спокойно». Услышав, как он своим оглушительным голосом предлагал гостям сухой мартини, я понял, что у меня будут неприятности. И действительно – вскоре Пако пришел ко мне, охваченный внезапным приступом раздражения: все необходимое для коктейля вдруг неизвестно куда подевалось. Я долил в соус рыбный бульон, положил нарезанную кружочками картошку и взялся помогать Пако. Я нашел шейкер, бутылку «Бомбея» и бокалы. Лурдес была права. Издатель был не в состоянии справляться с домашними делами без помощи кого-нибудь, кто решал бы возникающие трудности и указывал ему точное предназначение используемых предметов. Его представление о назначении вещей можно было бы с достаточной снисходительностью определить как приблизительное. Оставшись один, он вполне мог дойти до того, чтобы взбивать коктейль пестиком и процеживать его через дуршлаг для спагетти. Наблюдать все это было гораздо утомительнее, чем самому приготовить ингредиенты. Поэтому я поставил все необходимое на мини-бар, втайне надеясь, что случится чудо и Пако откажется от своего намерения. Он взял бутылку с джином. После долгих усилий ему наконец удалось вытащить пробку зубами. Затем он посмотрел, нахмурившись, на стакан для смешивания, по-видимому, спрашивая себя, почему он не наполнен льдом. Я хотел взять лопатку для льда, чтобы помочь ему, но он, нетерпеливо взглянув, остановил меня: