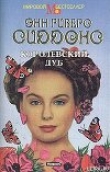Текст книги "Пёсья матерь"
Автор книги: Павлос Матесис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Деньги мы тогда находили и на улице, но только мелочь, какие-то жалкие пятидесятитысячные. Мой учитель, господин Павлопулос, жил вниз по лестнице от церкви, и, хотя я больше не ходила в школу, он все равно здоровался со мной и пятнадцатого числа каждого месяца, в день выдачи зарплаты, брал меня с собой. Зарплату он получал бумажками, в двух наполовину набитых мешочках, и один нес он, а другой – я. Он был низенький и, пожалуй, красивый мужчина, думаю, он был моей первой любовью, но я тогда этого не осознавала. Где он теперь? Он всегда давал мне одну-две миллионные бумажки. А те деньги, что мы находили на улицах, в воскресенье бросали на поднос, когда ходили с Фанисом в церковь. Хотя не думаю, что отец Динос заругался бы, если бы мы не сделали пожертвований храму. Каждое воскресенье мы причащались, чтобы в конце литургии взять антидор1616
Антидор – в Православной церкви раздаваемые верующим в конце литургии части просфоры.
[Закрыть]. Отец Динос нарезал их большими кусками, прекрасно зная, что большинство людей только за этим и ходит на службу. Нам он давал на два кусочка больше. Это вашим родителям, говорил он. Когда прихожане не давали денег, он бранил их, ну, конечно, как антидор жрать – это вы умеете, а храму подавать – и руки не протянете! И он знал, к кому именно обращаться: к жене какого-нибудь спекулянта или деревенским, что недавно купили дома в Бастионе. Они бежали из своих деревень, потому что их прогнали партизаны, и купили дом с садом за два бурдюка масла и два воза зерна.
Иногда мы ходили и в храм Святого Афанасия, священник там был человек святой и кроткий. Он сделал нам знак подождать и принес целый ломоть от просфоры. Но в тот храм мы ходили нечасто, потому что сын священника Аввакум, когда проходил мимо меня во время службы с курильницей и в рясе, нашептывал мне, что хочет со мной сделать всякие богохульные вещи, и просил ему отдаться. Этого в принципе от меня хотят все мужчины, но тогда-то я была слишком мала, чтобы что-то в таких делах понимать. Всю жизнь они от меня хотят именно этого, хотя, конечно, я сама их провоцирую: такая аппетитненькая – ну как не поддаться искушению!
Наша мать никогда не ходила на службу, с тех пор как закрутилась эта история с Альфио, да и после: она знала, что ее появление возмутило бы прихожан. Лишь однажды она пошла в церковь, на вечерний молебен, и тогда какая-то женщина крикнула ей: предатели, вон из храма! Но отец Динос оборвал ее, прервал молебен и сказал: милочка, это не вам судить, в храме для всех есть место. Но моя мать больше никогда туда не ходила. И здесь, в Афинах, была только один раз – в прикладбищенской церкви, да и то лежа в гробу. Чувство собственного достоинства я унаследовала от нее. Однажды в турне где-то севернее Фессалии кто-то из толпы прямо во время спектакля крикнул во все горло: сколько за ночь? Один раз, второй, и тут я прервала представление, подошла к нему и говорю: послушайте, господин хороший, по какому такому праву вы ругаетесь? А он мне в ответ: я за это плачу, дорогуша. Ты же артистка? А значит – проститутка. Послушайте, – говорю ему, – мистер! Мы, может быть, даже и шлюхи, но не проб..духи! Так что не мешайте работать! Все так и повалились со смеху, но антрепренер потом мне высказал: Рарау, у тебя дырка вместо мозгов!
Немногим позднее, когда синьор Витторио занял место синьора Альфио, умерла бедняжка Афродита. Она долго сражалась со смертью. Два месяца мы ждали с часу на час… Моя мать и тетушка Канелло каждую ночь по очереди ночевали у них дома, чтобы матери больной не встречать смерть одной-одинешеньке. Это была первая смерть в их доме. Ее мать не спала всю ночь, вязала кружево для приданого своей Афродиты (после оккупации она продала его) и то и дело надевала очки и проверяла спящую, дышит ли. А потом снова бралась за работу. Моя мать сидела рядом и клевала носом, я дремала, забравшись ногами под покрывало Афродиты. Умница, ты греешь ей ноги, говорила ее мать, но Афродита уже не различала ни тепла, ни холода. И я сказала матери: мама, если она умрет, пока я буду спать, разбудите меня. Чтобы я не заразилась. Я думала, что смерть заразна.
Наш Фанис ходил к ним домой лишь однажды, по одному поручению, и Афродита прогнала его: не заходи, я больна. Тогда чахотку называли болезнью, очень модной болезнью. Про нее и в романах писали. Если какую-нибудь молодую героиню покидал возлюбленный, то она, как правило, тут же заболевала чахоткой.
Мне уже доводилось видеть покойников. До войны это было делом привычным. В Бастионе кто бы ни отправлялся на операцию с аппендицитом, из больницы, как правило, возвращался уже вперед ногами. И люди из богатых семей тоже, даже сын банкира умер от операции, ему было всего семнадцать лет.
Впервые я увидела покойника, когда мне было семь, и это не произвело на меня никакого впечатления. Он был похож на всех остальных людей. Хоронили обычно в открытом гробу, рядом с гробом стоял носильщик и держал крышку, позади шел священник, он пел и между делом по пути здоровался с проходящим мимо знакомым. За священником шли облаченные в траур родственники, вслед за ними несли хоругви (один служка то и дело слегка нарочно ударял хоругвь другого), а уж следом весь остальной народ. Похоронная процессия проходила по главной улице Бастиона, на этом настаивали почти все родственники умершего: кроме того, что так полагалось, им хотелось, чтобы покойный простился с улицей, по которой прогуливался каждое воскресенье. Когда проходила процессия, лавочники в знак уважения на минуту закрывали двери магазинов, крестились, а потом снова начинали торговать. Прохожие снимали шляпы и, склонившись, ждали, пока пронесут гроб и пройдет священник в ризе.
Потому-то меня никак и не поразила смерть Афродиты. Лишь бы меня не заразила! С трех лет я слышала об умерших, что те встают ночью и вечно чего-то требуют от живых. Так пишут в сказках, говорила мне крестная, не верь этому, дитя мое, покойники – добрые.
Позднее, во время оккупации и партизанского движения, я видела мертвых и без гробов; однажды, когда нас освободили партизаны, еще до освобождения англичанами, я видела и убитого, который целых две недели висел на колокольне и уже весь вздулся. Видела я и эвзонов1717
Эвзоны – элитное подразделение пехоты греческой армии.
[Закрыть] и коллаборационистов из Батальонов безопасности1818
Батальоны безопасности – военизированные группы греческих коллаборационистов, поддерживающие германо-итало-болгарские оккупационные силы. Батальоны безопасности действовали на территории Греции во время Второй мировой войны. Были созданы 18 июня 1943 г. по решению правительства Иоанниса Раллиса для сохранения законного порядка и борьбы против Греческого Сопротивления.
[Закрыть], связанных у стены с кишками наружу и спущенными штанами. Сейчас, конечно, когда мне уже минуло шестьдесят (хотя на шестьдесят я не выгляжу, все дают мне сорок, а один тип, представь себе, однажды даже надел презерватив, совсем сумасшедший, чтобы не заделать мне ребенка! Совсем сбрендил!), сейчас, когда я вижу мертвого, меня всю передергивает, – в общем-то, так и должно быть. Конечно, одно дело девчушка-провинциалочка и совсем другое – дама из Афин, еще и артистка, много повидавшая на своем веку!
Афродиту мертвой я не видела, потому что вечером, когда она умирала, я играла на улице. Меня увидела тетушка Канелло и послала за молоком для нашего стремительно подрастающего Фаниса.
Как только я воротилась, Афродита уже угасла. Потух ее фитилек, сказала мне мать, пойдем простишься с ней. Я еле-еле поднялась к ним по лестнице, дверь была открыта настежь, будто в доме справляли именины. Какие-то два итальянца тогда и вовсе приняли дом за бордель и поднялись аж до самой входной двери. Я заглянула в комнату девочки, мне было видно только ее ноги, тетушка Канелло растирала их, чтобы согреть, а мать Афродиты вязала кружево. Но в этот самый момент меня снизу позвал наш Фанис: партизан волокут, айда туда! И мы побежали на площадь, но напрасно. Когда привозили убитых повстанцев, их в назидание бросали на площади. Но сейчас привезли живых, их держали в карцере, который организовали в специально снятом жилом доме.
Привезли и женщин. Все повстанцы были субтильные, тощие. Много страданий выпало на их долю. Тогда впервые в жизни я увидела женщин в шинелях, в них они были похожи на простых деревенских баб. Итальянцы не стали нас прогонять, и мы спокойно глазели себе на партизан. Затем приехал фургон с фрицами, и нас вытурили с площади. Виа, виа! – кричали нам. И мы ушли. Вот так я впервые увидела живых партизан. В карцере их держали на кухне. Туда набилось, наверное, добрых человек двадцать, – как они там поместились, ума не приложу. Это интересовало меня больше всего, ну, и шинели, в которые были одеты женщины. Я бы ни в жизнь не надела шинель, даже если бы задубела от холода, даже если бы так надо было сделать не ради одной, а ради десяти родин. Я уже с тех пор была кокеткой, хотя и не подозревала об этом. Потому-то мужчины и не давали мне всю жизнь прохода, а некоторые не дают и до сих пор.
Все же как в мужчинах, в партизанах я очень разочаровалась. Все женщины тайком шептались о них, и я навоображала их себе похожими на капитана Бессмертие1919
Капитан Бессмертие – герой греческого разбойничьего романа, по образу напоминающий известного Робин Гуда.
[Закрыть] из разбойничьих романов, что нам читала мадемуазель Саломея: силачи под три метра, здоровенные, с победоносной улыбкой на губах, ну вылитые американские киноактеры из фильмов о войне, об освобождении иностранных государств, которые крутили в послевоенное время. Мадемуазель Саломея боготворила партизан; конечно, скажешь ты, она же из семьи левых. Мы собирались в доме семьи Тиритомба, это до того, как они уехали в турне, и шутками притупляли чувство голода. Мать Афродиты приносила свое кружево, моя – одежду для починки, а тетушка Канелло – какие-нибудь оладьи из нута для угощения. И все обсуждали, что сказал по радио мистер Черчилль. Тетушка Андриана Тиритомба вязала фуфайку из распущенной шерстяной одежды. Они вязали тогда фуфайку партизана, это была идея тетушки Канелло, как во время албанской оккупации вязали фуфайку воина.
Мадемуазель Саломея вязала кальсоны. И вот однажды она развернула их, чтобы измерить: смотрим, а у нее там нечто два метра длиной, а посередке настоящий мешок с голову ребенка! Совсем рехнулась, – воскликнула тетушка Канелло, – сюда трое человек поместятся! Ты так наушничаешь, потому что ты монархистка, – бросила ей в ответ Саломея, – и хочешь смешать с грязью партизанское движение. Да эти ваши повстанцы – зверюги, вы их за кого считаете? – вмешалась тетушка Андриана, тыча пальцем в мешок, вихляющийся между штанин. Голодный, как говорится, о хлебе мечтает. И из-за этого они тогда разругались в клочья. Я же с тех пор стала считать, что партизаны были выше ростом, чем обычные люди, и поэтому так разочаровалась в тот вечер, когда впервые увидела их живьем на кухне карцера.
Как только мы ушли из карцера, меня начало клонить в сон, и я пошла домой и потому не видела, как умерла Афродита. Тогда еще пришел синьор Витторио, но я сказала ему, что матери дома нет, и он ушел восвояси. Потом я помыла посуду и подмела пол (тогда снова начали проклевываться ростки). А в уголке с птичкой земля будто бы начала проваливаться. Словно пичужка все глубже и глубже уходила в ее недра.
Я была только на похоронах, да и то не очень долго, рядом были поминки, и мы с Фанисом со всех ног бросились туда есть коливо.
Но мы все вместе были на вылазке примерно за месяц до смерти Афродиты.
Примерно за месяц до смерти Афродита сказала матери: возьми меня с собой на вылазку. Увидеть море.
От Бастиона до порта было одиннадцать километров езды на поезде, огромное расстояние для того времени, ни в какое сравнение с сегодняшними Афинами и их троллейбусами. Я уже видела море: до войны в начальной школе мы каждый день ездили в наш порт. А Афродита – не видела никогда, до войны она только все собиралась поехать, но всякий раз с ней что-то случалось. А во время оккупации какое уж там море. Немцы реквизировали у нас портовый поезд, и им разрешалось пользоваться только спекулянтам черного рынка. Так что Афродита лишь любовалась морем с горки, чуть подальше за церковью, куда мы водили на выгул нашу покойную птичку. И вот за месяц до смерти она сказала: мама, отвези меня к морю.
Ее мать, тетушка Фани, уже давно заперла ставни на засов. Якобы чтобы не впускать холод. Но в глубине души она готовила дом к трауру. Нужно сообщить отцу ребенка, – велела она мне передать тетушке Канелло. Только тогда я узнала, что отец Афродиты ушел в партизанское движение, но они это скрывали. Тетушка Канелло заставила меня поклясться на иконах, что я не скажу об этом своей матери, из-за синьора Витторио, конечно же. Она также рассказала, что тетушка Фани никогда не ладила с мужем и что брак у них был несчастливый. А матери больной велела передать: Фани, одумайся, если твой муж что-нибудь узнает и вернется, его тут же схватят, он же в списках.
Однажды тетушка Канелло взяла официальный выходной, оставила изумленных детей и мужа и отправилась к своей больной матери. (Эта старая вошь в свои девяносто шесть заигрывала со всеми вплоть до собственных внуков. До последнего вздоха тетка Марика вела себя как истинная кокетка. Да и что уж греха таить, признаю, она была красавица, хоть и обругала меня в тот раз, когда я пришла к ней в дом с Альфио. Пусть земля ей будет пухом.)
Тетушка Фани заперла на засов и входную дверь, потому что голод тогда сделался совсем невыносимым. А она была женщиной семейной и не выходила ни просить милостыню, ни за пайками. Кроме того, у ее девочки обострилась чахотка. Это длилось почти целый месяц, и я даже забыла об их существовании: дом закрыт и ни звука. Только по ночам я слышала какой-то голос, скорее напоминающий волчий вой. Это тетушка Фани выла во сне от голода. Вместо того чтобы видеть сны про еду, дабы притупить чувство голода, она выла. Это мне рассказала уже после войны тетушка Канелло. Я услышала вой (понимаешь, если ты недоедаешь, то и спишь не крепко) и спросила: мама, что это такое? А та ответила только: спи, должно быть, это шакал забрел в город или немцы кого-то пытают в комендатуре. (Об итальянцах она плохого не говорила.)
И вот одним апрельским утром тетушка Фани победоносно распахнула ставни и радостно крикнула: соседки, – а глаза все заплаканы, – пойдемте к морю. Все кругом пооткрывали балконы, но тетушка Фани в первую очередь пришла к нам на первый этаж. Моей бедняжке-матери тогда очень от этого сделалось приятно. Асимина, сказала ей мать Афродиты, совсем уж у моей дитятки не осталось крови, и уж не боится она боле вас заразить. Она хочет увидеть море.
И мы все вышли. Сколько нас? – спросила одна женщина. Мы насчитали одиннадцать человек, и меня тоже посчитали вместе со взрослыми женщинами. Пошел с нами и Фанис. Так как поезд был захвачен немцами, к порту (сейчас вспомнила, что его называли «Подветренный уголок») мы пошли пешком. Чтобы Афродита поприветствовала море и простилась с ним и сбылась ее довоенная мечта.
Входная дверь открылась, и соседки вчетвером спустили сидящую в кресле Афродиту, и мы двинулись в путь. Дверь мы не закрыли, оставили открытой, чтобы проветрить дом.
Афродита уменьшилась в росте. Грудь ушла, ноги стали короче, она снова стала совсем малышкой. Она была похожа на двенадцатилетнего мальчика, больного малярией. Ее тело, выросшее и расправившееся, будто бы что-то увидело, испугалось и снова захотело стать маленьким.
И мы все одиннадцать женщин понесли кресло с сидящей в нем девочкой: одиннадцать километров пути до «Подветренного уголка». Через каждые сто шагов мы менялись по четверкам, по дороге деревенские палили по нам дробью, – как бы мы не стащили у них свисающую из-за заборов неспелую алычу или виноградную лозу. Но Фанис исхитрился и украл кочан салата.
Я тоже несколько раз несла кресло с тремя другими женщинами. Думаю, в этот день, во время этого путешествия я удостоилась чести стать женщиной. Все другие были старше меня, но ни одна не сказала, что я еще ребенок или слишком хилая, ни одна не испугалась, как бы я вдруг не устала. Взрослые женщины не сделали мне ни одной поблажки. И вот так по пути к «Подветренному уголку» из ребенка я превратилась во взрослую, стала женщиной.
Мы постелили покрывало на песке. Афродита хотела сидеть прямо рядом с волнами. Мы поставили кресло, было прохладно и свежо, мы все дрожали. Волна обрызгала Афродиту, но ее кожа никак на это не отреагировала: ни одной мурашки не пробежало. Она была как бесхозная собственность, как багаж, который принесли погрузить на утренний корабль и так и забыли на берегу. Именно так я поняла, что Афродита умирает. Потому что она не дрожала. И даром, что попадали на нее брызги и соль морских волн. Афродита ни на что не обращала внимания и только улыбалась своей поблекшей улыбкой.
Мы расстелили подстилки, съели изюм и алычу, пожаренную с вареным суслом. Афродита совсем не хотела есть, она держала в кулаке два зернышка изюма. У нее уже месяц нет аппетита, сказала ее мать. Единственный плюс от постоянного вкуса крови во рту – она перестала чувствовать голод. Остальные поели, а Афродита все смотрела на море, сжимая два зернышка изюма. Она грелась на солнце, глядя на море и накрыв покрывалом ноги, что совсем стали похожи на детские. А после полудня внезапно крикнула: «Ура!» Один раз. И затихла.
По пути назад мы всё чаще менялись у кресла. Мы голодали уже много месяцев, и сил у нас было немного. Ни одна из нас даже не вспотела, потому что в теле не было ни одной лишней капельки пота.
И когда мы остановились в Иремеоне набрать съедобной травы-хорты, набежали облака, и небо у близлежащей горы стало ярко-красного цвета, а затем совсем стемнело. Фанис сидел рядом с Афродитой, он не умел отличать хорту от другой травы, что с него возьмешь, мужчина. Он все только радовался, услышал, что мы на вылазке, и твердил без умолку: это самый настоящий праздник! Он сел рядом с Афродитой и спросил о том, что не давало ему покоя: Афродита, почему ты сказала, что подхватила болезнь? Афродита, что такое болезнь? Он всегда был очень добрым и наивным. И тогда, кажется, Афродита смирилась с тем, что умирает, и ответила: болезнь, дорогой мой Фанис, – это маленькая осиротевшая и кровожадная девочка, которой всегда холодно. И как только она находит сговорчивого человека, пока он беззащитно спит, – вьет у него в груди гнездо, чтобы там согреться. Потом высасывает из человека все силы и больше уже не уходит.
Домой мы пришли уже к вечеру. А через пятнадцать дней Афродита умерла от обострения чахотки. На ее могилу поставили небольшой бумажный флажок – поклон от ее отца. Позднее, когда партизаны освободили Бастион, отец вернулся и поставил ей настоящий флаг, полотняный. Спустя год его арестовали, во время так называемых Декабрьских событий, и убили. А его жена, тетушка Фани, до сих пор в добром здравии, она сейчас тоже живет в Афинах.
Между нами говоря, я никогда не понимала всех этих геройств. Я все спрашиваю: что было бы если бы мы тогда позволили немцам пройти через наше отечество и, не мешая, позволили бы им сделать свое дело? Разве не было бы так лучше для нас? Разве не избежали бы мы оккупации и голода? И что, собственно, мы выиграли – и наши семьи и наш народ, когда мы отправлялись на фронт в Албанию и шили понапрасну все эти рубахи? Что-то я не слышала, чтобы над народами, не оказавшими немцам сопротивления, кто-то сейчас смеялся. Разве только нас надул этот треклятый Черчилль, будь прокляты его останки? Я неустанно вопрошаю: что мы получили с этим так называемым освобождением? Плевок в лицо – вот что! На деньги плана Маршалла мы просто заново отстроили «Бордель Мандилы» в Бастионе, центр игры на бузуки в Афинах, улицу Сингру и центр пения «Трезубец». Говорят, это было первое здание, которое построили в Греции на американские деньги Маршалла, во время правления Цалдариса2020
Константинос Цалдарис (1884–1970) – греческий политик, дважды премьер-министр Греции в период 1946–1947 гг. Имя Цалдариса связано с началом Гражданской войны в Греции (1946–1949) и восстановлением монархии (сентябрь 1946).
[Закрыть].
Я сказала это одному антрепренеру, и он выгнал меня прямо посреди турне. Он был гомиком, а вдобавок еще и патриотом, – можно подумать, я не патриотка. Конечно, будь я красивым мальчиком, бьюсь об заклад, он бы меня не вышвырнул на пути в Этолико: я не удержалась и высказала ему это, и он буквально взорвался от злости.
Спустя три дня после похорон Афродиты вернулась тетушка Канелло с ребенком на руках, он был совсем крошка (и сорока дней не исполнилось). Все так и ахнули, а отец Динос обругал ее на чем свет стоит. А та ему: не скабрезничай, лучше покрести мне ребенка, наречем его Аресом. Именем языческого бога – только через мой труп! – воскликнул он, весь дрожа от ярости, но, в конце концов, таки крестил ребенка Аресом в надлежащий срок и без пререканий. Мы думали, что тетушка Канелло навещала больную мать. Мать жива-здорова, не сглазь, дай ей дожить до освобождения, сказала Канелло. А ребенок – моей сестры. (А мать ее, тетка Марика, и впрямь дожила и до освобождения, и до конкурса красоты, и до диктатуры, живучая старушенция!)
И в самом деле ее сестра-партизанка была беременна и, в довершение ко всему, на последнем месяце. Муж спрятал ее в каком-то загоне, не тащить же ее на сносях с отрядом в горы и в набеги, к тому же в боях от нее никакого проку не было. И ко всему прочему, капитан, сказал ему кто-то из отряда, она пополнела, нас с ней на раз-два засекут!
Потому они и вызвали тетушку Канелло. Та вся укуталась, чтобы походить на беременную, миновала осаду и пришла к своей такой же полоумной сестре (ну просто два сапога пара!). На всякий случай муж оставил ей ружье и несколько гранат, случись что. Тетушка Канелло ловко перерезала сестре пуповину и, дабы отпраздновать рождение мальчика, бросила в седловину гранату. Все животные с перепугу разбежались кто куда, так что пришлось их снова загонять обратно в стойло. В загоне я высасывала молоко, как самый настоящий уж, сказала нам тетушка Канелло, потому что кормила ребенка. Пей, мой маленький партизан, приговаривала она, распахивала одежду и прижимала мальчика к соску. У тетушки Канелло всегда было молоко, и она постоянно сцеживала; думаю, это оттого, что она так много раз рожала. Как бы там ни было, малыша она кормила до самого освобождения. Сейчас он уже скоро выйдет на пенсию, красивый мужчина, моряк торгового флота. Но левый, черт его дери.
Женщины тогда, так повелось еще до войны, кормили ребенка на лестнице у двери. Доставали грудь прямо на улице, и ни одного супруга это не оскорбляло. Так делали, конечно, только женщины простого сословия. Однако во всех других делах нравственности им было не занимать. Но иногда доходило и до рукоприкладства: если какой-нибудь незнакомец засматривался на кормящую женщину, ее муж (коли был мужчинка хиленький) колотил что было сил свою женушку, а уж коли крепкого сложения – того, кто на его ненаглядную позарился. Хотя во время оккупации мужчины не глазели на кормящую мать, по крайней мере местные. Меня же с тринадцати лет пожирали глазами. Двое или трое даже пригласили в школу танцев. И думать забудь, я тебе ноги повыдираю, сказала тетушка Канелло, когда я спросила у нее совета (со своей матерью я такие щекотливые темы не обсуждала, потому что она считала себя предательницей и женщиной распутной из-за того, что к ней приходили итальянцы).
Школа танцев располагалась в здании бывшего дровяного склада. Аптекарь, господин Патрис, что снимал квартиру наверху, считал эту школу своим личным позором: он был женат на француженке, и ее не очень-то радушно принимали в хороших кругах Бастиона. Эта школа танцев была исключительно для мужчин. Матери из хороших семей отправляли туда своих сыновей обучаться светским манерам. Девочек учили танцам сами мамы или нанимали для этого домашнего учителя танцев. Господин Манолицис, как правило, учил танцевать танго, фокстрот, вальс, румбу и вальс-сомнение, а после освобождения начал преподавать еще и свинг. И этот очень гибкий женатый мужчина невысокого роста надевал высокие каблуки и сам же танцевал и за даму! Он всегда любезно приветствовал нас по пути в церковь. После десяти уроков продвинутые ученики танцевали друг с другом, а господин Манолицис принимал новичков. Когда курс заканчивался, ученики не покидали школу, но приходили каждый вечер в надежде потанцевать с настоящей дамой, а не со своим товарищем.
Впрочем, некоторые женщины туда все же ходили. И это навсегда марало их доброе имя, ну, или, по крайней мере, до свадьбы. Потому-то женщины и были там редким явлением. Поздно вечером приходили взрослые мужчины и танцевали между собой. Мужчины и юноши по очереди танцевали за даму, и так не было задето ничье мужское самолюбие. Говорят, что некоторые ученики средней школы там даже курили.
Об этом судачили взрослые женщины на наших посиделках у тетушки Канелло. Мы сидели кружком, это еще такая довоенная привычка – собираться вокруг мангала. Только сейчас мы сидели кружком, а посередине – пустота, где теперь сыщешь мангал. Приходила и мать Афродиты. Она всегда приносила свое вязание, это ее вечное кружево для свадебных нарядов. После освобождения у нее пошли и покупательницы, и все то, что связала во время оккупации для своей дочери, она продала втридорога. У нее купил кружево даже какой-то английский офицер.
Мы сидели вокруг несуществующего мангала, каждая с покрывалом на коленях, чтобы согреться. И чтобы не сверкать нашими прелестями, – шутила тетушка Канелло. Но подобных шуточек и других каламбуров она избегала, когда приходила моя мать. Канелло с рождения была этаким джентльменом-самоучкой. Она переводила разговор на общественную жизнь Бастиона, на политику. Хотя бы, говорила она, мы избавились от этих мерзавцев королей. Но как только мы победим, англичане снова притащат их обратно и в Греции опять вспыхнет Сопротивление. Тогда моя мать не сдержалась и возразила: не может быть Греция без короля.
На сорокоуст по моей матери я узнала от тетушки Канелло, что, когда мать была с первым своим итальянцем, синьором Альфио, и пошла на исповедь к отцу Диносу, тот сказал Канелло, что королевская семья – это главное испытание, которое Бог послал моей матери. (Как видишь, отец Динос был первый балабол в нашем квартале, и если хотелось, чтобы твои секреты стали всеобщим достоянием, можно было просто пойти к нему на исповедь. Пусть себе сплетничает, что с него взять.) Моя мать была монархисткой. Она верила, что антигитлеровская коалиция победит и вернет Греции ее королевский венец. А испытание ее состояло в том, как сказал священник, что она согрешила с врагом. И как тут жить предательнице и прелюбодейке в одной стране с благочестивыми и славными королями? Не терзай себя, Асимина, сказал ей сумасбродный поп, иначе ты бы не смогла спасти своих детей. И я бы на твоем месте стал продажной женщиной. Ты его только послушай, продажной женщиной! И это ей сказал любовник Риты, этот поп-прелюбодей. И как сказала тетушка Канелло, моя мать с тех пор была неутешна. Она всегда называла себя предательницей, но уж чтобы продажной женщиной – у нее и в мыслях не было. Но когда это сказал сам священник, она совсем перестала себя уважать.
Я тогда, конечно, не знала обо всем этом, когда мы говорили о королях, сидя вокруг воображаемого мангала. Я думала только о том, что до войны мы клали на угли алюминиевую бумагу, чтобы они не прогорели слишком быстро. О политических предпочтениях я тогда и думать не думала.
Приличное общество Бастиона не признавало партизан. Спустя год оккупации почти все порядочные дома города открыли свои салоны итальянцам. Некоторые пускали и немцев, но те были нелюдимы и не заходили в дома рабов. Но итальянцы, что за дивная нация! Откроешь им двери – и они всегда заходили с большим удовольствием. Даже снизошли до нашего дома с земляным полом. Но ты скажешь, что синьор Альфио и Витторио – люди не первого сорта, не под стать тем, что часто захаживали в дома нашего высшего общества.
Все эти дома не поддерживали движение Сопротивления. Это я знала точно со слов Канелло, потом это подтвердила и Саломея. Потому что на некоторые посиделки хозяева дома приглашали семью Тиритомба играть итальянцам какую-нибудь миниатюрку. Они всегда смеялись, хотя и не понимали языка, и все время хлопали – очень учтивый народ. Однажды мадемуазель Саломея взяла меня с собой, чтобы я тоже поучаствовала в сценке. У тебя нет слов в миниатюре, просто стой, а я тебя толкну на Андриану, а она – обратно на меня, не бойся.
А чего мне бояться? Итальянца я уже видела. Я сыграла в миниатюрке и могу сказать, что с того вечера твердо убедилась в том, что рождена для сцены. А уж про то, что там была еда прямо как в кино, я вообще молчу. И как только хозяева дома спускались по лестнице провожать иностранцев, труппа тотчас набрасывалась на полупустые тарелки. Жри, несчастная, сказала мне тетушка Андриана, только не замасли мне юбку – или я тебя придушу. На меня надели средневековое платье, прямо как в «Сельской чести». Это была театральная одежда, купленная у оперной труппы. Я заправила свою маечку в трусы, завязала тесемкой (тогда резинок еще не было) и завернула в лиф все, что только успела. Никто и не заметил. Все, что успела стащить, я отнесла домой, чтобы поели и домашние.
Все те хозяева, что приглашали итальянцев, поносили партизан. Погодите, настанет день, и они возьмут власть в свои руки, говорила тетушка Канелло, партизаны придут в город. А по запрещенным радиоприемникам все только и передавали о здоровье королевской семьи, что они в безопасности и находятся где-то в Африке. Неужто нет у них там, в этой Африке, ни одного людоеда? Пусть сделает хоть одно богоугодное дело и сожрет их, говорила Канелло, а у нас от этих ее слов волосы вставали дыбом. Я, признаюсь, демократка. Но я не против монархов. Те, кто изгнал тогда народным голосованием нашу королевскую семью, поступил в высшей степени грубо. С тех пор без королей я чувствую себя так, словно вышла на сцену без трусов. Мне всегда хочется за них голосовать, на каждых выборах, будь то на парламентских или муниципальных. Какое бы имя не было написано в избирательном бюллетене, я выбираю одно, без разницы из какой партии, немного смачиваю и поверх пишу: «Голосую за монархов. Рарау». Свою избирательную книжку я отдала нашему депутату, с тех пор как он на свои деньги перевез нас в Афины. Книжка матери тоже у него. Бедняжка, она до сих пор голосует с того света.
Уж извините. И патриотизм в чем-то хорош, но очень сейчас в моде все эти левые штучки: профсоюзы и движения, я хожу и на демонстрации, и на забастовки, но я требую королей. С тех пор как их изгнали – не в радость мне Светлое Воскресение, хоть на Пасху и делают денежные выплаты. До времен Республики я ходила на Пасху только в Кафедральный собор. Зажигала свечу и говорила себе, что от этого же самого огня зажег свечу и король. И маршал. Потом я возвращалась в свою двушку, зажигала лампадку и поддерживала огонь до следующей Пасхи, хоть я и неверующая. Сейчас я перестала это делать. Не понимаю, как мы можем претендовать на звание европейцев, если у нас нет королей.