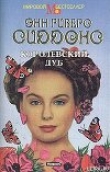Текст книги "Пёсья матерь"
Автор книги: Павлос Матесис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
П. Матесис
Пёсья матерь
Пёсья матерь
Лучше зови меня Рарау.
Вообще-то, я крещена как Рубини, а Рарау меня прозвали, когда я начала играть в театре, и именно под этим именем я стала тем, кем стала, а в полисе медицинского страхования добавила «Мадемуазель Рарау, актриса», так напишут и на моей могиле. Рубини больше нет. Я вычеркнула ее из своей жизни. А про фамилию так вообще молчу – Мескари.
Я родилась в Бастионе. Тоже столица, хоть и провинциальная. Я уехала в пятнадцать лет вместе с матерью и тремя ломтями хлеба, спустя пару месяцев после того, как мать выволокли на публичное поношение, когда еще ликовали в честь так называемого освобождения. И я никогда туда не вернусь. И моя мать никогда туда не вернется. Я похоронила ее здесь, в Афинах, – единственная роскошь, о которой она меня попросила. Таковы были ее последняя воля и желание: «Дочь моя, когда умру, прошу лишь об одной роскоши: похорони меня здесь. Я никогда не вернусь туда. (Она никогда не произносила слова «Бастион», хотя и родилась там). Я никогда ни о чем не просила. Постарайся купить мне склеп, чтобы туда не вернулись даже мои кости».
И вот так я купила место на кладбище, не бог весть какое, конечно. Время от времени я прихожу к ней. Приношу в подарок какой-нибудь цветок, шоколадку, немного сбрызгиваю своими духами – специально, потому что, сколько себя помню, она не позволяла мне душиться, считала это роскошью грешников. Один раз за всю жизнь я пользовалась духами, говорила она, в день свадьбы. Теперь я сбрызгиваю духами ее могилу, и если может, то пусть возмущается. А шоколад приношу, потому что, по ее словам, все четыре года оккупации у нее была лишь одна мечта: в одиночку съесть целую плитку. После оккупации она хлебнула горя сполна и с тех пор больше никогда не мечтала о шоколаде.
У меня есть своя квартирка (две комнаты и прихожая), пенсия, как и полагается дочери героя, павшего в Албании; скоро выйду на пенсию за выслугу лет и актерскую службу; и в общем и целом, я девушка счастливая и везучая. Не о ком мне больше заботиться, некого любить или хоронить, у меня есть граммофон и пластинки, в основном с песнями коммунистов. Сама я монархистка, но обожаю революционные песни. К счастью, я счастлива.
Мой отец по профессии был свежевальщиком, но мы старались это не афишировать. Он ходил на скотобойни, брал кишки, каждую промывал и выворачивал, чтобы сделать гардубу11
Гардуба – запеченные плетеные бараньи кишки. (Здесь и далее в романе – примечания переводчика.)
[Закрыть]. Я помню его совсем молодым, лет двадцати четырех, – по свадебной фотографии 1932 года; личных воспоминаний практически не осталось. В 1940-м он ушел солдатом на албанский фронт. Детей нас было трое: я и два моих брата; один из них, старший, думаю, до сих пор еще живет где-нибудь.
Я помню отца только в день мобилизации, когда мы с матерью провожали его. Мы шли на станцию, он шагал впереди, потому что спешил, боясь опоздать на поезд, а мать – сзади: она много плакала, никого не стыдясь, и, помню, тащила меня за собой. Помню, как он сидел в вагоне: он уходил на войну, а у нас не оставалось ничего, кроме медной монеты в двадцать драхм. Мать пыталась ему всучить ее, но он и слушать не хотел. Потом, когда он уже был в поезде, она бросила монету в окно, он заплакал, выругал ее и бросил монету обратно, мать подняла ее с земли и бросила с размаху, другие новобранцы засмеялись, монета упала на пол вагона, и тогда мать потянула меня, и мы побежали прочь, чтобы отец не успел вновь бросить монету обратно. Он ее взял или схватили другие – так мы и не узнали. Это был последний раз, когда я видела отца молодым, видела его лицо. Так я помню лишь его изогнутую спину, скрюченную над тазом с кишками. Так что, каков он был собой, я помню только по той свадебной фотографии. Мертвых и пропавших без вести, тех, кто уходит из моей жизни, я забываю, – точнее, забываю, как они выглядят. Знаю только, что их нет. Даже свою мать я забыла. Ей было уже за семьдесят пять, когда она умерла, но, наверное, мне так и не довелось рассмотреть ее, и потому и с ней у меня связь через свадебную фотографию, когда она была двадцатитрехлетней девушкой, на сорок лет младше меня. И потому мне больше не стыдно приносить ей шоколадки, ведь теперь она мне как дочь, я имею в виду по возрасту.
И все же спасибо Албании, благодаря которой я получаю пенсию. И плевать, что в итоге мы проиграли. Нам это не впервой. Я и националистка, и монархистка, но пенсия – дело другое. Я сиротка.
После отъезда отца на войну вместе с двадцатидрахмовой монетой мы вернулись домой, прибрались, купили в долг хлеба, и мать тут же пошла работать: нанялась в одну семью домработницей, а по вечерам шила – у нее была ручная швейная машинка. Нет, она не была профессиональной швеей, так, шила всякие рубашечки, распашонки, детские вещи, помогала на похоронах, умела обряжать в саван. Время от времени к нам приходили новости с фронта: всё в порядке, целую вас. Ему отвечала я; я тогда оканчивала начальную школу, а мама никогда в школу не ходила. «Дорогой Диомидис, с детьми все хорошо я работаю не волнуйся и береги здоровье шлю тебе поцелуи через нашу дочь Рубини твоя жена Мескари Асимина».
Мне не давала покоя мысль, что письма отца пахли кишками и потрохами, поэтому я потом никак не могла заставить себя съесть суп из рубца, мне казалось, что он пахнет человечиной, то же происходило с магирицей22
Магирица – греческий пасхальный суп из бараньих кишок.
[Закрыть] в ночь Великой Субботы, хотя я и очень верующая. В прошлом году надо мной смеялся импресарио: что мне с тобой делать в ревю, Рарау, там мат-перемат, а ты – святоша.
Святоша-святошей, но мужчины меня всегда хотели. Да и сейчас хотят.
У этого импресарио в трусы всегда был подложен поролон, чтобы его достоинство казалось внушительнее. И в плавках у него был поролон, когда на гастролях мы ходили купаться. Все в труппе об этом знали, некоторые его лапали, якобы с сексуальным подтекстом, но на самом деле, чтобы вывести на чистую воду. Однако ту, что по глупости своей выкидывала такой номер, на гастроли он больше не брал. Так случилось со мной. Потому что когда он стал меня поносить на чем свет стоит: да вертел я твоего Христа и Богородицу и мать, что тебя из дома выперла на..! Я ему бросила: На чем? На поролоне? За это он мне пару раз крепко врезал, ну и черт с ним. Бей сколько хочешь, сказала я, тебе это клеймо ни в жизнь не смыть. Как родился с тремя сантиметрами, так и помрешь! Эту часть тела никакой пластической хирургией не исправишь, так что бей себе, сколько влезет.
Мой отец хотя и был худющий и волосатый, но с этим делом у него все было в порядке. Видите ли, у нас дома была всего одна комната, без перегородок и с туалетом на улице, и вот однажды я увидела его голым, когда он менял подштанники, и, по правде говоря, я очень возгордилась, сама тогда не зная почему. Мой старший брат не очень ладил с отцом, совсем еще пацан, он вечно спорил с ним, а однажды отец сам начал разговор, он редко разговаривал, когда возвращался домой, – только выходил на задний дворик и промывал желудки (по вечерам он часто брал работу домой). А мой брат набросал в миску с промытыми желудками земли и говорит ему: да ты, да ты не мужчина вообще! И это ребенок-то тринадцати лет. И тогда заговорил отец, сказал: ты мне не сын, – а ты мне не отец, свежевальщик, ответил Сотирис, мой брат. Тогда найди другого, – бросил отец и вошел в дом. Следом за ним и Сотирис, открыл окно и начал кричать вслед каждому прохожему: отец, отец! Мать захлопнула окно, вышла на улицу и снова промыла желудки от земли. Вот, все готово, сказала она отцу, и тот закинул их на плечо и ушел, отнес в ресторан «Фонтан». Мать вытерла руки, накрыла наволочкой швейную машинку и ушла: ей нужно было помочь с подготовкой похорон для одной соседки. Следи тут за всем и, когда отец вернется, смотри, чтобы опять не разругались, наказала она мне. И когда он воротился, все сидел на насыпи во дворе и вроде бы курил. Идите в дом, папа, ушел Сотирис, сказала я ему. Так он и сделал, потом с работы вернулась мать и принесла нам печенье: у них сейчас траур, нельзя, чтобы дома было сладкое, сказала она. Мы съели печенье, а мать снова ушла, будем читать по ней Псалтырь, сказала она отцу, пойду сварю всем кофе, а вы ложитесь спать.
Мой брат Сотирис по вечерам ошивался около одного притона, назывался он «Бордель Мандилы», он был самый приличный из тех трех, что были у нас в Бастионе. Я уже тогда знала, что такое бордель и чем там занимаются. Но внутри я побывала позднее, во время оккупации, мне было тогда лет тринадцать: меня туда отправил с поручением один итальянец, и я не увидела там ничего непристойного, мне там даже дали денег.
Ходить к проституткам мне довелось еще один раз, немного позднее. Меня послал приходской священник, отец Динос из церкви Святой Кириакии (мы жили прямо за храмом). Священник каждое утро приходил в одно и то же время, как по часам, в половину седьмого, – он у нас был вместо будильника. Он приходил ровно в половину седьмого, обходил алтарную часть и справлял нужду за церковью, а потом заходил вовнутрь. А мать кричала: отец Динос уже помочился, вставайте, пора в школу. Потому что часов у нас в доме не водилось. И вот так мы и успевали на занятия, а если опаздывали, получали от учительницы пять ударов линейкой по ладоням. И вот однажды во время оккупации, когда мы побили всевозможные рекорды (двадцать семь дней без хлеба кряду, одна только трава, и нам даже стало любопытно, сколько еще мы сможем так выдержать), на двадцать шестой день отец Динос позвал меня и сказал: ты очень хорошая девочка, выполни одно мое поручение, но никому ни слова. Он завел меня в церковь, а потом в алтарь, я знала, что женщинам там находиться нельзя, не бойся, заходи, сказал мне отец Динос, ты еще создание невинное. Он вложил мне в руки большую просфору (тогда их называли просвира), завернутую в расшитое полотенце. Я попыталась отказаться, лучше сама продамся, а милостыней вас кормить не стану, говорила мать. Однако священник настаивал. Знаешь, говорит, ресторан «Фонтан»? Я знала, сейчас немцы из него сделали что-то вроде столовой. Пойдешь туда, говорит, спросишь мадам Риту, отдашь ей это, скажи, что это от отца Диноса, она знает. И, видимо, потому что я глупо вытаращилась на него, он сказал, что это бедная женщина и мы должны ей помочь. А полотенце принеси обратно, это попадьи. Ну все, иди. И смотри, как бы у тебя ничего не отобрали по дороге.
Я знала, что мадам Рита была в Бастионе первой и самой дорогой продажной женщиной, она работала в элитном доме, куда ходили и немцы. Это была богатая и высокая дама. И пока я шла, все мои мысли занимал будущий ужас, ведь впервые мне предстояло увидеть немца так близко, и так мне было страшно, что я даже не обращала внимания на запах хрустящей белоснежной просфоры. Все боялись завоевателей немцев, потому что они ни с кем не разговаривали. К итальянцам относились несколько лучше, так как они смеялись, заигрывали с женщинами и бросали детям булки, которые называли ржаниками. И как только я дошла до «Фонтана», коленки у меня так и задрожали. Хотя, может, это было и от голода, мать не разрешала нам лишний раз ходить просто так без дела. С каждым шагом сжигается одна калория, говорила она (выучила слово), с каждым шагом вы всё ближе к смерти.
Ну так вот, захожу я в «Фонтан», кругом одни немцы, все ели, и на меня всем было начихать, подошел официант-грек и спросил: что ты здесь потеряла, девочка? (От голода я вся сморщилась, представьте, даже месячные у меня начались только в семнадцать лет.) Я спросила мадам Риту. Официант пренебрежительно рассмеялся и крикнул: эй, Рита, опять тебе гостинец от попа. И тут из-за столика поднялась величавая женщина, сама любезность и доброта: что такое, птичка моя, пропела она. Я отдала ей записку и просфору. А, это от батюшки, говорит она мне. Ты ж мое золотце. И поцеловала. Это была прекрасная женщина и будто бы счастливая. Она взрослая, подумалось мне. Взрослая, конечно, она была для меня тринадцатилетней, сейчас-то я понимаю, что ей от силы было двадцать шесть лет. В любом случае я была очень рада, что познакомилась с ней, будто бы меня признали в обществе. Так я была рада, что не удержалась и рассказала матери, хотя священник и строго-настрого запретил мне говорить об этом любой живой душе. Во время оккупации мама сидела дома, тогда ни для кого не было работы, домработниц в Бастионе держали только два-три дома, а что до шитья, то кому нужна была детская одежда да распашонки? Саваны больше не шили, хоронили как попало: во что последнее были одеты – так в гроб и клали. Хотя читать Псалтырь по умершим мама ходила – из вежливости, несмотря на то что домой возвращалась уже на рассвете: а с семи вечера выходить на улицу запрещалось.
И как только я рассказала ей про мадам Риту, мама дала мне пощечину. Ты должна была принести хлеб сюда, сказала она. Впервые она заставляла меня ослушаться, да притом кого – священника. Я расплакалась из-за этого, а еще из-за того, что на улице было жутко холодно. Мама сидела за шитьем и, чтобы утешить, заставила меня помогать ей. Она распарывала наш флаг. Мы его вывесили в тот день, когда отец ушел на фронт, и в день, когда наше войско взяло город, кажется, Карицу. Сейчас, в оккупацию, флаг был вещью не только бесполезной, но и опасной, если бы к нам пришли с обыском. Все дома обыскивали грек-переводчик и два немца. Поначалу отправляли итальянцев, но, так как те разговаривали с оккупированными, немцы сняли их с этой работы. В наш дом с досмотром никогда не приходили, и я считала это этаким общественным унижением. Как бы то ни было, раз уж мы заговорили о флаге, сама я с тех пор никогда в доме флаг не держала, хоть я и националистка, но в упор не понимаю, какой от него прок, он нам пригодился во время пары-тройки театральных представлений, и то только в некоторых номерах.
Мы распарывали флаг вместе с мамой. К счастью, он был большой, помню, его как-то давно принес отец, один мясник обанкротился и не заплатил ему за три дня работы. И тогда отец конфисковал у него флаг и весы, их тогда называли «безмен», такие, где товар для взвешивания нужно подвесить на крючочек. Конфисковать что-то еще отец не успел, другие его опередили, в лавке остались только флаг да весы. И когда мы повесили флаг на двадцать восьмое октября33
Государственный праздник Греции и республики Кипр, известный как День Охи. Это день, когда Греция сказала свое «нет» (греч. Охи) итальянской оккупации во время Второй мировой войны.
[Закрыть], когда ушел мой отец, флаг закрыл почти весь фасад нашего дома, я вспомнила тогда одну патриотическую песню, которую мы учили еще в школе: «Накрой, матушка, накрой, дочь голубоглазая»44
Слово «флаг» в греческом языке женского рода.
[Закрыть]. Хорошо, что мать вспомнила про флаг. Сначала мы его использовали как простыню. А теперь распороли. Мама его раскроила и сделала нам всем четыре пары маечек и по двое трусов. Помню, на моих прямо посередке попался кусок с крестом, у матери рука не поднялась его распороть, – и вот так и носила я бело-голубые трусы, а крест, изображенный на флаге, врезался мне прямо в промежность. Как бы то ни было, в таком белье мы проходили всю зиму. Так что не грозила нам опасность, что в доме найдут флаг – вещь, связанную с Сопротивлением, даже если бы и устроили у нас досмотр. Хотя я на это уже и не надеялась. Но отец Динос однажды увидел наше нижнее белье, развешенное на прищепках за собором, и все понял. Как у тебя сердце-то выдержало, голубушка, спросил он у нашей матери. А она ему: и Ригас Фереос55
Ригас Фереос (ок. 1757–1798) – греческий революционный поэт и национальный герой.
[Закрыть] бы то же самое сделал, если бы у него дети голышом ходили. И поп больше никогда не заводил разговор про наше исподнее.
Нет, власти-таки приходили к нам в дом. Но еще до оккупации, когда мы воевали с итальянцами на территории Албании. Через пять месяцев после того, как отец ушел на фронт, письма прекратились. Мать посылала меня к соседям, у которых был радиоприемник: вдруг услышу имя отца в списках погибших. Радиоприемник тогда был, самое большее, в десяти домах в Бастионе, у богатых. Эти наши соседи были семья актеров, их называли семья Тиритомба66
Неаполитанская песня, написана в XVIII в. Значение слова «Тиритомба» до сих пор неизвестно.
[Закрыть], потому что у нас в городе они играли ревю с таким названием. Родом они были из Бастиона, потом случайно оказались тут на гастролях, их застала война и так они в Бастионе и остались, хорошие люди, особенно мадемуазель Саломея, свояченица хозяина труппы. В Бастионе у них был собственный дом, доставшийся по наследству, о них самих я расскажу потом, а этот дом стоит и по сей день, его не снесли, по-видимому, просто-напросто забыли продать, недавно сказала мне мадемуазель Беба – жена певчего, она еще жива и приезжает в Афины красить свой парик.
Мы просили мадемуазель Саломею слушать список погибших, чтобы мне не идти самой и не терять зря время. Еще мы ходили в жандармерию и в номархию, – может, там что скажут, чтобы мы могли уже надеть черное и повесить на дверь траурный венок. Но имя моего отца никогда не появлялось в списках; не волнуйтесь, сказала нам мадемуазель Саломея, если с ним случится что-то непоправимое, власти вас оповестят и медаль дадут.
Так что черные ленты на занавески мы не вешали.
Однажды к нам в дом пришел жандарм и еще один тип в гражданском, всё расспрашивали маму о новостях с фронта и каких убеждений придерживался отец. Мы показали все пришедшие почтовые открытки – что еще нам было показывать? Они сказали, что он уже месяц как в самоволке.
Об этом узнала моя бабка, приперлась к нам и чуть ли не выцарапала матери глаза из-за того, что мы не повесили траур. Она надела черное (это во время оккупации-то!), а однажды, когда скопила немного крупы, даже сделала по нем коливо77
Коливо – поминальное блюдо в православной церкви.
[Закрыть], тогда мы называли его «сочиво», и послала нам одну тарелку, мы ели ее два дня.
Но все же траур мы не надели.
Если государство мне не прикажет, я по нему траур носить не буду, к тому же не к добру это, говорила мать. Уже многим позднее, после освобождения, когда нам пришла государственная бумага, что Мескарис Диомидис, мой отец, считается без вести пропавшим и павшим на поле боя, а его семье полагается пенсия, надевать траур было уже неуместно: прошел положенный церковью срок. Вот эту пенсию я сейчас и получаю, хотя, конечно, выплачивать нам ее стали гораздо позднее, когда мы уже раз и навсегда покинули Бастион.
Эти двое были первыми официальными лицами, которые перешагнули порог нашего дома. Позднее, в конце первого года оккупации, наконец к нам пришли с досмотром и искали оружие, на этот раз итальянцы. Обшарили комод, затем осмотрели пол, хотя какой уж там пол, стоптанная земля – вот и весь наш дом, а один итальянец все смотрел на мою мать: меня, говорит, зовут Альфио, приходите ко мне в казарму. На вид он был человеком очень хозяйственным и скромным. Эту фразу он произнес на ломаном греческом. Мой брат Сотирис потом назвал маму шлюхой, за что я ему крепко врезала.
Этот земляной пол причинял нам одни только хлопоты. Мама была очень хозяйственной, от нее у меня этот пунктик на чистоте. Пол нужно было постоянно поливать. Нет, мы не окачивали его водой, чтобы не разводить грязь. Но аккуратно набирали в рот воды и сбрызгивали ею пол, чтобы пыль улеглась и застыла. Мы делали это и зимой, все вместе. А затем вместе же пол утаптывали, клали доску, плотно притаптывали, затем передвигали и все вместе вставали на нее. Потому что иначе пол снова бы превратился в землю, и снова выросла бы трава, в основном мальва, хотя однажды рядом с раковиной пророс мак.
К своему стыду, должна признаться, что мне нравился этот земляной пол. Потому что еще с раннего детства меня тянуло к земле, пойди пойми почему. Я всегда воображала, что у меня есть свой собственный земельный участок. И даже в школьном рюкзаке я всегда носила горсточку земли. На заднем дворе я отделила один уголок и назвала его «мое имение». Сделала ограду из веток и выращивала там фасоль, но она быстро погибла, сезон я выбрала неподходящий. Потом я организовала небольшой огород у себя под кроватью.
Зимой мы стелили половики и маленькие дерюги, но трава все равно прорастала даже через них. Однажды на рассвете я увидела, как половик шевелится и приподнимается – думаю: змея. Поднимаю половик, глядь, а там грибочек проклевывался. Словно солнце всходило из-под пола.
По углам были паучьи гнезда, мы замазывали их известняком каждую субботу и каждый день выметали пауков. Но вывести их все равно не получалось. Они приползали обратно и вили гнезда. Пусть себе вьют, сказала однажды мама, они никого не трогают, к тому же едят мух.
С тех пор мне часто снится, что снег идет прямо в доме. Снится, что я дома, здесь в Афинах, в своих двух комнатках. Внутри падает снег. По углам комнаты, у ножек консоли, на салфетке на комоде, вокруг умывальника. Как же так, говорю себе, ведь у дома есть крыша. И на этом просыпаюсь. А иногда снится, что в склепе матери тоже лежит снег. Могила, говорит она мне, совсем маленькая, не знаю, как я дальше буду в ней помещаться. По углам немного снежка. И больше ничего. Даже трухи от гроба. Только снег остался от мамы.
Шел второй год оккупации, и однажды я в шутку говорю своим братьям: ребята, давайте держать пари, сколько еще дней продержимся. Двадцать шесть дней без хлеба, мы ели траву и кофе в чистом виде, крупного помола, один магазин разграбили, и я успела схватить только кофе. Мы с братьями ели по полгорсти вечером. А потом выходили на улицу и играли. Но мать нам не разрешала, потому что мы часто падали в обморок прямо во время игры. Голода мы уже не чувствовали, но двигались очень медленно. Это был первый набег на магазин, до этого люди не позволяли себе так опускаться. А потом пообещали, что Красный Крест будет раздавать еду. Мы все втроем заняли очередь с восьми утра, в этот день я не пошла в школу, – теперь мы часто не ходили в школу. Мать никогда не ходила на раздачи, не знаю, чего она стеснялась, но нам разрешала, только при условии, чтобы мы были чистыми и опрятными.
Мы ждали в очереди. И где-то в половине четвертого нам объявили, что еду раздавать не будут. Тогда все, около трехсот человек, словно вздрогнули. Никто не проронил ни слова. Затем мы все, как один, безмолвно повернулись и спинами и толчками вышибли двери трех магазинов, один был магазин женской моды, его уже сто лет как закрыли. Мы хватали все, что попадалось под руку. С нами были и жены государственных служащих: среди них мадемуазель Саломея в прогулочном костюме. Я увидела кого-то на полу: оказалось, это наш Сотирис, ничего страшного, его просто уронили, и он что-то преспокойно себе жевал. Я успела урвать одну коробку, это оказался тот самый крупномолотый заграничный кофе, у нас в доме всегда был только турецкий, в довоенные времена. Меня как молнией поразило, когда я увидела, как мадемуазель Саломея, хотя ей оторвали мех с воротника пальто, с очень важным видом выходит из одного разгромленного магазина. Истинная кокетка, она украла косметику: румяна, пудру Tokalon и помаду, все это она нам потом сама показала. Позднее я узнала, что она даже была в движении Сопротивления, и не только она одна, а вся семья, хотя она и была свояченицей художника.
И когда на двадцать седьмой день без хлеба у нас закончился и кофе, мать ушла с самого утра. А мы, дети, сидели на кровати втроем, чтобы было не так холодно, и я думала, если бы только у нас сейчас в ногах была курочка, она бы нас согрела. У птиц температура тела выше, чем у человека.
Эту курочку нам подарила мадемуазель Саломея, храни ее Господь, где бы она ни была сейчас, пусть даже и не в Афинах. Однажды она разорила курятник и отдала курицу моей матери: свари ее, пусть дети попьют бульон, сказала она, иначе, боюсь, у них скоро распухнут железки.
У курочки было красивое оперение, длинная шея и вся она была исполнена жизни, и знать не знала, что мы в оккупации. И мы сказали: мама, давай не будем ее резать. Хорошо, ответила мама, пусть немножечко подрастет, выйдет потом еще одна порция, к тому же, может, она еще и снесет яйцо. Яйцо мы съели, когда пришли освободители-англичане. И так мы и продержали курицу около шести месяцев, кое-как кормили ее, я иногда даже приносила ей червячка. Мы выпускали ее пощипать травку и поискать каких-нибудь букашек на пустыре неподалеку. Мы заворачивали ее в пальто Сотириса, и все втроем ходили с ней на прогулку, как бы кто ее не подстрелил и не украл. Мы носили ее на руках, потому что она очень отощала и сама почти не ходила.
В тот день, когда мы тогда пришли на пустырь, я поставила ее на землю, чтобы она поискала червячка, а она завалилась на бок и смотрела на меня. У нее не было сил ковырять землю. Я дала ей воды, она с трудом выпила. Говорю: ребята, птичке плохо, пойдемте домой, надо успеть ее зарезать, пока не померла. Нет, сказала мама, я ее резать не буду. И этим же вечером курица снова посмотрела на меня и умерла. От голода. Я подняла ее на руки, она стала тяжелее. С ума сошла хоронить ее, с каких пор вы стали богачами, крикнула мне с балкона мадемуазель Саломея, когда увидела, как я копаю во дворе. Она еще теплая, ощиплите ее и сварите! Дура я, что отдала вам ее, такая курица зазря пропала!
Я вернулась в дом: мама, говорю, принеси мне цапку. Братья отодвинули кровать, я вырыла яму в углу, где был устроен мой садик, и похоронила курочку, мы передвинули кровать на место, вот так-то лучше. Каждое утро я отодвигала кровать и проверяла. И однажды утром около могилки моей птички я увидела улитку. Мать воскликнула, черт бы тебя побрал, где ж ты раньше была? Так бы съела тебя курица и жива осталась! А затем взяла улитку на ладонь и выпустила на траву во дворе. Мать часто вспоминала эту курицу, мы даже дали ей имя, сейчас уже и не вспомню какое, столько лет прошло.
Мы лежали на кровати все втроем, пытаясь согреться; вечером вернулась мать, она ходила по деревням. Принесла свежих бобов и пшеницу, сварила все вместе и накормила нас. А масла нет? – спросил наш младшенький Фанис. Хотя, конечно, знал, что нет. Нет, – говорит ему мать. А если бы было, мама, вы бы нам дали, правда? – уверенно спросил мальчик, он всегда обращался к ней на вы. И в этот момент Сотирис встал и говорит: меня сейчас вырвет. Тогда мама дала ему пощечину: выблевывать еду – самый настоящий грех, за это ты попадешь в Ад. Поимей хоть капельку уважения! В меня стреляли, пока я рвала эти бобы. У нее на голове рядом с пучком было немного крови. Тогда Сотирису стало стыдно, но его все равно вырвало. Мать молча ударила его, отвела к умывальнику и вымыла ему рот. А затем также молча все сидела на подоконнике, пока не стемнело. Тогда она поднялась, открыла сундук, достала пудру – подарок на свадьбу, и напудрилась. Затем взяла большие швейные ножницы и распустила волосы. Она всегда собирала их сзади в пучок. До чего тебя старит эта прическа, Асиминочка, – говорила ей мадемуазель Саломея, – ты сразу ну просто вылитая мать семейства.
Мама распустила волосы, они доставали ей почти до пояса, это от нее у меня такие густые локоны. Подошла к раковине и начала их отстригать швейными ножницами, а мы наблюдали за ней. И как только она закончила, почистила раковину, заплела отрезанные волосы в косу, выбросила в мусорное ведро, сказала: сходи к мадемуазель Саломее и попроси помаду.
Мама никогда в жизни не красилась. До того вечера. Но и это был первый и последний раз. На следующий – ее вымазали сажей, в тот день, когда выволокли на публичное поношение сразу после освобождения. В позапрошлом году на ее похоронах, когда опускали гроб, я успела бросить туда свою помаду. Чтобы хоть раз вышло по-моему.
Мадемуазель Саломея была золовкой семьи комедиантов. Так мы их называли, хотя люди они были золотые. Мы – семья Тиритомба, – шутила мадемуазель Саломея. У нее была сестра, вдова тетушка Андриана Каракапитасала. Ее муж был актером, и они объездили с труппой всю провинцию. Не жизнь, а подарок! Он и во мне открыл актерский талант. Двадцать восьмое октября их застало во время представления в Бастионе. Хозяина труппы тотчас определили в пехоту, он погиб почти сразу, едва прибыл на фронт. Как сказали тетушке Андриане, так, только чтобы утешить, – якобы от шальной пули; на самом же деле, его раздавил мул, да так его и бросили. Труппа развалилась, хотя труппа – это сильно сказано, скорее, сборище родственников. И всякий раз, когда очередная артистка уходила от них посреди турне: выходила замуж в каком-нибудь городишке или уходила в бордель, роль тут же доставалась мадемуазель Саломее, чаще всего ей, так как она еще умела играть на мандоле. Как-то раз в Арте играла и тетушка Андриана, она совсем недавно родила, еще и сорока дней после родов не прошло. Она играла Тоску, только вот с ребенком на руках, – пришлось менять название, «Тоска, расстрелянная мать», мне об этом рассказала Титина, бывшая коллега из Арты, сейчас она стала художницей, рисует портреты королей, получает пенсию, а еще с родины ей посылают кефаль, впрочем, от этой рыбы ужасно полнеют.
И вот я пошла к мадемуазель Саломее, та с радостью дала мне помаду. К счастью, она у нее была дома под рукой, ведь на дворе стояла зима. А летом, чтобы помада не таяла, она просила держать ее на льду в одной кофейне. Так от нее и я узнала эту маленькую хитрость, храни ее Господь, когда устроилась на работу и мы разъезжали по турне. В каждой деревне я осыпала похвалами держателя кофейни и относила к нему свою косметику, тогда у всех уже были холодильники, а не простой лед. Я и по сей день храню помаду в холодильнике.
Взяла я, в общем, у мадемуазель Саломеи помаду и понесла матери. Меня так и распирало от любопытства. Мать накрасила губы, ей очень шла стрижка, но она об этом и не догадывалась. Надела пальто и сказала: скоро вернусь, ждите. И, на самом деле, вернулась она быстро и выглядела очень решительно. Послушайте, сейчас сюда придет один господин. Вы выйдите на улицу, а я вас позову через полчаса. Идите поиграйте во дворе. Если начнет моросить, укройтесь в туалете или в церкви. А сама между тем набрала в таз воды и повесила чистое полотенце.
Мы вышли и нарвали ростков с розового куста тетушки Канелло. Мы их чистили, ели и мечтали о том, как летом будем есть виноградную лозу. Она очень вкусная, а розы уж чересчур сладкие. Мы спрятались за загоном, потому что увидели, как к нам в дом заходит вовсе не какой-нибудь грек, а Альфио – итальянец из Карабинерии. Мадемуазель Саломея была на балконе, развешивала белье на ночь глядя: Ах, Андриана, ради Бога, ты только глянь! Вышла и тетушка Андриана, и они вместе с мадемуазель Саломеей крикнули нам: батюшки, да у вас обыск. А сестра ей: закрой рот, Саломея, не делай поспешных выводов, и с этими словами затолкала ее обратно в дом.
Нам стало скучно, бутоны не утолили наш голод, и мы зашли в церковь. И затем увидели, как прошел Альфио, а потом нас окликнула мать: ребята, теперь уж идите, – и мы вернулись домой.