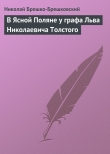Текст книги "Лев Толстой: Бегство из рая"
Автор книги: Павел Басинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
«Никогда не надо никого, ни мужчин, ни женщин, допускать близко в интимную жизнь супругов, это всегда опасно», – напишет С.А. спустя сорок лет.
Но не ревность к Тане и даже к Аксинье стала главной причиной семейных «надрезов». Порой ее муж начинает как бы внутренне ворочаться, чувствует какое-то стеснение, недостаток внешней и внутренней свободы. Хотя какой свободы еще можно желать? Хотел заниматься школой – ~ занимался, надоело – бросил. Увлекся пчелами, целыми днями пропадал на пасеке, а жена кротко носила ему обеды. Захотел какую-то особую породу японских свиней, особый сорт яблонь выписали. Свиньи передохли, зато сад укоренился. Весной чуть ли не каждый день охотится на вальдшнепов; осенью, зимой – выезжает с борзыми за лисами и зайцами. Писательство начинает приносит ощутимый доход. Из гонорара за роман «Война и мир» по десять тысяч рублей подарил племянницам, Лизе и Варе, на приданое. И жена этот щедрый жест поняла и одобрила.
Но тем не менее… «Все условия счастия совпали для меня. Одно часто мне недостает (всё это время) – сознания, что я сделал всё, что должен был, для того чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, всему, своим трудом за то, что они дали мне».
Весной 1863 года он начинает писать «Холстомера», поразительную «человеческую» историю о лошади, которую заездили и которая напоследок отдает себя всю, до последнего мосла, до куска кожи, – другим. На самом пике счастья, когда все его условия совпали, он вдруг начинает повесть, которая является апофеозом русского аскетизма, сопоставимого только с «Живыми мощами» Тургенева. Зачем?
Но «Мерин», как тогда называлась повесть, «не пишется». А «Казаки» – пишутся. «Война и мир» – пишется. И «Анна Каренина» будет писаться – и еще как! Он сам как будто несерьезно относился к своему второму роману сам удивлялся, почему он вызвал такой читательский интерес. Да понятно – почему. Потому что люди во всем мире хотят счастья, а не страданий. И за это счастье – хоть под поезд!
Но что-то в этом счастье начинает раздражать Толстого. «Где я, – тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». Эта запись в дневнике появилась менее чем через год после свадьбы.
Вдруг на пике семейного счастья из-под пера Толстого выходит диалог князя Андрея и Пьера Безухова, где Андрей убеждает Пьера: друг мой, не женитесь! Не женитесь, пока не станете совсем старым и никому не нужным. Вдруг бесконечно счастливый со своей прелестной Кити (это почти Сонечка) Константин Левин в «Анне Карениной» начинает всерьез подумывать о крепкой веревке и надежной перекладине под потолком. И сам его создатель в это время прячет от себя веревки и боится один ходить на охоту с ружьем. Что случилось?
Не в дневниках, а в записных книжках Толстого, в которые он заносил всякую всячину, стоит обратить внимание на его записи, когда он увлекался естественными науками: «Водород падает наверх, т. е. из сферы воздуха стремится в сферу водорода». «Водород» – это Толстой, а «воздух» – это семья. Этим «воздухом» пока прекрасно дышится. Больше того – он не может без него жить. Но какая-то невероятная сила выталкивает и выталкивает его в иное пространство, и сопротивляться ей он не может, потому что принадлежит другой «сфере». Еще более интересны замечания Толстого о естественном тяготении и влиянии друг на друга планет:
«Луна вертится вокруг Земли, потому что легче, и составляет одно из видимых тел, вращающихся вокруг Земли.
Земля вращается с другими планетами вокруг Солнца. Т. е. по мере своей плотности относительно сфер Солнца находит свой путь в одной из сфер. Направление ее определено сферой вращения Солнца, непосредственно соприкасающейся с ее сферой и сферами других планет».
Это и есть «модель» семейной жизни по Толстому. Жена – это Луна, которая вращается вокруг мужа, Земли, вместе с другими малыми спутниками – детьми, подчиненными ее «сфере». Но Земля не самостоятельна и подчинена солнечной «сфере», которая, в свою очередь… и т. д.
Ревность к Аксинье, ревность к сестре… В поздних воспоминаниях жена Толстого слишком акцентирует внимание на этом. Очень серьезным «надрезом» стал вопрос о кормлении первого ребенка – Сережи. У С.А. мучительно болела грудь, не хватало молока, а Л.Н. злился даже на то, что врач (чужой мужчина!) имеет право осматривать грудь его жены. Просто мусульманин какой-то. «Он уходил и уезжал от меня, проводя весело время с моей веселой, здоровой сестрой Таней…»
О том, чтобы бросить кормить ребенка самой и взять кормилицу, по убеждению Л.Н., не могло быть и речи. «Я падаю духом ужасно, – пишет С.А. в дневнике через десять месяцев семейного счастья. – Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный». «Боль усилилась, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности». «Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия?» «Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю всё, что могу, конечно, не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает».
Кормилицу всё равно взяли, а «надрез» остался. «Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать – еще, еще… и две половинки разъединятся совсем».
Что-то не так…
С.А. смотрела на эти «надрезы» со своей женской точки зрения. Л.Н. с его мужским упрямством порой бывал жесток в отношении молодой и неопытной жены. В то же время он сам был неопытен, непоследователен и еще до своего духовного переворота не раз и не два менял «правила игры». «То он стремился к простоте, возил меня в телеге, требовал грубого белья для первого сына. А то, впоследствии, брал с меня честное слово, что я поеду в 1-м классе, а не во 2-м, как я сама того хотела, и возил мне из Москвы чепцы и наряды от М-mе Minangoy – самой дорогой модистки в то время в Москве, и золотистые башмаки от Pinet, то ходила за детьми грязная, русская няня, а то выписывали из-за границы англичанку…»
Через четыре года, когда Соня была в очередной раз беременна, между ними случился конфликт, который ни он, ни она не могли объяснить, «бессмысленный и беспощадный». «Соня рассказывала мне, – пишет Т.А.Кузминская, – что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:
– Зачем ты сидишь на полу? Встань!
– Сейчас, только уберу всё.
– Я тебе говорю, встань сейчас, – громко закричал он и вышел к себе в кабинет.
Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:
– Уйди, уйди!
Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно – я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, всё повторяла: „За что? Что с ним?“
Она рассказала мне уже немного погодя: – Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ – „Уйди, уйди!“ – злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил всё на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол».
«Это событие вызвало выкидыш…» – пишет С.А. в «Моей жизни».
67-й год, когда это случилось, был критическим в жизни Толстого. Всю зиму он «раздраженно, со слезами и волнением» заканчивает третий том «Войны и мира», испытывая при этом сильнейшие головные боли. В марте в одну ночь сгорели все оранжереи, заведенные дедом Волконским. Л.Н. едва успел вытащить из пожара детей садовника. В марте же умирает жена его лучшего друга – Долли Дьякова. На похоронах в Москве он узнает о нелепой смерти сестры А.А.Толстой Елизаветы Андреевны в Италии – подавилась костью. «Бывает время, когда забудешь про нее – про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и с ужасом слышишь, что она ‹то› там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных», – пишет он А.А.Толстой. Наконец, он сам в этот год становится особенно мнительным на предмет собственного нездоровья. Подозрение, что у него чахотка, заставляет обратиться к московскому врачу Захарьину. Со страхом ждет приговора. Находят лишь камни в желчном пузыре.
В этот год Толстой часто выезжает в Москву: хоронить Долли, устраивать дела с печатанием «Войны и мира» и на обследования к Захарьину.
Во время этих отлучек они переписываются с женой каждый день! В этой переписке 67-го года есть что-то необыкновенно трогательное и… ненормальное, как и во всей переписке Толстого с женой, завершившейся страшной «глухой» перепиской во время его ухода.
«Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas (герои „Войны и мира“. – П.Б.), и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то.
Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли, и грустно, и страшно, да еще, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей».
Ответы Л.Н. дышат не меньшей нежностью и заботой, только, пожалуй, более чувственно-страстными.
«Сижу один в комнате во всем верху (квартиры Берсов. – П.Б.); читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы… Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное – я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии».
Впрочем, как раз эта пылкая страстность мужа не очень нравилась С.А. «Хотя приходит в голову, что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я; но потом я сейчас же не хочу себе портить радости и утешаюсь и говорю себе: от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу», – писала она.
Результатом этой страстности были дети, один за другим. С.А. любила детей бесконечно, в уходе за ними и их воспитании проявлялся ее главный жизненный талант. Но постоянное состояние беременности, почти без передышки, начинает ее тяготить, а, кроме того, она скоро обращает внимание, что ее муж ничем не отличается от большинства обыкновенных мужчин: любит жену здоровую, а не больную.
«Из тринадцати детей, которых она родила, – писал сын Толстых Илья Львович, – она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет…»
Но особенно возмущало С.А., что ее муж, отличаясь страстным мужским темпераментом до преклонных лет (последний ребенок, Ванечка, родился в марте 1888 года, незадолго до шестидесятилетия Толстого и сорокачетырехлетия С.А.), при этом подчеркнуто отрицательно относился к половой связи, считая ее греховной и недостойной духовного существа. Удивительно, но это отношение нисколько не изменилось с тех пор, когда он страдал от «чувства оленя» к девкам и крестьянкам. «Но что же делать?» – говорил он жене в таких случаях, давая ей понять, что если он и не властен над «чувством оленя», испытываемого уже по отношению к ней, это еще не значит, что он готов нравственно оправдывать это чувство. Его записи в дневнике вроде: «Преступно спал», – буквально взрывали С.А. Они намекали ей на то, что она не просто является соучастницей этого «преступления», но и его главным провоцирующим мотивом. Но главное – главное! – ее выводило из себя то, что муж не видит принципиальной разницы между ней и теми женщинами, которые были до нее.
Единственным оправданием половой связи Толстой считал рождение детей. «Связь мужа с женою, – пишет он в записной книжке, – не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кошунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но всё-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна». И здесь же он пишет о неразрывной, «смертной» связи мужа и жены, указывая, что случаи почти одновременных смертей брата и сестры крайне редки, а вот старых супругов – сколько угодно. И в этом надо почувствовать тонкость отношения Толстого к половой связи. Он видел в ней не только грех, но и тайну, такую же, как смерть. Смерть всегда завораживала Толстого. Он не мог не понимать, что первым звеном в цепочке: рождение – жизнь – смерть является половая связь. Отсюда она путала его. Если результатом половой связи не становится плод – рождение и жизнь, то эта связь означает «труп».
Этой тонкости в отношении мужа к плотской связи С.А. не понимала. Да ей было и не до того. Для нее эта связь означала конкретные вещи: тяжелое состояние беременности, муки родов, грудницу, бессонные ночи, холодность мужа к больной жене и ее ревность к молодым и здоровым женщинам, вроде своей сестры… «Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше. Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых…»
С.А. до поры до времени чувствовала тот предел, до которого она могла понимать своего мужа и после которого ей уже не стоило ломать голову, занимаясь тем, что ей судил Бог: внутренняя жизнь семьи и дети.
Но в этом ее положении тоже была своя тонкость. Толстой ведь не был физиком или астрономом. Он даже не был «литератором» в обычном смысле, который элементарно зарабатывает творчеством на жизнь. Толстой был творцом жизни. Той самой жизни, что свободно и органично перетекала из быта Ясной Поляны в «Войну и мир», «Анну Каренину» и обратно. И она, его жена, была соучастницей этого творческого процесса, причем он сам настоял на этом, придавая женитьбе не только прагматический, но и идеальный, творческий смысл. Как же ей было определить ту грань, за которой кончались ее полномочия и начиналась исключительно его сфера?
Пока этой сферой оставался кабинет мужа, всё было более или менее понятно. То, что кабинет папа – это святилище, а время, когда он пишет или читает, – это самые важные часы, ради которых, собственно, и существует Ясная Поляна, – это жена Толстого не только понимала, но и накрепко внушила детям.
Побеспокоить папа во время работы было немыслимо! Немыслимо было войти в это время в его кабинет, пересечь границу этой «сферы». Но ведь и когда Толстой покидал кабинет, творчество не прекращалось. Он не становился обычным мужем и отцом. Он продолжал оставаться «сферой», но уже такой, которая вступала во взаимодействие со «сферами» его домашних. И как было найти границы?
«Как хорошо всё, что ты оставил мне списывать, – пишет она мужу во время его отъезда. – Как мне нравится княжна Марья! Так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, всё еще не ясен. Не знаешь, что он за человек Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой».
«Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет…»
«А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне кажется, что это не роман твой так хорош… а я так умна».
«Посылаю тебе, милый Левочка… образок, который, как всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».
Неясные отношения князя Андрея к жене, образок, который княжна Марья упросила его взять с собой на войну и который он удивленно взял, чтобы сделать ей приятное, – всё это либо перетекало из яснополянской жизни в «Войну и мир», либо возвращалось из романа в жизнь. Это была система кровеносных сосудов, а не жесткое разграничение сфер.
С.А. была деспотична в любви к мужу. Этот ее деспотизм был продолжением ее главной добродетели – самоотверженности. Так она была воспитана отцом и матерью, и непонятно еще, кем больше.
У нее тоже были свои тонкости в понимании отношений супругов, которые ей с детства внушали мать и отец, но которые в идеальном мироустройстве яснополянского рая не работали. В дневнике она пишет: «Иногда на меня находит озлобление, что и не надо, и не люби, если меня не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано – и всё это пустяки. Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо».
Это дневник того самого 67-го года, который словно пропитан предощущением катастрофы. Но это как будто чувствует одна С.А. Толстой целиком поглощен «Войной и миром» и своей болезнью. Он консультируется с Захарьиным и меряет ногами Бородинское поле в уверенности, что напишет батальную сцену, которая не снилась даже Стендалю, главному авторитету для него среди «баталистов». Но С.А. всё время что-то «чувствует».
Что-то не так… Что-то не так…
Маргиналы
Удивительное дело! Сонечка Берс свои, очевидно, невиннейшие девичьи дневники уничтожила, не показала Толстому. А вот он свои далеко не невинные заметки холостой жизни не просто показал невесте, но заставил прочитать. Зачем?
Ясного объяснения этого поступка мы не найдем ни в его дневниках, ни в «Анне Карениной», где Константин Левин совершает такой же поступок. Но какие-то мотивы лежат на поверхности.
Во-первых, он не был уверен, что он, такой как есть, достоин своей невесты, и хотел, чтобы она знала, что он ее недостоин, и сделала не слепой, а сознательный выбор. Это благородный мотив.
Во-вторых, намереваясь привезти жену и будущую мать их детей в Ясную Поляну, он знал, что там она неизбежно столкнется с Аксиньей и его незаконным сыном. Лучше вскрыть этот нарыв до свадьбы, чем травмировать молодую жену, которая к моменту «приятной новости», возможно, уже будет беременной. Не самый благородный, но и не самый плохой мотив. Да, но зачем было показывать дневник?
Толстой поступил против правил. Это был «дикий» поступок, который ошеломил Сонечку и ее родителей. Но родители списали это на «странности» жениха: о некоторых они уже знали. А вот Сонечке предстояло с этой «правдой» жить.
«…всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь», – пишет С.А. в «Моей жизни».
«Всё его (мужа. – П.Б.) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним, – жалуется она в дневнике первого года замужества. – Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее – целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что…»
Отдавая Сонечке дневник, Толстой думал, что испытывает на прочность ее чувство и показывает ей «мины», которые могут встретиться ей в Ясной Поляне. На самом деле он закладывал под свою будущую семейную жизнь такой динамит!
Все недостатки С.А. вытекали из ее добродетелей и наоборот. Самоотверженность в семейной жизни соседствовала с деспотизмом, а преданная любовь к мужу – с безоглядной ревностью. Своими дневниками он пробудил в ней темные стороны ее натуры и заставил ее страдать не только от ревности, но и от осознания беспомощности перед темными сторонами своей личности. Если это был духовный урок, то очень жестокий.
Конечно, больше всего ее задели его слова об Аксинье как жене. «Влюблен как никогда!» С.А. всегда придавала особое значение отдельным словам, сказанным или написанным ее мужем. Она вцеплялась в эти слова, надувала их дополнительным, ей одной внятным смыслом. Это была ее болезнь.
«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, – пишет она в дневнике через три месяца после свадьбы, увидев Аксинью в своем доме. – „Влюблен как никогда!“ И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар – легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая… Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».
Делая свои молодые дневники прозрачными для жены, он совершал и еще одну ошибку, о которой, несомненно, горько сожалел в старости, перед уходом. Он подарил ей право считать себя «жертвой». Разбудив в ней одну темную сторону – ревность, он дал ей основание и для семейного деспотизма, ибо нет ничего более деспотичного, чем жертвенная любовь. Это чувство «жертвы» она культивировала в себе с самого начала их совместной жизни. Дневники будут «аукаться» Л.Н. на протяжении всех сорока восьми лет их семейных отношений. Этот «скелет в шкафу» постепенно обрастет плотью, напитается кровью и будет постоянно присутствовать в доме во время самых тяжелых конфликтов.
И всё ради чего?
Самое начало семейной жизни Толстых приобретает странный маргинальный характер. Дневник (в сущности, просто написанные слова) вдруг начинает играть в этой жизни роль третьего. Оба ведут дневники, будто соревнуясь друг с другом в своей откровенности. Но главное – оба не просто позволяют друг другу читать эти дневники, но делают это принципиальным элементом полноты семейного счастья. Никаких тайн!
Что же они читают в этих дневниках?
ОНА:
«Он мне гадок со своим народом…»
«У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно – у меня никакой, напротив…»
«Он тем дурной человек, что у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальски незлой человек ко всякому страдающему существу…»
«Любви нет, жизни нет…»
«Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет, и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение, – гадко…»
«Иду на жертву к сыну…»
«А детей у него больше не будет…»
«Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я – удовлетворение, я – нянька, я – привычная мебель, я – женщина».
ОН:
«Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас всё, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал…»
«Мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать… Мне всё досадно и на мою жизнь, и даже на нее. Необходимо работать…»
«Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло…»
«Таня – чувственность…»
«С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал – слезы, пошлые объяснения… Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это ложная замазка… За обедом замазка соскочила, слезы, истерика…»
«Ее характер портится с каждым днем… Я пересмотрел ее дневник – затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности…»
«С утра я прихожу счастливый (после прогулки. – П.Б.), веселый, и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка расчесывает волосики… и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично».
«Уже 1 ночи, а я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит».
Приписки Толстого в дневнике жены, то шутливые, то покаянные, не оставляют сомнения, что он внимательно читал дневник. А уж он и вовсе не имел права прятать дневник после того, как навязал невесте свое прошлое. Сделав свое прошлое ее душевным грузом, он распахнул дверь в тайник своей души и уже не смел ее больше закрывать.
Одним из внешних символов С.А. как хозяйки был не только чепец, но и тяжелая связка ключей от всего дома и хозяйственных пристроек, которую она постоянно носила на поясе, на животе, даже когда была беременной. Но для проникновения в тайник души мужа ей не требовался ключ. Всё открыто.
Но могло ли так продолжаться всю жизнь? Зачем было двум взрослым людям, обедающим за одним столом, ночующим в одной спальне, вести эту странную, двусмысленную «переписку»?
С.А. эта игра понравилась. Во всяком случае, она вошла в ее вкус и всегда требовала от мужа предельной откровенности. Но Толстого отсутствие между ними всякой тайны скоро стало раздражать. Летом 63-го года он восклицает в дневнике: «Всё писанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду».
В конце концов дневники, которые по изначальной мысли Толстого должны были соединить супругов в единую и нераздельную духовную плоть, стали одной из главных причин семейного конфликта, завершившегося катастрофой 1910 года…
«Сломилась жизнь»
Так называется одна из глав воспоминаний С.А. Событие, серьезно повлиявшее на отношения между супругами еще до духовного переворота Толстого и ставшее причиной первого не «надреза», а надлома в семейной жизни, было рождение 12 августа 1871 года второй дочери и пятого по счету ребенка – Марии. Это первый ребенок, который впоследствии встанет на стороне отца в конфликте с матерью, обозначив раскол между детьми Толстого. Скончавшаяся в молодом возрасте Мария была во многих отношениях очень необычным и не вполне земным существом, как и самый поздний ребенок – Ванечка. И это была самая любимая дочь Толстого.
После рождения Маши С.А. заболела родовой горячкой и едва не умерла. Врачи советовали ей больше не иметь детей. Но Толстой не представлял себе семейной жизни без рождения детей. После Маши его жена родила восьмерых детей, из которых первые трое – Петр (р. 1872), Николай (р. 1873) и Варя (р. 1875) – умерли в грудном возрасте. И только с рождением сына Андрея в 1877 году, а затем Михаила в 1879-м род Толстых вновь стал набирать силу. Но уже родившийся в 1881 году Алексей умирает в пятилетнем возрасте, а появившийся на свет в 1888-м Ванечка уходит из жизни в 7 лет. Зато родившаяся в 1884 году уже вопреки желанию матери дочь стала главной долгожительницей в роде Толстых. Александра Львовна прожила девяносто пять лет.
В плодоносящей силе Толстого было что-то библейское. И каждый ребенок был не похож на предыдущего и последующего. Каждый обладал неповторимым характером и каким-то даже гипертрофированным личностным началом. Все дети были разносторонне даровиты.
В 1871 году Толстой не вел дневник, но сохранилась запись из его записной книжки, где он осуждает естественные науки за отождествление природных законов с таинством человеческого деторождения: «Естественные науки – это стремление найти общее в жизни внешнего мира с жизнью человека. Человек родится из оплодотворенного яйца. Давай отыскивать яйцо в полипе и оплодотворение в папоротнике…»
Для Толстого деторождение – это таинство, которым нельзя управлять. Но для С.А. это таинство означало более определенные вещи. Вот ее запись в дневнике 1870 года:
«Сегодня 4-й день, как я отняла Левушку (Лев – четвертый ребенок Толстых. – П.Б.). Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла, и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело этот первый полный разрыв с своим ребенком. Должно быть, я опять беременна».
Толстой в начале 70-х годов продолжает жить невероятно напряженной умственной жизнью. Возвращается тяга к педагогике, и он составляет «Азбуку» для детей (С.А. ее переписывает). Он изучает греческий язык, чтобы читать Гомера и Ксенофонта в оригинале. Он собирает материалы для романа о Петре I. В 1873 году начинается работа над «Анной Карениной». В это же время Толстой дважды ездит в самарские степи – на кумыс.
Жизнь семьи возвращается в прежнюю колею. Однако «неимоверного счастья» уже нет. В семейной жизни Толстых обозначились все трещины, по которым она будет раскалываться в будущем. Но необходим был какой-то внешний толчок, чтобы раскол начался.
Толчком был переезд семьи в Москву.
В 1871 году когда в семье произошел надлом, Ясную Поляну покинул ее легкокрылый ангел и одновременно демон – Танечка Берс, ежегодно с весны до осени гостившая у старшей сестры. После неудачного и томительного «романа» с братом Толстого Сергеем Николаевичем она всё-таки вышла замуж за своего кузена Кузминского и уехала с ним на Кавказ, куда ее муж получил назначение. Это было большое горе для С.А. Сестра была ее единственной конфиденткой в семейных проблемах, ей она поверяла все свои радости и горести в отношениях с мужем. С отъездом Тани рвалась ее живая и постоянная связь с прежней семьей, с Берсами. Отныне она была только графиней Толстой…