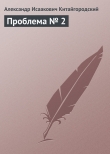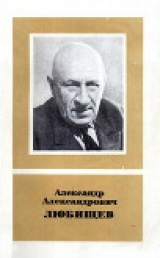
Текст книги "Александр Александрович Любищев (1890—1972)"
Автор книги: Павел Светлов
Соавторы: Сергей Мейен,Виктор Дмитриев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Глава 6
Работы по истории и методологии науки
А. А. Любищев придавал величайшее значение научному методу. Ему принадлежит много интересных (порой парадоксальных) мыслей о путях исторического развития науки, о взаимоотношениях естественных наук с математикой и философией, о системном подходе. Анализ этой стороны творческого наследия Любищева показывает, что его работы представляют серьезный интерес для науковедения, логики и методологии научного исследования и общей теории систем, т. е. дисциплин, сформировавшихся в самое последнее время и изучающих науку в целом.
Стремление осмыслить пути развития науки в целом и сущность научных методов было связано у Любищева, с одной стороны, с его размышлениями о том, что есть теоретическая биология, и, с другой стороны, с его убежденностью в величайшем значении науки как средства познания мира.
Сегодня мысль о том, что для развития науки существенно осознание природы науки, ее методов и их оснований, завоевала законное место в культуре. Но для Любищева понимание того, что методология науки важна не только для изучения истории научной мысли, но и для самого развития исследований, было его личным открытием. И то, как он к этому открытию шел, представляется в высшей степени поучительным. Любищев не только предвосхитил сегодняшнее увлечение методологией, он показал, что более глубокое понимание того, что есть наука, расширяет возможности действия в науке. Можно сказать, что методологические проблемы науки он рассматривал более широко – в гносеологическом и даже аксиологическом контексте.
Современное развитие науки в большой степени соответствует идеям Ф. Бэкона о том, что цель науки – расширение власти человечества над природой ("знание – сила") и помощь в конкретном соревновании отдельных коллективов. Иными словами, главная ценность науки – доставляемое ею могущество. Сам Бэкон наиболее яркими научными достижениями полагал изобретение печатного станка, пороха и морского компаса. Полезно, однако, при этом помнить, что Бэкон не сумел оценить достижения Галилея, Кеплера и ряда других своих современников, заложивших основы сегодняшней науки.
Для Любищева же гораздо более важными представляются совсем иные цели науки: повышение уровня знания о мире, увеличивающее свободу человечества. Подлинная наука для него – это прежде всего путь к осознанию мира и природы самого человека. Поэтому и наука для него не есть скопище добытых фактов, гипотез или теорий, но прежде всего уровень понимания мира. Этот уровень меняется в процессе исторического развития науки. Для объяснения механизма этого развития очень естественно использовать представление о науке как о марковском случайном процессе: накопленное в данный момент могущество создает пропорциональные ему возможности дальнейшего роста.[1 Процесс называется марковским, если его состояние в данный момент определяет вероятности возможных изменений.] Таким образом, рост науки определяется (вероятностно) ее состоянием в данный момент. Скажем, наличие определенных энергетических ресурсов или радиоэлектронного оборудования дает новые возможности для физических экспериментов или создания автоматизированных устройств. Достигнутый уровень в некоторой области науки определяет вероятности расширения ее применений и потребностей в смежных науках. Публикации стареют, как дредноуты и самолеты, переставая обеспечивать необходимую мощь ввиду появления новых современных средств.
Это представление в известной мере отражает действительность. Но, как неоднократно подчеркивал Любищев, для подлинной науки важнее совсем иное.[2 В письме от 5.3.71 г. А. А. весьма критически оценивает роль Бэкона и его доктрины.] Степень развития науки Любищев связывал прежде всего не с достигнутым в данный момент уровнем фактического знания, но с умением критически пересматривать принятые догмы, с умением точно формулировать теории, объяснять накопленное и предсказывать новые факты и, наконец, с целбстностью видения мира. Это представление естественно было бы назвать концепцией науки, в которой ее развитие считается даже стохастически непредсказуемым по ее состоянию в настоящий момент.[3 Хотелось бы назвать эту концепцию «немарковской», по аналогии с «неэвклидовой» геометрией или «неньютоновскими» жидкостями.] Скорее это развитие следует связать с общекультурным контекстом, с уровнем философско-методологической рефлексии.
А. А. Любищев очень много писал о математизации науки. По его словам, основной слабостью Аристотеля было его пренебрежение математикой и эта слабость в значительной мере объясняет его популярность в широких кругах и то вредное влияние, которое его последователи, перипатетики, оказали на дальнейшее развитие науки. Математизация науки рассматривается Любищевым в противопоставлении ее а) готовности удовлетворяться приблизительными объяснениями (не качественными, но именно приблизительными, неопределенными, принципиально не уточняемыми) и б) стремлению ограничиться уровнем непосредственного наблюдения, принять в качестве единственной реальности – реальность эмпирическую.
Первое из этих противопоставлений определяет математизацию науки как достижение некоторого уровня четкости утверждений, ясного выделения постулатов, отчетливого понимания статуса различных утверждений (наблюдаемый факт, гипотеза, принятый постулат, логическое следствие из принятых постулатов и т. п.). Например, математизация классической механики заключается не в самих дифференциальных уравнениях, но в принятии того, что в основе механики лежат универсальные физические законы, в ясной формулировке этих законов и доказательстве того, что из этих законов логически следуют все остальные факты. Блестящим примером этого служит вывод Ньютоном законов Кеплера для планетных орбит из закона всемирного тяготения.[4 Интересно, что Ньютон при этом выводе не пользовался уже созданным км к тому времени аппаратом флюксий.]
Второе противопоставление характеризует математизацию как обнаружение некоторой математической структуры, воплощенной в описываемом явлении. Так, закон всемирного тяготения есть общая зависимость, воплощенная во взаимодействии масс. Уравнения общей теории относительности – это математическая структура, воплощенная в многообразии конкретных физических взаимодействий. Законы Менделя – это математическая структура, проявляющаяся в наблюдаемых при скрещивании комбинациях признаков.
Положение Пифагора о том, что числа правят миром, сегодня следовало бы принимать как принцип существования глубинных математических структур, воплощенных в реально наблюдаемых наукой явлениях. Поэтому математизация в естествознании – это не столько измерение, сколько стремление проникнуть в глубь явлений,' увидеть за кажущимся хаосом фактов математический космос – стройную математическую структуру.
Если развитие уровня науки мы начнем, следуя Любищеву, связывать с углублением ее математизации, то окажется, что это углубление определяется не столько достигнутым уровнем, сколько господствующими в данный момент стремлениями. Иными словами, математизация науки зависит не столько от существующих возможностей (здесь наиболее важным является уровень, достигнутый в самой математике), сколько от ощущения необходимости. Скажем, в современной физике господствует представление о необходимости оперировать с глубинными математическими структурами, а в теоретической биологии и лингвистике такое представление только начинает пробивать себе дорогу.
Для Любищева характерно представление о том, что разделение наук на номотетические и идеографические (описательные) связано не с природой той или иной области знания (как это считали неокантианцы), но с достигнутым уровнем развития. Математизация науки означает, согласно Любищеву, лишь средство вывода ее на номотетический уровень.
Рассмотрение Любищевым проблемы математизации науки в двух аспектах – точности и правильности[5 Точность описания связана с верифицируемостью, а правильность – с адекватностью, с проникновением в глубину явлений.] – способствует диалектическому синтезу исторического противопоставления в науке стремлений к точности (и, в конечном счете, полной математизации) знания и целостности видения мира (натурфилософских тенденций). В свое время Гете был ярым противником математизации естествознания. Но именно представления Гете об архетипе, праформе в концепции А. А. наиболее естественно связываются с поиском глубинных математических законов, управляющих формой живых организмов.
Важное место в концепции Любищева занимает его эксплицитно сформулированная точка зрения на роль научных фактов. Он предостерегает от гипноза фактов, особенно когда говорят о Монблане фактов, подтверждающих ту или иную теорию. Здесь существенными являются два обстоятельства. Первое из них заключается в том, что факты могут подтверждать или не подтверждать только достаточно жестко (точно) сформулированную теорию. При расплывчатости самой теории оказывается, что одни и те же факты одинаково легко интерпретируются в конкурирующих теориях. Скажем, громадное количество фактов одинаково хорошо укладывается как в эволюционную теорию Дарвина, так и в теорию Ламарка.
Второе – и не менее важное – состоит в том, что, когда говорят о Монблане фактов, подтверждающих господствующую теорию, часто забывают о Гималаях фактов, ей противоречащих или не находящих себе места в рамках этой теории. Более того, многие факты входят в арсенал науки на то время, пока они приемлемы с точки зрения господствующей доктрины, и отставляются в запасник, когда они не нужны пришедшей на смену доктрине. Любищев подчеркивал необходимость для любой научной теории охватывать объяснением весь комплекс фактов, относящихся к ее сфере. Особенно он обращал внимание на недопустимость пользоваться "убежищем невежества", когда теория опирается на гипотетические, непроверяемые факты. С этой точки зрения он критиковал распространение теорий происхождения хордовых, основанных на реконструировании предка с отсутствующим твердым скелетом.
Современное естествознание придает исключительно большой вес эксперименту. Тем самым роль научного наблюдения, как замечал Любищев, становится незаслуженно преуменьшенной. Однако в некоторых науках (звездная астрономия, палеонтология, космология и т. д.) эксперимент вообще пока невозможен, а эти науки играют исключительно важную роль в научном познании. Заметим, что полеты космических кораблей технически являются, конечно, экспериментом. Но с точки зрения астрономии или астрофизики – это новый способ наблюдений, увеличивающий их возможности. Кроме того, современные эксперименты весьма дороги. Этот фактор неминуемо влияет на выбор перспективных направлений экспериментирования, волей или неволей подчиняя науку практическим нуждам сегодняшнего дня. Когда наука идет по пути наблюдений, она оказывается свободней от этих привходящих факторов и может в большей степени регулироваться интересами чистого знания. Здесь можно допустить большой риск и смириться с серией неудач ради перспективы увеличения глубинных знаний. Наоборот, выпячивание исключительной роли эксперимента привязывает науку к опытно-конструкторским разработкам и увеличивает степень предсказуемости процесса ее развития. Эксперимент при всех важных достоинствах сужает поле зрения: он отвечает на заранее поставленные вопросы. Беспристрастное наблюдение позволяет осмыслить саму постановку вопроса. И уж во всяком случае безусловно необходимое развитие экспериментальной базы не должно вести к пренебрежению наблюдением.
Любищев любил подчеркивать мысль Дюгема о принципиальной невозможности "experimentum crucis", позволяющего однозначно выбрать одну из существующих в науке альтернатив. Типичное положение в науке состоит в том, что сама дилемма оказывается недостаточной (как это было, например, с конкурировавшими гипотезами о волновой и корпускулярной природе света). Развитие научных представлений происходит диалектически, когда две, казалось бы, непримиримые противоположности синтезируются на основе принципа дополнительности.
Сам по себе факт в науке еще не играет решающей роли. Хотя факты – "воздух для науки", невозможно питаться одним воздухом. Факты приобретают научное значение только в рамках осмысляющей их научной теории. Важность этого положения представлялась Любищеву настолько первостепенной, что он подкреплял его парадоксальным тезизом о практической пользе научных фикций и предрассудков, позволяющих извлекать из фактов некоторые научные прогнозы. Так, астрологические суеверия Кеплера позволили последнему построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны. Галилей, свободный от этих предрассудков, не мог поверить в возможность влияния Луны на земные события и предложил неверную теорию приливов. Разумеется, научная теория тем более необходима для осмысления фактов.
В одном из своих последних писем (от 7 июля 1972 г.) А. А. дал поучительную формулировку того, что есть подлинно научная теория: "Под научной теорией следует подразумевать такое построение, которое не налагает никаких философских ограничений на свободу мышления и от теории требует только одного: чтобы на основе тех или иных постулатов было получено такое обобщение известных фактов (математическая теория или вообще жесткое обобщение), которое позволило бы объединить огромный комплекс фактов и на основе этого объединения получить прогноз, оправдываемый на практике, и даже управление явлениями. Что касается учения, или доктрины, то оно, исходя из определенных философских постулатов, стремится дать "объяснение" большому комплексу фактов, но в силу "рыхлости" такого объяснения оно не охватывает всех подлежащих охвату фактов и возможность прогноза минимальна... В биологии учение об эволюции в целом не вышло за пределы доктринального уровня, но некоторые части – наследственность, изменчивость – уже перешли теоретический уровень". Характерно, что именно доктрины претендуют обычно на абсолютизм и непогрешимость, в то время как научные теории часто способны оценивать границы своей применимости.
Наконец, нужно подчеркнуть, что подлинная наука рассматривалась Любищевым как необходимая составная часть человеческой культуры и он много думал (и писал) о взаимоотношении науки со всеми аспектами культуры.
Количественные и качественные закономерности, изучаемые сегодня в науковедении, существенно основаны на предположении вероятностной предсказуемости процесса развития науки. Например, так называемый экспоненциальный закон роста различных параметров науки (публикаций, научных работников, финансирования и т. д.) выводится из того, что "приращение науки" пропорционально её нынешнему состоянию. Получаемые количественные закономерности неплохо согласуются с наблюдаемыми за несколько десятков лет данными, но при их экстраполяции возникают серьезные трудности в выявлении компенсирующих этот рост факторов. Вероятно, "немарковская" концепция науки могла бы очень помочь пониманию того, что именно отражает закон роста. Хочется подчеркнуть, что представления Любищева о структуре научного знания могут сыграть роль в дальнейшем углублении науковедческих концепций.
Представления Любищева о номотетичности как идеале научности гораздо шире, чем идея научного описания явлений в форме математически выраженных закономерностей. Номотетичность у Любищева звучит как поиск строго определенной системности, лежащей в основе наблюдаемых явлений. Этим открывается принципиальная возможность выявления законов в тех областях знания, которые традиционно считались описательными. Эти идеи Любищев отчетливо выразил в посмертно вышедшей работе [78]. По сути дела Любищев указал реальные возможности исследования математических структур в классификации, т. е. в традиционно описательном методе упорядочения исследуемого материала.[6 Ср.: Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Методологические аспекты теории классификации. – Вопр. философии, 1976, № 12, с. 67—79.] Тем самым открывается возможность для рационалистического (платоновского) подхода в тех областях, где господство эмпиризма считалось безраздельным.
Именно в этом смысле нужно прежде всего понимать ту высокую оценку, которую Любищев неоднократно давал Платону. Платонизм Любищева можно уподобить уверенности математика в реальном существовании изучаемых им объектов. Убежденность в том, что закон природы есть реальность, открывающаяся в феноменах,– вот характерная установка Любищева. В известном смысле можно такую убежденность генетически связать с объективным идеализмом. Но надо отдавать себе отчет, что позиция Любищева всегда была непримиримой к позитивизму и солипсизму. И если уж считать Любищева идеалистом (такое определение по отношению к нему слишком жестко – более правильно говорить о тяготении Любищева к платонизму), то необходимо понимать, что есть идеализм глупый и идеализм умный. О последнем хорошо сказал В. И. Ленин, что умный идеалист нам ближе, чем недалекий материалист. Глупый идеализм отрицает реальность материи, умный – не удовлетворяется простейшими реальностями, но пытается проникнуть в реальности глубинные. Аналогично этому примитивный механический материализм отрицает любые реальности, кроме непосредственно наблюдаемой весомой протяженной материи, а материализм диалектический провозглашает: "... единственное "свойство" материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания" (В. И. Ленин. Соч., т. 18, с. 275). Не случайно философия марксизма-ленинизма генетически связана прежде всего с диалектикой Гегеля – и в гораздо большей степени, чем с материализмом энциклопедистов и даже Фейербаха, не говоря уже о вульгарном материализме Бюхнера, Молешотта и иже с ними. Наоборот, традиции средневекового номинализма (со знаменитой бритвой Оккама) через материализм примитивно-механический ведут непосредственно к современному позитивизму, т. е., как показал В. И. Ленин, к худшей разновидности субъективного идеализма, смыкающейся с крайним солипсизмом.[7 Ср.: Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размышления над книгой В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). М., 1980.]
Наша задача – выявить, в чем состоит конкретный пафос любищевского платонизма и пифагореизма, и показать, что этот комплекс идей, находившихся у истоков идеалистической философии, может быть плодотворно переосмыслен с позиций диалектического материализма, подобно тому как идеалистическая диалектика Гегеля получила свою материалистическую интерпретацию в философии марксизма.
Здесь нужно подчеркнуть, что диалектический материализм качественно отличается от примитивных разновидностей материализма и позитивизма своей способностью критически осваивать все ценное, что возникло в рамках иных философских систем. Эту особенность диалектического материализма осознавал и сам А. А. В его письмах последних лет можно найти рассуждения по этому поводу. При этом он полагал важным терминологически отгородиться от вульгаризаторской философской традиции.
Уже в самой ранней из сохранившихся рукописей А. А. можно обнаружить зарождение его философско– методологических взглядов на науку. Говоря о борьбе витализма и механицизма (по международной терминологии XIX в. – механизма, mechanismus) в биологии, он уже в 1917 г. подчеркивал, что это лишь местный (биологический) этап борьбы, проходящий через все естествознание. Речь идет, по его словам, о борьбе двух методологических установок – одна стремится признать лишь наиболее бедные содержанием и наиболее простые законы, а другая желает охватить все многообразие явлений во всей полноте.
Для самого А. А. стимулом к развитию второй установки были идеи пифагорейско-платоновской школы. Но ведь ценность платоновской философии как стимулятора научно-философской мысли, развивающей широкие абстрактно-логические категории, отнюдь не отрицается марксизмом. С другой стороны, и философия марксизма никогда не соглашалась с упрощенно-механическими представлениями о сущности природы (ср. известные слова В. И. Ленина о неисчерпаемости элементарных частиц), с попытками свести многообразие живого к физико-химическим феноменам, а социальную природу человека к биологической и т. д.
В сфере онтологии идеализм в духе Платона—Пифагора привел Любищева не к сомнению в реальности материи, как это произошло, скажем, с некоторыми представителями махизма, но к представлению о многообразии типов реальности.[8 В советской философской литературе такое представление получило название «полифундаментализм» и успешно развивается.] Конкретным стимулом к этим исследованиям послужила необходимость разобраться в вопросе о реальности таксономических категорий в биологии. Результаты этого многолетнего анализа отражены в работе А. А. [64]. Пафос этой работы заключается в том, что, с точки зрения Любищева, кроме реальности лежачего камня существует многообразие реальностей более сложных уровней, в том числе реальность абстрактных научных категорий, реальность интегральных свойств системы. Признание таких типов реальности позволяет избежать соблазна скатиться к отказу от рассмотрения глубинных законов природы, к воззрениям типа «философии случайностей» С. Лема.
С другой стороны, расширение типов реальности отнюдь не приводит А. А. к попыткам ввести в науку сверхъестественное,[9 Письмо А. А. к Ю. А. Шрейдеру от 4.8.68 г.: «Я очень близок к совершенному рационализму, утверждающему, что чистый разум принципиально может построить всю Вселенную со всеми ее натурфилософиями и этическими положениями».] но к исследованию законов целостного. В частности, и витализм был, с его точки зрения,– и это очень принципиально,– отнюдь не признанием непознаваемых особенностей живого, но требованием искать специфические законы целостных организмов, интегральные закономерности живого, не сводимые к свойствам составляющих их «кирпичиков». В этом смысле витализмом являются и общекибернетический подход с его поисками общих законов регуляции, не сводящихся к механическому взаимодействию частей, и «ирредукционизм» в общей теории систем, и многое другое, вполне естественно воспринимаемое нами сегодня. Заслуга Любищева в том, что он показал, как в истории биологии витализм часто проявлялся именно в попытках сформулировать общебиологические законы, а не в отрицании познаваемости живого. Наоборот, механизм в биологии, как правило, «обожествлял» слепой случай и ограничивал сферу научного исследования и возможности познания глубинных закономерностей.
Вместе с тем он не закрывал глаза на безыдейность многих виталистов, охотно принимавших за объяснение лишь подобие такового. Он считал, что это – дурная традиция аристотелевского направления в науке Средневековья. Настоящая наука начинается там, где в основе знания лежит точно формулируемая теория с указанием сферы ее применимости. Примером такой теории он считал теорию наследственности Менделя. Наоборот, общие рассуждения о роли естественного отбора Любищев считал имеющими право на существование лишь до выяснения точного механизма эволюции.
А. А. Любищев был убежденным рационалистом, сторонником применения дискурсивного анализа к любым явлениям. Не отрицая роли интуиции, "предзнания" при постановке научного исследования, он был убежден, что научная истина может быть доказана только в результате строгого логического анализа всех предпосылок и выводов.
Собственно, платонизм в гносеологических воззрениях Любищева проявляется в подчеркивании необходимости осмысления фактов, освещения их по возможности точной теорией, а не расплывчатыми соображениями о влияющих факторах. Платонизм выступает здесь как стимулирующий фактор, а не как доктрина, требующая принесения почтительных жертв. Платонизм в данном случае приводит к тем же результатам, к которым привело бы и последовательное аристотелианство, – к обязательности поиска универсалий, без которых вещи мертвы.
Для А. А. сущность платонизма была не в признании приоритета универсалий, а в признании их реальности и, следовательно, научной ценности. А отсюда уже следует вывод и о необходимости искать эти универсалии в системе научных фактов, т. е. в конечном счете искать фундаментальные математические законы, воплощенные в этих фактах, и, наконец, важный эвристический принцип, состоящий в том, что все, разрешаемое достаточно полной теорией, должно существовать в природе..[10 Отметим, что именно этот принцип привел Менделеева к мысли, что пустые места в его таблице обязательно должны быть заполнены (ср.: Шрейдер Ю. Л. Язык как инструмент и объект науки. – Природа, 1972, № 7).]
Любищев умел искать и находить ценности в любом сколько-нибудь серьезном философском учении. Различные системы философии для него выглядели не столько враждующими, сколько подчеркивающими разные аспекты философской истины. Беды, как он считал, начинаются там, где подчеркивание одного аспекта соединяется с огульным отрицанием всех остальных.
Позитивистская философия в определенном смысле противоположна любищевскому платонизму полным отрицанием онтологии, отказом от каких бы то ни было универсалий. Но ведь целый этап физики на рубеже столетий был неразрывно связан с позитивистской критикой научных понятий. В частности, отказ от понятий абсолютного времени и абсолютной скорости, столь важный для теории относительности, – это следствие идеи Маха о том, что физически осмысленны только те величины, для измерения которых можно предложить хотя бы мысленный эксперимент. Фактически позитивизм разрушил фиктивные универсалии (за что можно ему быть только благодарным), но не поколебал уверенности в существовании фундаментальных законов природы. Не менее плодотворной была логико-критическая философия Витгенштейна, о чем можно судить по реальным плодам семантического направления в науке, хотя согласиться с его отказом от всего, что не укладывается в рамки дискурсивного знания, значило бы обеднить человеческое знание о мире.
Для А. А. в философии была ценна живая критическая и созидающая мысль и совершенно неприемлема любая доктрина, ставящая жесткие рамки человеческому познанию.
Вероятно, самое главное для А. А. философское противопоставление можно было бы условно обозначить как противопоставление реализма и магизма. Первый – это почтительное уважение к многообразию реальностей мира, стремление увидеть и познать сущее во всей сложности, во всей диалектичности связей, со всеми реальными антиномиями. Второй – стремление навязать миру собственное мнение о нем и обратить сущее себе на пользу.
В плане биологической проблематики платоновский подход привел Любищева к идее субстанциональной формы как особой реальности, свойственной живым организмам. В этой связи особый интерес представляет его работа [10]. Здесь А. А. убедительно показывает, что возражение против введения в биологию таких понятий, как субстанциальная или потенциальная форма, не имеет естественнонаучных оснований, а базируется лишь на отрицании платонизма. Но сам Любищев здесь отнюдь не отстаивает платоновского принципа "универсалии до вещей". Полемизируя со сторонниками чисто механистического подхода, он пишет: "Разногласие, значит, только в том: считать ли все наши понятия фикциями или некоторым из них придавать значение реальных понятий. Это разногласие чисто метафизическое. Практически же ни один естествоиспытатель без понятия субстанции не обойдется и, следовательно, всегда возникает вопрос: в общей совокупности нашего опыта можем ли мы ограничиться одной субстанцией (фиктивной или реальной) или надо несколько". Его все время волновал вопрос не о примате той или иной реальности, той или иной субстанции, а проблема многообразия реальностей в природе. В сущности, он выступает здесь против махизма, против универсализма чисто эмпирического подхода, отрицающего все, что сегодня не поддается непосредственному эксперименту. В качестве аргумента он, в частности, приводит пример с шаровой молнией, существование (и притом вполне субстанциональное) которой не вызывает сомнений, хотя этот объект не удалось воспроизвести в эксперименте.
Он утверждает, что "единственным серьезным возражением против пользования такими понятиями как эмбриональное поле и т. д. является то, что работа с ними чрезвычайно трудна" и что "единственным серьезным возражением против платонизма в морфологии является чрезвычайная трудность этого направления". Действительно, изучение формы требует, в частности, очень тонкого математического анализа. Как показывают недавние работы французского математика Р. Тома (совместно с Уоддингтоном), эти исследования связаны с весьма изысканными категориями современной математики.[11 Том Р. Динамическая теория морфогенеза. – В кн.: На пути к теоретической биологии. I. Пролегомены. М., 1970, с. 145—165.]
Проблема субстанциальной формы отнюдь не случайно возникла именно в работе о наследственных факторах. Любищева не удовлетворяла сложившаяся в теоретической биологии концепция наследственности. Эта концепция, с его точки зрения, страдала прежде всего однобокостью, придавая исключительный вес тому, как передаются наследственные признаки, и почти не занимаясь тем, что передается и как осуществляется переданная наследственная (генетическая) информация. Действительно, законы Менделя (которые А. А. всегда считал одним из высших достижений биологии и приводил как пример достижения биологией подлинно научного уровня) отвечают на вопрос, как признаки родителей перераспределяются в их потомстве. Последовавшие через много лет прсле работ Менделя и много позже цитированной работы Любищева исследования по молекулярной генетике связаны почти исключительно с обнаружением материального (химического) субстрата генетической информации – кода, позволяющего передать эту информацию от клетки к клетке. На языке современной теории информации это соответствует изучению вопросов о количественных характеристиках передаваемой информации, методах ее кодирования и технических средствах передачи и хранения. Однако, как теперь хорошо известно,[12 Ср.: Гиндин С. И. Семантика текста и различные теории информации. – Науч.-техн. информация, 1971, № 10, с. 3—10.] этим еще не решается вопрос о смысловой (семантической) природе информации, который оказывается гораздо более трудным. Сам создатель количественной теории информации вынужден был печатно выступить против попыток необоснованного распространения его теории на ситуации, которые она не в состоянии описывать.[13 Шэннон К. Бандвагон. – В кн.: Шэннон К. Разборы по теории информации и кибернетики. М., 1963, с. 667—688.] Одна из характерных ошибок, совершаемых при необдуманном использовании теории информации, сводится к путанице категорий информационного кода, количества информации и самой информации. Против аналогичной ошибки в теории наследственности предостерегал в упомянутой статье А. А., когда писал: «Взаимоотношение наследственности и хромосом подобно соотношению материи и памяти по Бергсону». Речь идет о том, что ген не несет и не хранит наследственную информацию, наподобие того как бочка – налитое в ней вино, а воплощает ее (как бы конденсирует из иной субстанции), как клетки мозга – воспоминания. Информация, участвующая в некотором процессе, определяется, вообще говоря, не только источником, но и приемником информации, способностью последнего воспринимать, понимать переданную информацию, определяемую тезаурусом приемника. В свойствах последнего и заключается основная суть семантической теории информации.[14 См.: Шрейдер Ю. А. О семантической теории информации. – В кн.: Информация и кибернетика / Под ред. А. И. Берга. М., 1967.] Тезаурус приемника определяет метаинформацию, .необходимую для того, чтобы исходная информация могла осуществиться в приемнике, воздействовать на приемник. Тут явно есть по крайней мере содержательная аналогия с проблемой осуществления наследственной информации, важность (и неразработанность) которой всегда подчеркивал Любищев. Субстанциальность формы есть как раз тот мостик, через который Любищев хотел, видимо, подойти к проблеме осуществления, связывая категорию наследственной информации с субстанцией формы. Основания для такой реконструкции мысли А. А. можно найти не только в его статье 1925 г., когда понятие информации не входило еще в арсенал научных категорий, но и в письме Ю. А. Шрейдеру от 02.10.68 г. с разбором его цитированной статьи.