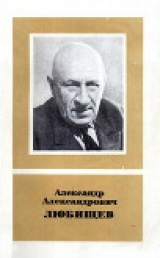
Текст книги "Александр Александрович Любищев (1890—1972)"
Автор книги: Павел Светлов
Соавторы: Сергей Мейен,Виктор Дмитриев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Квинтэссенция биологического мировоззрения Любищева – вскрытие законов целого, не сводимых к свойствам "кирпичиков". В самом деле, законы системы организмов нельзя свести к простой совокупности свойств организмов, эволюция живых существ не есть простое следствие взаимодействия особей друг с другом и со средой. Античный афоризм "целое больше суммы своих частей" можно взять эпиграфом ко всему биологическому (да и не только биологическому) творчеству Любищева. Мы не можем свести все в окружающем нас мире только к взаимодействию атомов или элементарных частиц.
С этим, кажется, согласны уже все. Но мы не можем * и оставаться на уровне одного лишь целого. Его слагаемые необходимо знать. Однако познание слагаемых не есть* еще познание целого, у которого есть свои собственные законы, идет ли речь о клетке, органе, организме или биосфере.
Глава 2
Критические исследования в области генетики
Время становления А. А. Любищева как ученого совпало с началом бурного развития генетики. Интерес к работам в области теории наследственности и пограничных с нею областей биологии он сохранял на протяжении всей жизни. В его творческом наследии мы находим работы, посвященные разбору основных генетических понятий и постулатов, статьи с критикой современных эволюционно-генетических построений, а также работы, в которых анализируется состояние отечественной генетики в период 1948—1964 гг. Эпиграфом ко всем этим работам можно было бы взять слова А. К. Толстого: «Но спор с обоими досель мой жребий тайный».
В 1925 г. вышла большая статья Любищева "О природе наследственных факторов" с примечательным подзаголовком "Критическое исследование" [10]. Этот подзаголовок, отражающий очень характерную особенность стиля работы Любищева, вполне может быть отнесен и к ряду других его статей [9, 48, 69, 72 и др.]. Любищев обладал редким даром критического всестороннего анализа понятий и постулатов биологии.
В работе [10] впервые в отечественной литературе был сделан теоретический анализ понятия "ген" и прослежена его эволюция в первые два десятилетия развития генетики. Любищев поставил перед собой задачу "синтезировать те разнородные суждения о наследственности, которые были высказаны разнообразными авторами: выделить истинное зерно в каждом учении и соединить в общую систему" [10, с. 107]. В статье процитировано 115 работ, сознательно выбранных таким образом, чтобы они содержали или принципиальные факты, или теоретические представления в области менделизма и хромосомной теории наследственности. Без преувеличения можно сказать, что статья Любищева – первое в нашей стране серьезное исследование по истории и философии генетики; лишь спустя 42 года появилась сходная по замыслу книга А. Е. Гайсииовича "Зарождение генетики". В настоящей главе мы имеем возможность остановиться лишь на некоторых основных положениях этой большой работы Любищева.
Вначале Любищев излагает свои общие взгляды на развитие науки (см. об этом гл. 6). Он полагает, что прогресс науки состоит не в накоплении окончательно установленных истин, а в последовательной смене постулатов, понятий, теорий. "Поэтому не на основе фактов строятся теории, как думают представители так называемой индуктивной науки; всегда на основе теории факты укладываются в систему" [10, с. 16]. Факты, считавшиеся интересными, перестают быть таковыми и забываются, на первое место выдвигаются другие, пребывавшие в тени.
Быструю смену постулатов в науке Любищев прослеживает, анализируя взгляды основоположников генетики. Это касалось прежде всего двух вопросов: считать ли, что каждому признаку организма соответствует отдельный ген, и является ли ген абстракцией или реальностью. Любищев сравнивает [10, с. 10] два определения понятия "ген", данных в первом и втором издании книги известного датского генетика Иогансена (1909 и 1913 гг.). В первом издании: "Слово ген свободно от всякой гипотезы; но выражает лишь тот твердо установленный факт, что многие особенности организма обусловлены особыми, находящимися в гаметах отделимыми и потому самостоятельными "состояниями", "основами", "зачатками" – короче тем, что мы именно будем называть геном ... Каждая особенность, в основе которой лежит особый ген, может быть названа единичной особенностью". Через четыре года в соответствующем месте второго издания Иогансен писал: "Мы ни в коем случае не должны себе представлять, что отдельному гену (или особому виду генов) соответствует отдельная особенность, "единичная особенность", или "признак", как любят выражаться морфологи. Подобное ранее распространенное представление должно быть обозначено не только как наивное, но и как совершенно ложное. В действительности все реализованные признаки являются реакциями всей конституции данной зиготы ..."
Эти два высказывания характеризуют собой два периода менделизма. Выяснилось, что столь элементарные, казалось, признаки, как окраска цветка или цвет глаз, могут зависеть от множества генов. С другой стороны, было показано, особенно в опытах Ф. Добжанского на дрозофиле (1924 г.), что любая мутация, как правило, затрагивает множество признаков. Что же в таком случае понимать под геном? Биологи, по мнению Любищева, разделились на два лагеря. Одни из них пришли к пониманию гена как чистой абстракции (Бауэр, Бэтсон, Гольдшмит), как удобного словесного термина при гибридологическом анализе. Другие (школа Моргана) пошли по линии связи менделизма с цитологией и, как пишет Любищев, довольно холодно отнеслись к запрещениям, налагаемым на искание конкретных генов. Был сделан ряд блестящих открытий, венцом которых явилось учение о локализации генов в хромосомах.
Однако неопределенность и двойственность в понимании гена все же оставались. Подход Любищева к существовавшему дуализму в этом вопросе (ген как абстракция и ген как реальность) очень интересен. Он считал такой дуализм вполне допустимым и даже естественным. Научное описание явления приводит к появлению понятий, которые могут либо соответствовать материальной реальности, либо нет. Возможны понятия, отражающие некую элементарную реальность, "сущность", и понятия-эпифеномены,[1 «Эпифеномен» – термин В. Н. Беклемишева (по устному сообщению А. А. Любищева). Примеч. Я. Г. Светлова.] возникающие при описании эффектов взаимодействия реальных сущностей. Наконец, в науке имеются понятия-фикции, постулирующие некоторую абстрактность, но дающие зато возможность точного, полного и краткого описания явлений и прогнозирования. Одно и то же понятие в разные периоды развития науки может иметь характер сущности, эпифеномена и фикции. Ген у Иогансена, предложившего это понятие, – фикция, удобный термин, который «совершенно не связан ни с какими гипотезами, но имеет преимущество, заключающееся в краткости и легкости комбинирования его с другими терминами, ... в настоящий момент мы используем термин ген вроде счетной единицы, возможно, природа всего того, что мы обозначаем словом ген, весьма различна» (с. 125) [2 Иогансен В. Элементы точного учения об изменчивости и наследственности. М., 1933.] Ген у Моргана – это уже реальность, локализованная в определенном месте хромосомы.
Любищев учитывает этот естественный дуализм. Он пишет: "Общее всего ген, по-моему, можно определить как абстрактное понятие, которым мы пользуемся для приложения законов Менделя ... и как та реальность, которая соответствует этому абстрактному понятию в половых клетках. Лучше в определение гена слово "признак" не вводить, так как это легко ведет к недоразумениям" [10, с. 31]. В этом смысле подход Любищева совпадает с более поздним высказыванием Моргана. В 1934 г. в своей Нобелевской лекции Морган отметил: "Среди генетиков нет согласия во взглядах на природу генов – являются ли они реальностью или абстракцией, потому что на уровне, на котором находятся современные генетические опыты, не представляет ни малейшей разницы, является ли ген гипотетической или материальной частицей. В обоих случаях эта частица ассоциирована со специфической хромосомой и может быть локализована там путем чисто генетического анализа. В практической генетической работе безразлично, какой точки зрения придерживаться" (с. 258) .[3 Морган Т Избранные работы по генетике М., 1937.]
Переход на молекулярный уровень и выяснение генетической роли нуклеиновых кислот вновь сопровождались сменой представлений о природе генов и большими дискуссиями. Выяснилось, что дискретные участки нуклеиновых кислот имеют лишь информационную, матричную функцию и не принимают непосредственного участия в осуществлении признака. На молекулярном уровне мы имеем дело с целой иерархией генетических единиц (единицы трансляции, транскрипции, репликации), каждая из которых в определенном смысле может быть названа геном. Опасение Иогансена ("возможно, природа всего того, что мы называем термином ген, весьма различна") и предостережение Любищева (не вводить в определение гена слово "признак") оказались справедливыми. Например, хорошо известный в классической моргановской генетике ген bobbed – уменьшенные щетинки у дрозофилы – на уровне ДНК представляет собой скопление многократно повторенных (около 150 раз) генетических единиц двух типов, каждая из которых кодирует определенный сорт рибосомной РНК. При исследовании высших организмов теперь возникает проблема, чему на уровне ДНК соответствуют отдельные гены, выделенные в классической генетике на основе гибридологического анализа. Любищев одним из первых ставит вопрос об отношениях гена и локуса и приходит в 1925 г. к современному выводу, что "следует отличать локус как физическую единицу в хромосоме от связанного с локусом гена" [10, с. 120]. Соотношение локуса и гена Любищев сравнивает с соотношением материи и памяти.
Интересно, что некоторые из свойств гена, казавшиеся реальными, теперь представляются эпифеноменами, например плейотропия – влияние гена сразу на множество признаков. На молекулярном уровне никакой плейотропии нет, каждый ген (дискретный участок ДНК) имеет лишь один эффект и неделим в функциональном отношении: контролирует структуру лишь одной полипептидной цепи. Множественность же проявления гена есть следствие участия продуктов данного гена во многих онтогенетических процессах, т. е. является эпифеноменом. В некотором смысле современный постулат "один ген – один полипептид (или одна молекулярная функция)" возвращает нас к первому периоду менделизма (один ген – один элементарный признак).
В статье 1925 г. Любищев с самого начала подчеркивает, что понимание наследственности распадается на две большие проблемы – передача наследственной информации и ее осуществление в ходе онтогенеза. О необходимости такого разделения первым, по-видимому, писал его учитель А. Г. Гурвич. Большой заслугой Вейсмана Любищев считал попытку единого решения теории наследственности. Однако эта попытка оказалась несостоятельной. Многие крупные эмбриологи (Дриш, Конклин, Гурвич, Леб) и некоторые генетики (например, Филипченко) пришли так или иначе к признанию дуализма наследственной субстанции, т. е. к тому, что преемственность множества дефинитивных признаков обеспечивается генами, а процесс индивидуального развития обусловлен факторами другой природы, связанными со свойствами ооплазмы. Вопрос этот вызывает споры до сих пор и остается нерешенным. Любищев показывает, что принятие указанного дуализма часто покоится на узком понимании гена, характерном для первого периода менделизма. Ряд исследователей противополагали и "основные" и "поверхностные" признаки и отказывались принять, что сложные пространственные соотношения частей могут определяться обычными менделевскими факторами. "Выдвигать же по-прежнему отношения симметрии и т. д. как не подлежащие менделевской наследственности, – пишет Любищев, – значит прямо не желать считаться с фактами: менделирует же у львиного зева двусторонняя и радиальная симметрия цветов ..." [10, с. 61]. Он приходит к выводу, что нет основания принимать какие-либо иные наследственные факторы, кроме генов, и что проблема осуществления есть, как он выражается, проблема актуализации генов в ходе онтогенеза.
Однако это "снятие" дуализма возможно, по Любищеву, при условии понимания гена как потенциальной формы. Он отталкивается здесь от представлений об эмбриональном поле, развитых Гурвичем. "Конечно, для большинства биологов понятие "потенциальная форма" покажется совершенной ересью... Но история науки опровергает такое предвзятое отношение; ведь и понятие ,потенциальная энергия" тоже долгое время отрицалось, как аристотелевское понятие, и, однако, восстановление его сослужило большую службу науке" [10, с. 98]. Хотя после выхода рассматриваемой работы прошло около 50 лет, до сих пор нет общей теории онтогенеза и проблема формообразования остается загадкой. В этом смысле знаменательно, что генетики, долгое время занимавшиеся проблемами морфогенеза, теперь приходят к принципиально сходным выводам. Так, Синнот, обсуждая действие гормонов и других контролируемых генами веществ, пишет: "Эти образуемые генами вещества, по-видимому, скорее всего действуют как эвокаторы, пробуждая или изменяя формообразовательные возможности живого организма ... По-видимому, способность к формообразованию присуща живой организованной системе, которую представляет собой организм. Само признание этого факта, даже если мы не можем его объяснить, уже представляет собой шаг вперед и может избавить нас от слишком наивного понимания природы действия генов на развитие" (с. 472, 474).[4 Синнот Э. Морфогенез растений. М., 1963.] Любищев показывает" что введение понятия потенциальной формы, пусть в качестве научной фикции, позволит освободиться от пут узкомеханистических представлений и даст теоретическую основу для математического подхода к морфологии и филогении.
Следует, однако, заметить, что в своей попытке найти единое решение проблемы передачи наследственных потенций и их осуществления Любищев сделал странное и парадоксальное предположение, что "ген эквипотенциален иду" (под идом Вейсман понимал наследственную информацию, необходимую для построения целого организма). Иными словами, Любищев считал возможным допустить, что "один ген (вернее, набор тождественных генов) принципиально может построить весь организм" [10, с. 79]. Такое предположение делало более понятными факты влияния единичных мутаций на множество признаков (плейотропия), хорошо соответствовало представлениям биологов о целостности и гармоничности всего организма и, как считал Любищев, будучи понятием морфологическим, оно должно примирить с генетикой и физиологию. Однако одновременно с этим Любищев пришел к отрицанию индивидуальности хромосом (в смысле их генного содержания) и к мнению, что хромосомы следует считать лишь "маневренными построениями", изменения в которых не есть причина мутационных событий. Это уже было ошибкой, которую Любищев впоследствии признал, написав в 1955 г., что "некоторые из утверждений моей старой работы для меня самого устарели". И, может быть, вследствие этой ошибки работа Любищева, к сожалению, почти не цитируется в обзорах по истории отечественной генетики. Эта несправедливость, конечно, должна быть осознана.
Второй вопрос, который уместно рассмотреть в связи с темой настоящей главы, это роль генетики в построении теории эволюции. Собственно говоря, необходимость глубоко разобраться в теории генетики возникла у Любищева в связи с тем, что данные о природе наследственных факторов лежат в основе современных теорий эволюции и систематики – центральных тем в творчестве Любищева (см. гл. 1). Генетика привлекла Любищева тем, что "вместо чисто исторического подхода к многообразию форм возник номотетический подход, основанный на знании точных законов наследственности". В уже рассмотренной выше статье 1925 г. он подчеркивает, что установленные Менделем законы наследования признаков (единообразия первого поколения, расщепления и независимого комбинирования признаков) являются на самом деле настоящими естественнонаучными законами, а не правилами, как думали некоторые. Ибо: а) для этих законов установлена точная сфера применения, за пределами которых они нарушаются; б) они дают возможность предсказания и опытной проверки и в) возможность количественного описания и математической формулировки. Этот номотетический подход был чужд многим ортодоксальным последователям Дарвина (например, К. А. Тимирязеву, источники заблуждений которого в вопросах генетики были подробнейшим образом и основательно проанализированы Любищевым). Генетика привела к ограничению или отрицанию многих явных или неявных постулатов дарвиновской теории эволюции, что во многом объясняет причину конфликта между сторонниками селектогенеза и авторами эволюционно-генетических концепций начала нашего века. Действительно, во времена Дарвина изменчивость считалась неограниченной (беспорядочной). Мендель, полагал А. А. Любищев, подчинил этот мнимый хаос строгим математическим законам. При этом число изменений при гибридизации, число форм вводится в рамки расщепления [52]. На низшем, внутривидовом уровне эволюции многообразие становится ограниченным (упорядоченным). Далее, после опытов Иогансена пришлось ограничить "всемогущество" естественного отбора. Оказалось, что индивидуальные уклонения (модификации) не наследуются и что отбор эффективен в популяции до тех пор, пока не исчерпана наследственная гетерогенность. В чистых линиях, несмотря на фенотипическую изменчивость, отбор не дает результатов. С другой стороны, Г. де Фриз показал, что наследственные изменения – мутации, которые отличают один вид от другого, – возникают вне всякого действия отбора, не путем накопления мелких адаптивных уклонений, как постулировал Дарвин. Теория дрейфа генов ограничила принцип дивергенции Дарвина, согласно которому всякое различие между популяциями одного вида или близкими видами есть следствие адаптации. Наиболее же серьезным ограничением постулатов селектогенеза Любищев считал закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. В специальной работе Любищев подчеркивает, что этот закон свидетельствует об ограничении формообразования в эволюции на уровне вида и выше. Закон Вавилова дал систематике живых форм теоретическое обоснование, независимое от филогении. При этом ряд фактов, которые считались доказательством ведущей роли отбора (например, мимикрия), могли быть объяснены с совершенно других позиций. Таким образом, многим тезисам селектогенеза генетика смогла поставить антитезисы. Этот процесс, за которым следует подлинный синтез, Любищев считал совершенно естественным для всякой недогматической теории. В то же время Любищев решительно не мог согласиться с тем, что этот синтез уже достигнут, как полагали сторонники концепций, соединивших данные менделевской генетики с учением о ведущей роли естественного отбора. Совокупность этих концепций в современной литературе получила название синтетической теории эволюции.[6 Майр Э. Зоологический вид и эволюция. М., 1968.] По ряду причин Любищев считал, что союз генетики и дарвинизма еще не привел к подлинному синтезу наших знаний об эволюции. Во-первых, не доказано, что факторы микроэволюции (мутации, изоляция, отбор, дрейф) достаточны для объяснения макроэволюции. Возникновение крупных таксонов может быть вовсе не связано с комбинированием и отбором случайных мутаций (например, лишайники – симбиоз гриба и водоросли). Далее, сама теория наследственности не является полностью разработанной и далеко не все известные в генетике факты привлекаются для построения эволюционных концепций.
Особенно следует остановиться на проблеме наследования приобретенных в ходе индивидуального развития признаков. В современной генетике эта проблема считается уже решенной и "закрытой". Но Любищев, будучи превосходно знаком с генетическими данными, тем не менее не считал вопрос окончательно решенным. На каких же основаниях? Исходя из своих общих взглядов на науку (см. гл. 6), он был убежден, что окончательное доказательство, experimentum crucis, в биологии невозможно. При переходе на новый уровень знания часто приходится в определенной степени возвращаться к давно отвергнутым построениям. Любищев указывал на ряд косвенных данных, природа которых не ясна: существование длительных модификаций, параллелизм наследственной и ненаследственной изменчивости (фено– и генокопии), палеонтологические свидетельства параллельного развития и т. д. Конечно, Любищев был далек от наивной веры в наследование результатов упражнений, адекватных модификаций или других форм прямого воздействия внешней среды. Он полагал, что случаи такого наследования вовсе не повседневное событие и в первом приближении с ними можно не считаться. Так, можно было не считаться с идеями алхимиков о превращении элементов; хотя само превращение возможно, но оно происходит на атомном уровне, а не на молекулярном. Не существуют ли другие формы наследственной изменчивости, кроме мутаций, – вот в чем в данном случае был смысл скептицизма Любищева.
В современной генетике есть данные, свидетельствующие в пользу этого допущения. Оказывается, в геноме может быть закодировано несколько вариантов "онтогенетических программ", каждая из которых осуществляется при наличии соответствующей внешней или генотипической среды, причем путем воздействия извне на геном возможен устойчивый переход с одной программы на другую. Такова система регуляции размножения фагов в клетках бактерий, так называемый двухоперонный триггер. Бактериофаг либо включается в геном клетки, либо начинает ее лизировать, причем выбор между этими двумя возможностями зависит от наличия в среде определенных метаболитов. Остается своеобразная наследственная "память" о состоянии среды, в которой проходил онтогенез (конечно, об онтогенезе фага можно говорить лишь условно). В некотором смысле данные молекулярной генетики возвращают нас к представлениям Геккера (Haecker, 1918) [6 Haecker V. Entwicklungsgeschichtliche Eigenschaftsanalyse. (Phanogenetik). Jena, 1918.] о плюрипотенциальности (множественности потенций). Еще в работе 1925 г. Любищев отмечал, что постулирование плюрипотенциальности указывает и на необходимость введения понятия потенциальной формы. О возможности устойчивого изменения в осуществлении признака путем внешних воздействий свидетельствуют и данные П. Г. Светлова по феногенетике мутаций «вильчатые щетинки» у дрозофилы. Однократное воздействие повышенной температуры во время критического периода развития вызвало изменение в проявлении мутации, которое «запомнилось» и сохранилось в течение многих поколений без повторного воздействия.[7 Светлов П. Г., Корсакова Г. Ф. Адаптация зачатков макрохет у мутантов forked к температурному шоку при повторных нагреваниях. – Журн. общ. биол., 1972, т. 33, № 1, с. 32—38.]
Описана и такая форма наследственной изменчивости, как пара мутации, когда под действием одного аллеля в гетерозиготе другой аллель изменяется, и эта измененная форма в дальнейшем передается гаметически. Как пишут исследователи парамутаций, "этот необычный вид наследственных изменений ... не подтверждает традиционное правило о стабильности гена и целостности его в гетерозиготе".[8 Brink R. A., Styles Е. D., Axtell I. D. Paramutation: directed genetic change. – Science, 1968, vol. 159, N 3811, p. 161.]
Открыты принципиально новые генетические явления, среди которых такие, как 1) факты относительной самостоятельности и способности к саморепродукции ряда цитоплазматических частиц, в том числе обнаружение аналога пола и способности к рекомбинации среди митохондрий; 2) поразительные случаи внедрения и длительного существования в геноме живых организмов специфических и неспецифических вирусных агентов; 3) явление соматической гибридизации тканевых клеток не только одного вида, но и таксономически отдаленных групп (мышь и человек). Все эти явления еще мало изучены и мало осмыслены с эволюционных позиций. Но они, как и ряд других фактов, свидетельствуют о явной недостаточности обычных мутационно-селекционистских толкований, на что постоянно указывал Любищев. Он вполне был в курсе новейших достижений молекулярной генетики, приведших ряд авторов к постулированию так называемой недарвиновской эволюции, когда выяснилось, что большинство эволюционных изменений в белках вызвано, возможно, нейтральными мутациями и генетическим дрейфом и что эволюция, которую мы наблюдаем на фенотипическом уровне, может вовсе не соответствовать изменениям на генотипическом или молекулярном уровнях.[9 King /. H., Jukes Th. H. Non-darwinian evolution. – Science, 1969, vol. 164, N 3881, p. 788—800,]
Разбирая одну из таких работ, Любищев делает вывод: "Я считаю совершенно недоказанным, что различие белков в организмах изоморфно различию самих организмов и что вся эволюция связана с эволюцией белков... Мы имеем разные типы эволюции, идущие с различными скоростями (в смысле морфологической дифференцировки). И как культурная эволюция несводима к генетической, так и разные формы эволюции не могут быть сводимы к одной и той же реальной основе".
Поэтому Любищев решительно не мог согласиться с генетиками, переносившими учение о ведущей роли естественного отбора на эволюцию человека. В 1970 г. он пишет давно задуманную большую работу (более 4 авторских листов), где подробно разбирает социологогенетические взгляды Р. Фишера, крупного математика, специалиста в области теории вероятности и статистики (он разработал метод дисперсионного анализа), автора ставшей классической книги "Генетическая теория естественного отбора" (два издания, 1929 и 1959 гг.). "Эта книга, – пишет Любищев, – евангелие современных селекционистов.., считающих, что после этой книги дарвинизм (селекционизм) и менделизм получили идеальное сочетание и проблема эволюции хотя бы в первом приближении окончательно решена".
Последние пять глав Фишер целиком посвятил экскурсам в социологию, которые и вызвали критику Любищева. Необходимость критического разбора он обосновывает тем, что ввиду авторитета такого выдающегося ученого, как Фишер, его генетико-социологические идеи могут быть восприняты "по доверию". В своих других статьях Любищев приводил много примеров того, что даже выдающиеся ученые помимо "убеждений разума" имеют "убеждения чувств" и в силу последних высказывают ошибочные идеи за пределами своей специальности.
Ошибочными, по его мнению, явились рассуждения Фишера о том, что судьба цивилизации зависит от генетической элиты одаренных людей и что по мере того, как элита уменьшает темп своего размножения, цивилизация приходит в упадок. В качестве возможной спасительной меры Фишер рекомендовал поощрение рождаемости элиты, которая на примере Англии отождествлялась Фишером с социальной верхушкой общества. Любищев пунктуально обосновывает слабость большинства положений Фишера. Не отрицая значения биологических факторов в эволюции человечества, Любищев ведущими считает факторы преемственности, или "идеологической наследственности", связанной с выработкой общечеловеческой морали. Очень интересным и плодотворным является проведенное Любищевым сопоставление сходных черт в генетической и идеологической наследственности и эволюции ("идеологические мутации", атавизмы, градации и т. д.)
С тех же позиций Любищев рассматривал и интересную попытку известного отечественного генетика В. П. Эфроимсона объяснить возникновение этики с точки зрения эволюционной генетики.[10 Эфроимсон В. Я. Родословная альтруизма (этика с позиций эволюционной генетики). – Новый мир, 1971, № 10, с. 193—213.] Отдавая должное широте в постановке задачи и благородству побуждений автора, Любищев не мог согласиться с чисто селекционистским подходом к становлению этических принципов. Главное звено в эволюции человеческой этики, по мнению Любищева, не естественный отбор групп, а создание и сохранение разумных идейных традиций.
Поскольку генетика в наши дни неизбежно проникает в социологию и возникают проблемы "генетика и здравоохранение", "генетика и образование", "генетика и криминология", знакомство с указанными выше и другими работами Любищева чрезвычайно важно для всех, кто занят или интересуется кругом этих важных проблем.
В этом кратком обзоре генетических работ Любищева совершенно необходимо упомянуть о проделанном им колоссальном труде – анализе развития отечественной генетики и сельскохозяйственной науки в период 1948– 1964 гг.
Любищев активно и смело вступает в борьбу за научную истину. Он знакомит со своими мыслями многих биологов и генетиков, ведет интенсивную переписку со многими учеными, интересующимися проблемами наследственности, и среди них с В. В. Алпатовым, Н. Н. Воронцовым, С. М. Гершензоном, 3. С. Никоро, П. Ф. Рокицким, П. Г. Светловым, И. И. Шмальгаузеном, В. П. Эфроимсоном, А. В. Яблоковым и другими. В этой переписке лейтмотивом звучит мысль, к которой Любищев пришел еще во время написания статьи 1925 г.: "... на определенном этапе развития ученые полагают себя стоящими на строго критической позиции, лишенной всякого догматизма. Но проходит некоторое время и их идейные дети обвиняют их в догматизме, чтобы в свою очередь подвергнуться такому же обвинению со стороны своих идейных детей" [10, с. 19].
И хотя идеал абсолютной, свободы от предвзятости и разного рода ограничений недостижим, критические исследования А. А. Любищева способствуют созданию той атмосферы, без которой само движение к этому идеалу вряд ли возможно.








