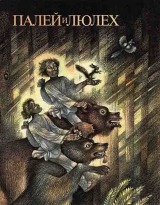
Текст книги "Палей и Люлех"
Автор книги: Павел Бажов
Соавторы: Борис Шергин,Владимир Аникин,Евгений Пермяк,Степан Писахов,Сергей Афоньшин,М. Кочнев,Иван Панькин,И. Ермаков,В. Попов,Ю. Лодкин
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Старый Ложкарь, не жалея сил, продолжал обучать людей делать ложки, а кукушка каждую весну прилетала на облюбованный бугор неподалеку от его избушки и без устали куковала, обещая людям долгую жизнь. И все, кто хоть раз появлялся на Семеновых пустошах, чтобы приглядеть место для новоселья, послушав кукушку, не раздумывая строил избу, распахивал кулигу, сеял лен и жито. А пообжившись, чтобы не скучать от безделья долгой зимой, новоселец перенимал искусство Семена-Ложкаря. Так в сердце керженских лесов на березовых вырубках поблизости от Кукушкина бугра и Семеновой избушки быстро выросло большое селение Семеново, а далеко вокруг него – много деревень, где жили хлеборобы и ложкари.
Сосновый холм, на котором жила и куковала кукушка, призывая людей заселить Семеновы пустоши, народ навечно прозвал Кукушкиным бугром. Так он и до сейчас называется, а семеновские жители издавна полюбили проводить на нем веселые праздничные гулянья.
Искусница Авдотка, помогавшая отцу с матерью на всю Русь ложки делать, тоже не пропала бесследно. После того как старая береза, укрывшая девочку, расцвела и осеменила все Семеновы пустоши и все Заволжье, выросли здесь новые березовые леса. И стали ложкари примечать, что пеньки срубленных берез весной покрываются розовой накидкой, словно в розовую кофточку пенек одевается! Тогда старые люди, помнившие беду Семеновой семьи, сказали: «Это Авдоткины рукавички на пеньках показываются, чтобы мы ее не забывали!» Продольный же шрам на стволах берез, укрывший либо дупло, либо нездоровую сердцевину, те старики называли «Авдоткиной хоронушкой».
Здесь конец сказки про Семена-Ложкаря. За все беды, лишения и гонения от царя, за бескорыстную передачу в народ доброго и полезного ремесла сама земля и люди, не сговариваясь, надолго запомнили его имя. Там, где была избушка старца Семена, родился и вырос целый город Семенов, родина и столица ложкарного промысла.
С. ВЛАСОВА
Васяткин сапожок

Про наше каслинское литье да его мастеров, что своим умом и смекалкой до большого дела в литье доходили, как из чугуна не только сковородки отлить, а самонастоящие кружева сплести или такую красоту в поделке смастерить, что диво людей брало, – слава по всему миру давным-давно гуляет. К примеру сказать, ежели конь с седоком отлит, то все как живое в литье. И седок-воин или просто наездник лихой – тоже будто живой человек. И шапка на нем, и бешмет, вглядись – и пуговки даже чернеют. Кудри из-под шапки на голове видны, и улыбочка на губах играет. Да что там кудри, если чугунный наездник от беды скачет, то весь он на своем чугунном коне точно встревожен чем-то. На лице не улыбка тогда, а забота видна. Об волшебниках же, что эти поделки отливают, легенды и сказки в народе живут…
Про Васяткин сапожок тоже не одна сказка сложена. Кто говорит, будто в революцию в таком сапожке парнишка Васятка в цеха тайные бумаги носил… От большевиков к рабочим были эти бумаги, на бои с хозяевами заводов рабочие поднимались. А рождение этого чугунного сапожка вот каково:
…В старое, престарое время в дремучих лесах, на горах Уральских затерялся заводишко один – Каслинским его назвали. Жил в нем вместе с другими крепостными людьми и Михаил Торокин. Какой он был из себя, не донесло до нас время, а вот то, что он мастерко был отменный по чугуну, – это известно давно.
Говорят, от деда он еще слыхал, как их весь род в кузнецах век коротал, на огненной работе горел. Все редкостные кинжалы ковали, а один в их Торокинском роду отменным кольчужником был. Вот куда их родовая-то уходила.
– Не проволоку тянул, – хвастал дед Михаилу, когда тот подрос да в цех угодил, душной низенький сарай с пристройками.
Любил Михаил слушать дедовы сказки про кольчужников в их роду. И про то, как дед говорил:
– Слава-то про кузнецов издалека ведется, чисто великаны кузнецы. Они тебе и кинжал откуют, и кольчужную рубаху сплетут. Только сноровку надо иметь большую.
Но не хитроумное кольчужное мастерство занимало Михаила, с другой думой он не расставался: не чугунок для щей или топор изладить, а настоящую поделку – вроде кречета в небе или подсвечник на столе.
Не враз пришло умение к Михаилу, не сразу он модель орла вылепил, а потом и отлил по этой модели птицу и такую, что сам управитель принялся пот с макушки вытирать от радости при виде такого чуда. Это тебе не из глины или воска штучка, а из чугуна отлитая. Долговекая красота.
Покрыло время, как снегом запорошило, тайну мастерства и умения Михаила Торокина, как он первым в чугун жизнь вдохнул, как в его руках чугун человеческой силой заиграл и как его орлы и кречеты в полете – вот-вот улетят.
Большие деньги Демидовы загребали от уральского железа, немало получал доходов заводчик и от литья каслинского. Во дворцы каслинские поделки князьями и графами покупались, ну а Михайловы наособицу.
Год от года росло мастерство Михаила, только жизнь оставалась такой же голодной и тяжелой, какой она была у прадедов и дедов его. Известно, в крепости жили. Да и не по душе было Михаилу разных драконов лепить и русалок отливать, что приказывали хозяева. К другому его сердце тянуло – что кругом в жизни было. И хотел он это в чугуне на века показать.
И вот как-то раз занемог Михаил от работы, короткий век-то был в ту пору у работных. Ну жена, как полагалось, натопила печку в избе пожарче – дело зимой было, – залез Михаил на печку, укрылся тулупом покрепче и уснул. Сколько времени проспал, неведомо нам, только вдруг среди ночи проснулся. А ночь месяшная выдалась…
Проснулся Михаил, весь в поту лежит и по избе глазами шарит. Хорошо все видать. Тут полати, и на них сын и дочь спят. Тут жена у печки сидит, согнулась у каганца, лен теребит. На залавке чернеют модели новых поделок, приказчиков наряд: для господского дворца в самом Петербурге вылепить и отлить два чудища-льва, диковинных зверя с человечьим обличьем.
Не по душе эти поделки мастерку.
«То ли дело отлить коней на скаку. Как живые, они бы стали возле дворца», – думает Михаил, но не силен он пересилить своей думой хозяйскую прихоть.

Лежал-лежал Михаил так, думал и вдруг его взгляд на старые сапожишки сына упал. У порога они стояли. Низенькие, с петельками и заплатами на боках. Защемило сердце у Михаила, глядя на сапожишки.
Вся его горестная жизнь ровно в этих сапожишках вызвездилась, с ее нуждой, горем и болезнями. Закипело сердце у Михаила, и подумал он: «Погоди, Васятка, – так сына звали, – увековечу я нашу жизнь, всю ее в твоем сапожишке покажу».
И показал.
Когда оздоровел, говорят, первым делом за сапожишко чугунный принялся. Отлил такой, как настоящий Васяткин сапожок. Низенький, весь в складочках, морщинках от долгой службы. Широконосый с тремя петельками: одна позади и двумя по бокам. Двумя здоровенными заплатками – одна на носке, а другая на голенище. Хорошо их видать, ведь отец сам их латал. Носок сапожка кверху поднялся, ну все как есть, и вправду, на сапоге.
Любовались люди поделкой, сразу признав Васяткин сапожок. Только приказчику не поглянулась. Кричать поднялся на Михаила, как увидал поделку. Дескать, что это за работа – насмешка одна! Увидят господа – борони Бог! Разве дозволено с простого сапога украшение отливать, хоть и сделана она руками, как полагается?
Шумел, кричал приказчик за сапожок и строго-настрого запретил чугун на безделушки переводить, не поняв так всей красоты поделки, которая в точности все передала.
Думал Михаил отлить поделки о живых людях: как сено мужики из леса возят, как лихая тройка скачет по полю зимой, а за ней бегут вдогонку волки – уж совсем настигают. Только так и не довелось ему «лбом камень прошибить», любимые поделки сделать. Не хотел под плеть ложиться, да и сиротами сынов оставлять.
Много лет спустя его племянник, тоже Василий, когда уж в силу входил как мастер по чугуну, вынул из горки чугунный сапожок и задумался. Понял, какая думка была у дяди, когда тот лепил сапожишко. Понял и в цех взял поделку. Как есть повторил из чугуна сапожок и отдал его людям.
Не только поколения Торокиных и его внуков, но и умельцы Каслей Широковы и Вихляевы, Глуховы и Гилевы – все, все сумели правду про свою жизнь через чугун рассказать, а не только волшебных драконов отливать.
Тем и славится уменье каслинских мастеров, что своей живой кровинкой сумели чугун оживить, на века его сделать…
Ю. АРБАТ
Древняя братина

Про хозяина тебе рассказать, голубок? Ну что ж, расскажу. Только история эта такая давняя, что начинать ее следует, как говорится, с сотворения мира.
Мать и отец у меня – природные фарфористы. По мужской линии у нас все точильщиками работали, нынче это формовочная профессия – одним словом, вытачивали посуду. Женщины с малых лет в живописную шли и так до слепых глаз там и вековали. Дома меня оставить не с кем, ну мать и брала в цех. Сама она садилась к длинному столу, за которым трудилось еще одиннадцать таких же мастериц, а меня укладывала в корзинку возле себя. Помню, все шутила:
– Я тебя грудью кормила, а ты уже скипидар нюхал.
Так что, выходит, я не то что с пеленок, а с деда-прадеда фарфорист.
Ходить выучился, за стол в живописной держась. Идешь от табуретки к табуретке, все поближе к окну норовишь: оттуда видно, как дым из фабричной трубы валит, – а навстречу тебе, за те же табуретки, как за надежную опору, цепляясь, шагает мой годок, сын другой живописки. Ну, иной раз и подерешься. Только матери нас живо в чувство приводили: шлепок, и все тут. Потому мастер, не дай Бог, крик услышит, – сразу велит гнать из мастерской.
Подрос я и в точильщики не пошел. Нарушил, можно сказать, обычай. Какой интерес формовочную пыль глотать, все свои корня отравлять ядовитым воздушным пространством? Целый день, будто в тумане, в этой пыли. Не жильцы они считались, точильщики-то, все до единого чахоточные. Я, положим, не только это в резон брал, – меня само живописное дело манило. Сидят люди за длинным столом, один байку рассказывает, другие слушают. А тоненькая кисточка сама в руке ходит. Глядишь – на лазури-мураве розан расцвел, листочки-бутончики выпустил, темно-коричневые тычинки появились. Обожжешь чашку в огне, и эти тычинки, словно золотые бусинки, рассыплются.
В ту пору с ученьем – одно горе, не то что нынче.
Мастер тебя под свою руку то ли соблаговолит принять, то ли нет. А и примет, так на посылках набегаешься. Уж я и цветы выводить навострился, и рука у меня окрепла, так что старых живописок в работе обгонять мог, а не признают, нет. Расчет лукавый: если учеником числишься, хозяину от этого прямая выгода – платил он ученикам сущие гроши.
До двадцати двух лет состоял и я в учениках. Женился, жена на сносях ходила – вот тогда дождался я настоящей работы.
Ну, это все – присказка, а теперь слушай о том, с чего начали: про хозяина. Расскажу, как я самое естество его распознал.
Работал у нас старый мастер Федор Николаевич, и хранил он великие богатства. Там в его запасе и самоличные рисунки, и наброски учителя еще не знай каких времен, и листы из книги – изображения древнерусской деревянной резьбы, боярской парчи, кружевного плетения, и росписи на нижегородских, правильнее сказать, городецких прялках, с такими конями, что взора не отведешь, и много всякой другой радости. Старик брал оттуда узоры для посуды, а листы прятал, чтобы никто другой не попользовался: тогда каждый свою выгоду стерег.
В неловкий час забыл Федор Николаевич листы на подоконнике. А я в живописной от зари до зари вертелся, подметил это. Вот, скажу тебе, голубок, где счастье мое открылось! Раньше-то я считал, что все мастера сводят рисунки. Были, мол, с незапамятных времен чашки, их живописцы и повторяют в тысячный раз, – листок к листку, точка в точку. А если новая парочка – то есть чашка с блюдцем – появилась, все знали: привез ее хозяин из-за границы как образец, теперь, следовательно, будут сводить этот самый рисунок. И вдруг увидел я среди листов что-то похожее на рисунок Федора Николаевича: пышные цветы с узорными сердцевинками, жар-птицы на ветках, хитросплетение трав. Ну, молодежь, хоть она и неумелая, а дерзкая на дела – мне тогда и пятнадцати годков не минуло, – решил я сам рисунок составить. И что бы ты думал, голубок, – вечер посидел и нарисовал так, как в листах видел. До того осмелел, что даже самому Федору Николаевичу мое художество показал.
Ох, и задал же он мне трепку! Таскает меня за уши, а сам приговаривает:
– Всякая птаха своим носком клюет. А у тебя сызмальства на чужое добро руки зудят. Отвыкай от того, отвыкай.
Я ополоумел – боль-то какая, – кричу ему:
– Отпусти, дядя Федор! Чего дерешь? Сам-то тоже из книги узоры брал.
Сразу отпустил меня Федор Николаевич. Я сижу, уши тру, слезы глотаю, а он тихо так, в половину голоса, мне выговаривает:
– Того не понимаешь, что я одно беру, а ты – другое. Если бы с толком пользовался, я бы тебе поперек слова не сказал. Для меня важна сама душа узора. Ну, как тебе это попроще растолковать – ключ я к рисунку ищу. А ты раз-раз и весь узор, как есть, с бархата тянешь. Да и плохо тянешь, фальшиво. Вроде бы человека нарисовал: одна нога короче, другая длиннее, а на руке восемь пальцев.
Тогда я, по правде сказать, не понял старого мастера. Думал – просто-напросто обиделся он на мои слова. Какая разница: беру и беру. А сейчас-то знаю: мудрый мужик. Жаль только его: уж очень и хозяин и управляющий его прижимали, все гнали – скорей, скорей, подолгу работать не давали. Мастер руку набил, а легкость, крылатость в рисунках потерял. И запил с горя. Сколько таких людей раньше спивалось – не счесть!
Но что ладно вышло – стал Федор Николаевич с тех пор задушевно говорить со мной о разных живописных делах и даже рисунки – все свое добро – не прятал, как испокон веков у всех мастеров-секретчиков водится.
Скоро доверили мне важный заказ. Понадобилось для главного Кузнецовского магазина в Москве расписать большую вазу. Управляющий меня испытать решил. Я сделал по совету Федора Николаевича: цветы из сказки и городецкого коня в травном узоре. Но уж сам поразмыслил, что к чему приложить.
Долетела весточка из Москвы: хозяин, Матвей Сидорович Кузнецов, одобрил мое мастерство и распорядился вазу выставить в витрине, а мне пожаловал двадцать пять рублей наградных. Ваза-то в пять раз дороже стоила, но мне и те деньги – невиданное богатство.
Подходит как-то смотритель живописной – Нероном его прозвали, паскудный был мужичонка, а над нами владыка, – и говорит:
– Лександр, иди в контору, Павел Николаевич тебя требуют.
Я соображаю: зачем это управляющему понадобился? Боялись его у нас и не любили: прижимистый старовер. На каждой конторской книге у него церковнославянскими литерами выведено: «Господи, благослови», а обсчитывал рабочих, как последний басурман. За добром он никогда не кликал, вот я и сробел.
Но тут получилось по-иному. На поклон мой ответил милостиво, напомнил о вазе:
– В Москве будешь, пройди на Мясницкую, посети магазин, взгляни, как красуется в витрине продукция твоего рукомесла.
Он у нас любил говорить пышно.
Я по обычаю отвечаю:
– Покорно благодарю, Павел Николаевич!
А он далее:
– Матвей Сидорович честь оказывают. Изготовят тебе в точильной братину. Знаешь: сосуд такой, вроде ковша. В старое время на пиру братина с вином вкруговую шла.
Руками он этак изобразил мне, что это за братина, а потом и приказывает:
– Расписывать ты будешь. В старорусском духе. У тебя это получается.
– А скоро надо? – спрашиваю. У самого холодок на сердце. Вдруг такой срок назначит, что и подумать над вещью некогда. В памяти у меня все Федор Николаевич, покойник, стоял.
Управляющий долго и затейливо поучал, а смысл такой:
– Прохлаждаться некогда. Однако и спешить не след. А наиважнейшее состоит в том, чтобы Матвею Сидоровичу угодить.
Я по простоте размыслил было, что с меня обычной работы спрашивать не станут, – плохо еще знал хозяина. А приказ вышел жестокий: над братиной трудиться в свободное время. Где ж его взять, это свободное время-то? Его минутами копить пришлось. От зари до зари в живописной штаны просиживаешь, кистью водишь. Домой доберешься – одна забота, поесть бы да на боковую. Но я в ту пору на все рукой махнул – и на сон и на еду, только бы к братине подступиться.
Ключ к рисунку взял такой. В папке у дяди Федора видел беглый набросочек узорный резного наличника необыкновенной красоты. Протянулась русалка, полудевка-полурыбий хвост. Учитель мой рассказывал, что на Волге, где он узор этот срисовал, такое чудо берегиней или фараонкой именовали. Все тело в чешуе, хвост в три лепестка, с головы кудри витком спадают, в руке – цветок на манер тюльпана, а сверху и снизу – бордюры. Будто бы с незапамятных времен подобной резьбой украшали волжские парусные суда-расшивы, а особенно «казенку» – каюту лоцмана на корме.
На братине задумал я изобразить эту дяди Федорову берегиню и льва, которого резчики тоже любили, и разные мудреные цветы, и вьющиеся травы. И упорней всего пригрезилось мне так заплести, запутать весь узор, чтобы не сразу и разобрали где что.
Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Полгода я трудился, ночей не досыпал, на гулянки не ходил. И кажется, добился своего. Сочинил вещь в подлинном русском духе. Шесть раз отправлял братину в огонь для обжига – ведь каждая краска своего обращения требует.
Вот и коричневые жилки, контуром пропущенные по всей братине, заблестели солнцем-золотом. Кажется, все. И вдруг заметил я возле ручки маленькую трещинку. Ну, просто пустяковинка, вроде осенней паутинки. Бывает это часто при многократной посадке в огонь. По моему соображению, не велика беда – вещь художественная, не чайная чашка, не полоскательница.
Явился к управляющему фабрикой, сказал:
– Так и так: дозвольте доложить – готова братина.
Управляющий передал хозяину, и вот сообщают: изволят-де прибыть на фабрику сам Матвей Сидорович Кузнецов.
Тебе-то его видеть, понятное дело, не довелось, так я опишу, какой он внешне был, – о сути его ты и сам вывод сделаешь. Росту немалого, и дородностью его Бог не обидел, черные глаза навыкате, с поволокою, бородка надвое расчесана, и усы кольчиками, – любил, одним словом, в приятности и красоте себя содержать. Но красива ягодка, да на вкус горька: скупердяй несусветный, одно слово – жила. Всегда твердил: «Копейка покатна: выпустишь из рук – не настигнешь». Умел он эту копейку к другой копейке прибрать, рубль накопить и в дело пустить. И с живого и с мертвого драл, со вдовы двугривенный за покойного мужа – горновщика или точильщика – взыскивал.
И все-таки я прикидывал: при всей скупости достойно отблагодарит меня Матвей Сидорович. Ведь подобную вещь я второй раз не сотворю. Рассчитал, какие долги отдам, что куплю жене, ребятам, кому из родни подсоблю.
Вот и слух-говорок на фабрике пронесся:
– Прибыл хозяин.
Иду по двору со святыней: братина в женин платок укутана, держу, как грудное дитя, шаг сделать боюсь, носком сапога сначала землю трогаю.
Развертываю в хозяйском кабинете, прячу платок, а самого подмывает: вот, поди, удивится!
Обошел вокруг стола Матвей Сидорович раз, другой. Вижу: доволен.
И вдруг заметил Матвей Сидорович трещинку – ту самую, с осеннюю паутинку. Долго рассматривал. Ко мне-то он спиной встал, а я примечаю: затылок у него вроде пунцовый сделался. Ну, думаю тут, без фальши сердится.
Как рявкнет он на меня:
– Трещина!
Круто так повернулся, братину чуть не к носу сует и – в голос:
– Не уберег? Сгубил доверенную вещь?!
Я было хотел в полное оправдание заявить, что, мол, не велика печаль: кто ее, паутинку-то, станет рассматривать? Опять же не в моей власти сберечь товар во время обжига.
Не дал мне хозяин и слова вымолвить. Кричит как одержимый:
– Мои материалы тратишь задарма! Червонного золота вон сколько извел, а соблюсти работу не можешь!
И ну меня честить:
– Дармоед, лентяй, разиня!
Красный весь, трясется, – он всегда клокотливый был, а сейчас совсем из себя вышел.

Не стерпело у меня сердце. Что же это, думаю, за несправедливость такая! Я полгода мученическую жизнь вел, а он, рачьи глаза, меня же корит! Как гаркну ему вразрез:
– Э-эх, Матвей Сидорович, разве можешь ты ценить настоящую работу?!
И стал завертывать братину опять в женин платок, хоть руки трясутся: узел скрутить сил не хватает.
Хозяин плюнул и из кабинета долой. Так дверью хлопнул, что в шкафу фарфор зазвенел, – там образцы для показа всегда стояли.
Что же мне делать? Я с братиной к себе в живописную. Иду и думаю: выгонит.
В живописной меня ждали, любопытство всех брало: как-то наградит хозяин. А увидели и в одно слово:
– Не угодил?
Но самая-то главная беда еще впереди ждала.
Не успел я товарищам моим все путем рассказать, как является сын хозяина, Борис Матвеевич.
– Отец приказал, чтобы ты братину при мне разбил.
И встал как истукан, ждет.
Я сначала думал: ослышался. Смотрю на хозяйского сына, и слов у меня нет. А Борис Матвеевич повторяет:
– Разбей!
Помертвел я весь:
– Как, говорю, так: разбить?
– А так: разбей, и вся недолга.
Мотаю головой:
– Не могу.
Хозяйский сын сердиться начал:
– Что это значит: не могу. Приказано, стал быть, выполняй.
Будто тронутый, я все головой качаю, а братину к груди прижимаю.
Тогда Борис Матвеевич пригрозил:
– Ослушаешься – с фабрики долой. Это – отцова воля. Дан тебе срок до завтрашнего утра.
И ушел.
Я домой собираюсь, и ноги меня не держат, шатает, будто травинку на ветру.
Сначала я храбрился.
«Пес с ним, – думаю о хозяине. – Кину все и уйду. Что я, каторжный, что ли, ядро у меня к ноге привязано? На другие-то его фабрики меня, понятное дело, не примут, так я подамся к его двоюродному братцу Ивану Емельяновичу в Новгород или Чудово. Второй Кузнецов хоть и не столь богат, как Матвей Сидорович, а тоже на трех фабриках фарфор выпускал и хорошего мастера поди-ко взял бы».
Вроде и полегчало мне от такого решения.
А дома пришел, рассказал – беда. Все зачали голосить, словно по покойнику. Да ты и сам посуди, голубок мой ласковый, что сталось бы, коли я дом свой покинул. Весь мой капитал – руки. И они не свободны, на них обуза: семья. Сбережений – ни грошика. О награде за братину думая, я еще в долги влез, – выходит, сам на своей шее петлю затянул. Ну, допустим, кину все, как задумал, доберусь до Новгорода. А семья? Как прокормятся жена, ребятишки, мать слепая? Как с долгами расплатятся? Получилось, что семья-то, она в моем положении тяжелее ядра.
Всю ночь меня эти мысли донимали. Так наутро ни с чем и пошел на фабрику. О Новгороде не помышлял, а и себе боюсь признаться, что разрушу свое творение.
Хозяйский сын Борис Матвеевич спозаранку заявился в живописную. Увидев меня, подошел, молчит, только сычом смотрит, узнать хочет, на что я решился.
– Бить? – жалобно так спрашиваю и гляжу на Бориса Матвеевича, может, сжалится черствая душа. И плывет его лицо передо мной, потому что слезы мне свет застят.
– Бей! – командует он.
Глотнул я воздуха, взял чугунный круг от турнетки, на которой тарелки и чашки крутят, когда расписывают или отводят золотые усики и ленты, и ударил по братине.
Хочешь верь, хочешь нет, таково-то протяжно она голос подала, будто с жизнью прощалась. В тумане вижу, распалась братина на две половинки, и сникли они на стороны, как подкошенные, в сердце сраженные. А хозяйский сын требует:
– Еще ударь!
Ударил я еще и еще. Вот, думаю, вдоволь покуражился хозяин и надо мной и над моей работой, оценил ее.
А Борис Матвеевич аккуратно собрал черепки, даже ничтожные крохотки, и унес. Опять, видно, выполнял приказ отца.
От такого горя не скоро оправишься. Однако время залечило, да и товарищи помогли. Объяснили, растолковали, что другого от хозяина нечего и ждать: выжига он был, выжигой и остался.
Все представление с братиной Кузнецов разыграл не зря. И меня унизил, и сам внакладе не остался. Узнал я обо всем некоторое время спустя. Велел он черепки обработать, будто они старее старого и в земле долго пролежали, потом склеить. Выполнили его распоряжение: блажит, мол, хозяин, – сначала приказал разбить, а теперь восстанавливает. А он какому-то заезжему богачу-охламону продал братину под видом русской древности. Деньги большие взял и все приговаривал:
– Теперь так работать не могут: тайна мастерства потеряна.
Вот вспомнил все, растравил сердце и опять не в себе. Эх, голубок, такие-то бывали в прежнее время истории!








