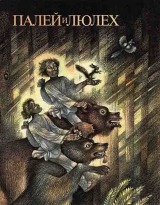
Текст книги "Палей и Люлех"
Автор книги: Павел Бажов
Соавторы: Борис Шергин,Владимир Аникин,Евгений Пермяк,Степан Писахов,Сергей Афоньшин,М. Кочнев,Иван Панькин,И. Ермаков,В. Попов,Ю. Лодкин
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Ю. ЛОДКИН
Хрустальная радуга

Небось слыхали, как в прежние времена день духов праздновали. В тот день под вечер только старики да малые детишки дома оставались, а все, у кого хоть искорка в сердце осталась, спешили в бор сосновый к озерцу, к дальней мельнице. Костры там пылали, летели от костров в небо искры, смешивались те искры с звездами яркими и было еще светлее у озерца. Девки статные да красивые хороводы водили, парни через костры прыгали, а там, где более всего народ толпился, – пляс удалой шел. А где плясуны, там и Гошка Дубов – мастеровой с фабрики хрустальной. Коль Гошка входил в круг, то и девки свои хороводы бросали: посмотреть было на что. Бывало, пойдет с перекатами, с перехватами, рук и ног не видать. Пляшет и в этот раз Гошка, а сам по сторонам поглядывает: какую бы девку в круг вызвать? – думает. Смотрит, стоит девица, не видал ее раньше мастеровой. И подумать Гошка не успел, приглашать ее в круг аль нет, а ноги уж сами поднесли парня к девке. А она стоит, глаза опустила, платок в рученьках теребит. Так, может, и стояла бы, да вытолкнули ее в середину круга. И ожила тогда дева. Взмахнула платком, вскинула голову, уколола Гошку взглядом и пошла по кругу, будто лебедь-птица. Тихо идет, плавно, а Гошка вкруг нее кочетом ходит. Фабричные кричат:
– Покажи, Гошка, наших. Пусть знают!
Пляшет парень с девицей незнакомой и устали не знает. Хорошо, балалаечник устал и замолк… Кончился пляс. Гошка к дружкам кинулся, спрашивает:
– Что за девка-то будет, с коей плясал?
– Горничная хозяйская, – отвечают дружки, – Анной звать будто бы.
Прошло с того дня уж больше месяца, а у Гошки каждодневно с утра до вечера одна мысль: как увидеть Анюту – горничную из дворца хозяйского. Мастеровых-то ко двору мальцовскому близко не подпускали. Раза два видел Гошка Анюту в церкви, да подойти не решался.
«Нужно ей о себе какой-то знак подать», – решил парень.
А на другой день, в гуте работая, стал из стекла куклу делать. Сам над стеклом колдует, а все об Анюте думает. Лицо ее ему вспоминается, брови, глаза, коса русая до пояса и сарафан бирюзовый…
Сделал Гошка куклу, смотрит, а она ну как ни есть на Анюту похожа, и не думал так сделать – само вышло.
«Только чего-то чуточку не хватает, – подумал парень, – ах, вот оно дело-то в чем! Руки по-другому надобно сделать». И сделал. Стоит Анюта стеклянная в сарафане бирюзовом, одна рука крендельком в бок упирается, а вторая – с платочком, будто шея лебединая, вверх тянется.
– Ну вот теперь уж совсем Анюта, – вздохнул Гошка.
Был у мастерового средь прислуги мальцовской знакомый дед – конюх.
Подкараулил Гошка деда невдалеке от дворца хозяйского, сунул сверточек и говорит:
– Передай Анне.
Сказал так и ушел. Дед-то глуховат был, не расслышал, кому передать надобно. Да развернул Гошкин подарок, ахнул:
– Смотри-ка, горничная наша, Анюта! Ей, значит, и передать нужно…
Дня через три после того случилось воскресенью быть. И опять Гошка Анюту увидел. Увидела и она его – улыбнулась. А Гошка, набравшись смелости, подошел к Анне.
– Здравствуй, красавица, – говорит.
– Здравствуй, – шепнула Анюта и обойти уж Гошку хотела. Но тот ее за руку взял и не отпускает.
– Не беги… Разговор у нас недолгий будет. Скажи, пойдешь замуж за меня?
Смотрит Анюта на мастерового, глаза улыбаются, а слова вымолвить не может. Вырвала она свою руку из Гошкиной и побежала. И уж далеко была, обернулась, крикнула:
– У барина нашего спроси!
Не стал Гошка с этим делом канючить. На другой день в мальцовские хоромы подался. Слуги его не пускают, а он:
– Пустите, по делу, – говорит, – иду.
На шум вышел сам хозяин. Гошка хлоп ему в ноги – так, мол, и так, отдай за меня, барин, горничную свою.
Усмехнулся Мальцов:
– Ладно, Гошка, отдам тебе ее, но ты меня своей поделкой хрустальной удивить должен. Как удивишь – забирай Анюту, твоя.
Знал Мальцов, что у Гошки руки золотые, что мальчонкой на фабрику хрустальную его взяли, и ныне нет мастеров, ему равных.
Так и ушел Гошка от барина ни с чем.
Недели через две заходит к Мальцову управляющий и графин подает. Простой с виду-то графинчик, только беловатый чуть-чуть. А на графине по кругу надпись сделана: «Так испей же винца, не винца, так пивца, не пивца, так квасу, не квасу, так холодной водицы».
Управляющий держит графин за горлышко, ухмыляется и поворачивает посудину, чтобы хозяин прочитать написанное мог.
Прочитал Мальцов и нахмурился:
– За этим ты ко мне и заходил? Велика хитрость – на графине буквы вывести.
Тут управляющий и показал хозяину горлышко графина. А он, оказывается, искусно, опять же стеклом, на четыре части разгорожен: и для винца с пивцом, и для квасу с водицей место отведено. Мальцов смотрит, глаз не отводит.
– Кто сделал? – спрашивает.
– Гошка Дубов, – поклонился управляющий.
Мальцов сразу в лице изменился и говорит:
– Эка невидаль! У меня в Гусь-Хрустальном такие графины десятками дуют. – Повернулся и ушел.
– А Гошке-то что сказать? – пролепетал ему вслед управляющий.
– Не удивил он меня, – буркнул, не оборачиваясь, Мальцов.
После этого Гошка приуныл. Тут-то и пришел ему на помощь старый мастер Родион Корюнов. Приковылял он на трех ногах с поводырем в гуту и спрашивает:
– Где тут Гошка Дубов, тот, коему диковинку сделать надобно?
Указали ему Гошку. Отвел Родион его в сторонку, достал из кармана камень какой-то и говорит:
– Вот тебе, хлопец, возьми. Это александрит-камень. От деда мне достался, да не пришлось мне его в дело пустить, гляделки мои ослепли. Хотел внуку передать, да, видно, судьба тебе велела им пользоваться. Истолки в порошок камень этот. А потом как хрусталь жидкий на трубку наберешь, чтоб вазу выдуть-то, поначалу его в порошке обкатай, а потом уж вазу делай. Сказал так Родион, нащупал руку Гошкину, сунул ему александрит-камень и пошел прочь.
Сделал Гошка, как старик велел. Завернул он вазу свою в чистую холстину и во дворец к Мальцову пошел.
Пустили слуги Гошку на этот раз – знали, зачем идет.
– Ну что, опять удивить хочешь? – глянул недовольно на мастерового Мальцов. – Удивляй.
Подошел Гошка к столику резному, что у окна стоял, и развернул вазу. Ваза-то обыкновенная, из стекла будто простого сделанная. И рисунка на ней нет никакого.
– Ну и сделал чудо? – расхохотался с издевкой Мальцов. – Удивляй, а не то высечь прикажу.
– А ты, барин, не гогочи, – осмелел от обиды Гошка, – а встань и погляди на вазу вот отсюда.
У Мальцова от дерзости мастерового лицо побагровело. Но все же встал на то место, которое Гошка указал, и, не отрывая глаз от вазы, стал ходить по гостиной.
Один шаг – и ваза становилась фиолетовой, как снег вечером зимним, еще шаг – зорькой пламенела, потом – как луговая травушка зеленела, а то голубизна в ней открывалась такая, будто в небо весеннее смотришь. Ну как есть радуга. Только радуга из хрусталя сделанная.
Гуляева ваза
Хрусталь раньше на новом Дятькове варили, а вот грань-то хрустальную по всем работным слободам резали: и на Пильне, и на Крупчатке, и на Буяновке. Как где запруда есть, так и колеса водяные ставили, а от этих колес камни шлифовальные крутились. Из всех мастеров по делу алмазному первым был Ефим Гуляев. Жил Ефим бобылем на отшибе от всех слобод. Посреди поля хата стояла да три сосны над ней. Поле то так до сей поры старики кличут Гуляевым. Обижен судьбой Ефим был. Когда ему десятый годок пошел, он в гуте на относке хлопчиком работал да ночью в яму халявную свалился. Из-за того и стал горбуном. И всего-навсего Ефиму-то было дадено, что глаз острый да руки. С такими бы руками, ростом под притолоку надобно быть. Ан не вышло. А уж мастер был, каких поискать! Злые да завистливые языки говаривали, что Гуляй с чертом дружбу водит. Было чему позавидовать. Бывало, соберутся заводские на шлиховне и давай друг друга подзадоривать, кто стекло на круге прорежет – чтоб насквозь, а вода через порез не пробегала. Ни у кого не выходило. Один Ефим приноравливался. Сказывают, один француз Мальцову большие деньги давал, чтоб тот Ефима с ним за кордон отпустил.
Много поделок Гуляевых по свету разошлось, поди, и сейчас люди ими любуются, но одну вазу Ефим сделал такую, какой не бывать более.
Однажды зимой дело было. Ночи длинные, а у бобыля-то еще длинней. Не спится Ефиму. Ворочается с боку на бок, а сон нейдет. За полночь время пошло. Лежит Ефим, и кажется ему, кто-то в плечо его легонько толкает. Откроет глаза, нет никого. Да и кому быть-то, до ближайшей слободы, почитай, версты полторы будет. Закроет глаза – в плечо опять: толк, толк. А за окном ветер свистит, стужу нагоняет.
Прислушался Ефим, будто сквозь шум ветряной, кто-то далеко «вставай, вставай» тоненьким голоском тянет. А в плечо опять: толк, толк. Открыл глаза, приподнял голову: никого нет, и голос пропал. Жутко стало Ефиму. Со страху-то встал, взглянул на окошко и ахнул. Сквозь стекло замороженное свет лунный пробивается, а на стекле… Много диковинок Гуляй видал, да и сам делал, но таких не довелось. Расцветил мороз оконце Ефимово цветами невиданными, посреди стекла будто пальма-дерево, а внизу трава диковинная в венок сплелась. Долго Ефим любовался, а потом думает: «Дай угольком на стенке нарисую».
Только стал лучину засвечивать, дунул ветер с такой силой, что разбил стекло и лучину задул. Ефим окно зипуном заткнул и стал утра дожидаться. Чуть светать начало, выбежал наружу – и под окошко. Думает, сложу стекло-то, на рисунок еще посмотрю да и на вазу его нарежу. Копался, копался в сугробе, да ни одной боиночки найти не может. Совсем уж рассвело. До земли до самой Ефим дошел, а стекла нет и все. Слышит, за спиной у него кто-то покашливает. Оглянулся – старикашка древний улыбается и бородой трясет.
– Что, Ефимушка, ай в снегу-то день вчерашний ищешь? А день-то вчерашний человеку токмо в память дается.

Сказал так и пошел прочь по сугробам. Отошел малость, в ложок спустился и нет его. Ефим вдогонку побежал. Через сугробы до ложка добрался, а старик как в воду канул.
«Что-то неладно тут, – растревожилось Ефимово сердце. – И стариков-то таких в округе не видывал. Уж не дед ли дубовик из лесу вышел? Точно, он. Значит, его работа – рисунок морозный на стекле. Чем-то я ему по душе пришелся, коль чудо такое показал».
Только подумал так Ефим – и весь узор морозный вспомнил. Вытащил из окошка зипун и бегом на шлифовню. Выбрал вазу покрупнее, колесо шлифовальное поострее заточил и за работу взялся. Другие мастера заприметили, что Гуляев лихорадит что-то, стали приставать с расспросами, а он и не слышит будто. Уперся лбом в вазу, уцепился руками за края и режет без устали. У другого, наверное, руки от такой работы отвалились бы. А он хоть бы что! Начал вазу утром, а кончил уж при лучинах. Отдал на щетки полировальные, а как отполировали, смотреть на вазу все мастеровые сбежались. Начались тут ахи да охи. Вазы такой никто еще не видывал. А Ефим присел прямо на пол, прислонился к столбуху и заснул как убитый. Утром проснулся от голоса мальцовского:
– А ну, где тут ваза гуляевская?
«Уже донесли», – подумал Ефим. Только взглянул генерал на вазу и в карман сразу же полез, достал три рубля и сунул Ефиму.
– За усердие это тебе, голубчик.
Вазу в карету мальцовскую отнесли, во дворец переправили и в хоромах барских на видном месте поставили. А на другой год по осени повез Мальцов ту вазу на Московскую ярмарку. Поставили ее там в лавке ювелирной на черный бархат. Придет человек в лавку за покупкой, взглянет на вазу и забудет, зачем пришел.
Лавочник-то деньги брать за просмотр Ефимовой вазы стал. Заломил Мальцов за вазу 700 рублей золотом. Деньги большие, а покупателей все ж много находилось. Купили ту вазу для царских палат в Дворце Зимнем. И через день-другой отвезти на место должны были. Да зашла в лавку женщина какая-то. Повернулась нерасторопно, задела вазу, упала та и разбилась. А женщина выхватила из-за пазухи денег пачку и швырь на стол лавочнику. Тыщу рублей бросила. Скандал большой вышел. А Мальцов царских холопов успокаивает:
– Ничего, через неделю мой Ефим Гуляев еще дюжину таких ваз сделает.
Долго Ефим потом мучался над новой вазой, хрусталя перепортил уйму, а вазы такой, как та, разбитая, уже не мог сделать. На одну, видно, только сил было дадено.
И. ПАНЬКИН
Легенды о мастере Тычке

Да простит читатель, если в моей книге найдет рассказы меньше ладошки. Мы, туляки, народ занятой, и зря тарабарить нам недосуг. Мы даже не позволяем себе такой роскоши, чтобы в занятое время называть друг друга длинными и величальными именами. По отчеству наши деды назывались только в престольные праздники и в воскресные дни. Туляки всегда любили короткие имена, чтобы они свободно проходили через горло, не застревали в зубах и пролетали через цех, как пуля: «Чиж-ж! Левша-а! Тычка!» Да и меня на работе зовут именем короче ружейного залпа – Ив, хотя мать по наивности думала: как только я овладею грамотой, меня будут звать не только полным именем – Иваном, но и по батюшке – Федоровым.
Любо или не любо кому, а в нашем городе повелось так: после «аз», «буки», «веди» никого еще не зовут дядей Федей. А кто любит хвалу и чтоб о нем в медные трубы дули, тому нечего делать в Туле. Так говорили наши деды, так говорим и мы. А коли так, не буду дальше терять время, а прямо приступлю к рассказам о необыкновенном мастере Тычке, который без слов, одними руками, мог рассмешить целый город, а ежели ему приходила нужда вымолвить слово, он мог вбить его, как гвоздь, не только в башку человека, а даже в обух топора.
Когда родился Тычка, про то никто толком не знает. Одни говорят – с первым ударом кузнечного молота о наковальню, другие – позже. Но когда бы он ни появился на свет, а приметили его при Петре I. И с тех пор его имя не сходило с уст и пожиточных и скудных людей. После Петра, какие бы цари ни садились на российский престол, каждый из них прежде всего старался Тычку запрятать в Сибирь. По триста Тычек ссылали туда, но только настоящий всегда оставался в Туле.
Но вернемся к тому времени, когда впервые приметили Тычку.
Сказывают, что управители российских городов и губерний не испытывали столько волнений и страхов при других царях, как при Петре I. Вишь ли, Петр-то был человек очень любознательный и беспокойный. Куда бы ни заехал – подай ему что-нибудь новое и удивительное. А если он ничего нового не видал, то на него нападала тоска и тогда уж от него добра не жди. Не посмотрит, что ты воевода или кто еще в этом роде. Может так разнести, только черепки от тебя полетят.
Поэтому, когда Петру приходилось разъезжать по России, каждый воевода или градоначальник молили Бога, чтобы царя пронесло мимо.
Как-то Петр совсем неожиданно нагрянул в Тулу. Приехал он с думкой: испытать самопальных мастеров, на что они способны, и решить, можно ли в Туле основать российский ружейный завод.
Только слуги успели вытащить из кареты всякую кладь, как Петр сразу к воеводе с вопросом:
– Кто у вас самый лучший ружейный мастер?
Воевода назвал всех пожиточных людей, которые промышляли самопальными делами. А Петр недовольно дернул щекой и опять к воеводе:
– Пожиточные люди не стоят у наковален, я спрашиваю о скудных. Кто из скудных людей считается лучшим мастером?
Воевода тут и стал в тупик. Ружейниками кишит вся кузнечная слобода, а кто из них лучший – этого-то он не ведал.
А Петр снова:
– Через пять минут чтобы привели мне самого лучшего мастера!
Ничего не оставалось делать воеводе, как только сказать:
– Слушаюсь, государь.
Вызвал воевода к себе какого-то там своего помощника и говорит:
– Найти самого лучшего ружейного мастера и через четыре минуты привести сюда!
Помощник воеводы вызвал своего помощника и приказал привести мастера через три минуты. А тот помощник своему помощнику приказал мастера привести через две минуты. А тот вызвал служилого по сыскным делам и уже дает приказ привести мастера через одну минуту. А до кузнечной слободы только на коляске нужно ехать более четверти часа, как же он может за такой срок найти мастера да еще привести в воеводский дом?!
Почесал затылок служилый и заместо кузнечной завернул на базар.
Смотрит, какой-то мужик носится с фузеей – с кремневым ружьем. Схватил служилый мужика за шиворот и приволок к воеводе.
Воевода не успел с ним перемолвиться словом, как из другой комнаты вышел царь.
– Это ли великий тульский мастер? – спрашивает Петр. – Как тебя звать?
– Тычкой, – отвечает мужик, – но только я совсем не великий, а всего-навсего ученик Парфена Зычки, который учился у Никишки Дички, а тот у Прошки Лычки.
Воеводу от слов Тычки прямо в пот бросило. Толкает его в бок, чтобы он замолчал, а Тычка видит, что царь разговаривает с ним по-простому, еще больше разошелся, даже государя стал называть Лексеичем.
Петр ему говорит:
– Сможешь ли починить эту штуку?
И подает ему сломанный пистолет, сделанный каким-то английским мастером.
– А что же не попробовать, – можно и попробовать, – отвечает Тычка. – Сроду мне не приходилось гнуть дуги, а летось попробовал – и не хуже, чем у ярославских мужиков вышло.
Вздохнул тяжко Петр, но ничего не сказал Тычке, проводил его до дверей и не взял у него обратно пистолет.
Пока царь разговаривал с Тычкой, все чиновники навытяжку, будто свечи, стояли, а когда Тычка скрылся из виду, сразу зашевелились. Оказывается, никто не спросил, где он живет, а царю об этом нельзя сказать.
Три дня и три ночи искали Тычку, а на четвертый он сам пришел. Пришел и, не торопясь, из-за пазухи вытащил пистолет и передал царю.
Потрогал Петр пистолет, пощелкал – работает.
– Вот если бы все умели не только чинить, но и делать такие чудесные вещи, тогда бы вас и на руках можно носить, – говорит Петр.
– Так чего же их не делать? – отвечает Тычка. – Такие пистолеты у нас подмастерья чуть ли не слюнями клеят.
Петр был горячий человек, не любил хорошую работу хаять, даже если она сделана руками иноземцев.
Поэтому, когда услышал от Тычки такие слова, даже усики у него от злости запрыгали. Потом царь поднял кулак и ударил Тычку.
– За что же, государь? – говорит Тычка.
– За тот пистолет, который ты хаял.
– Если только за тот, так забери его, он мне даром не нужен.
И возвращает он ему тот самый пистолет, который Петр давал для починки.
Оказывается, Тычка за три дня не только починил английский пистолет, но и сделал новый, как две капли воды похожий на английский.
Петр глядит то на один пистолет, то на другой, головой от восторженности крутит да работой Тычки восхищается. Потом совсем растрогался и говорит:
– Ну, братец мой, ты уж прости, что забидел тебя.
А Тычка был мужик с норовом, сбычил голову и даже не глядит на царя.
Государь опять ему:
– Ну, если так не можешь простить, тогда уж и ты ударь меня.
– Да оно, может, так и следовало бы по правилу-то, да вишь, рука у меня мужицкая, как бы греха не натворить. Но если уж очень просишь, так тому и быть!
И так жахнул царя – тот чуть к стенке не прилип.
Когда царь пришел в себя и посмотрел на вельмож, ему неловко стало, что мужик его ударил. А как снова поглядел на Тычку и его могучие плечи, просиял и гордость его охватила за таких людей.
Обнял он тогда самопального мастера и вымолвил:
– Да пусть на плечах этих людей здесь вырастет русский ружейный завод!
И правда, вскоре у кузнечной слободы вырос ружейный завод, который потом и назвали именем Петра.
Может, царь Петр в своих бумагах про этот случай написал совсем по-другому, но мужики сказывают так.
Мужики напрасно не скажут.
И еще говорят, что Петр тогда приказал наградить Тычку самой высшей российской наградой. И зареченские мастера для него выковали золотую медаль с изображением сказочной женщины-богатыря с колчаном на боку. И это недаром. По преданиям мужиков березового края, одна женщина-богатырь с давних пор и по сей день в своем колчане носит вместо стрел целый город с мастеровыми людьми. Женщину зовут Россией, а город – Тулой, где придерживаются такого завета: «Если стрелы о себе говорят в полете, то мастера – только творением рук».
А ежели так, то мне ничего не остается больше делать, как только открыть перед вами наш старый русский колчан и сказать:
– Если хотите о Тычке знать больше, послушайте других мастеров. Я же за свою жизнь сумел выковать только строки этой легенды.
Итак, я открываю колчан.
* * *
Хлеб-то всегда начинают есть с корки, но издавна у нас повелось: когда перед молодым человеком впервые открывают заводские ворота, его не спрашивают, чего доброго принес он в своей душе. Его спрашивают, к какой работе хочет он приложить руки. И случаются потому печальные истории.
Когда-то давно, еще при царствовании Катерины II, на нашем ружейном заводе приключилась вот какая история. В искусный цех, где украшают ружья серебром и золотом, приняли в ученики парня. Ну, приняли так приняли: он должен мотать на ус, что скажет мастер, к которому приставлен. А на работе ведь так водится: люди не только шевелят руками, но и язык не оставляют без дела. Один завернет какое-нибудь острое словцо, а другой прибавит к нему и того похлестче. Без шуток и прибауток самая задушевная работа покажется каторгой. А парень тот, видя, как на работе вольно держатся мастера, тоже за ними – хи да ха. Только вертит во все стороны башкой да ловит, кто скажет что-нибудь смешное. А время-то идет. Не всю жизнь возле мастера тереться. Парень задумался: как ему быть? И начал он языком пробиваться в люди. То на одного мастера что-нибудь наплетет, то на другого. Бывает, кому-нибудь и пятки полижет. Будто чиреем на заводе стал. Так «Чирь» и прозвали. А люди ведь как иной раз глядят на эти болячки?
– Эй, Иван, чирь на твою ногу сел!
– Разве это чирь, когда его в лапоть можно втиснуть?
Пока мастеровые рассуждали так, парень Чирь и в лапоть не стал влезать. Сначала он перед начальством выдвинулся браковщиком – ценителем работ мастеров, а потом – надзирателем. Потом своего учителя начал учить да за бороду подергивать. Когда же сверстники ему показывали какую-нибудь хорошую работу, он даже синел от зависти. А когда Чирь почувствовал, что на него косо стали глядеть, совсем отделился от мастеровых и переехал с заречной стороны, где жил рабочий люд, на Стародворянскую улицу.
После этого произошел такой случай. Один старый мастер приметил в какой-то деревушке остроглазого мальчишку и привез его на завод. Мальчишка был еще не совсем разумного возраста, поэтому работать его не заставляли. И вот он ходит по цеху – то около одного мастера постоит, то около другого. То мастерит себе, пилит и прочее там мальчишеское дело делает. Особенно-то никто за ним не следил. Не шалит – и ладно. Но как-то раз его учитель нечаянно взглянул, над чем возится мальчишка, и ахнул. Этот пострел держал в руках дубовую ветку из железа. Ветка словно настоящая, ее листья были нежны и отдавали такой свежей зеленью, к которой не привык человеческий глаз. Эту ветку мальчишка будто только что сорвал с дерева. Тульских мастеров трудно удивить, ибо каждый из них видел на своем веку много всяких чудесных вещей, но ветка их удивила. Они вынесли ее на улицу и приставили к дереву: сядут ли на ветку птицы?
Птицы сели.
Тогда мастеровые спросили мальчишку, о чем он думал, когда делал ветку. Но что мог им ответить малый? Он сказал:
– Я не знаю.
– Но о чем-то ты, наверное, уж думал? – настаивали мастеровые.
– Я не думал, – сказал мальчишка, – я только заметил. Я заметил, что, когда начинают зеленеть дубравы, люди становятся добрее.
– А так они злые?
– Да, – сказал мальчишка.
Тогда люди опустили головы и задумались, почему жизнь заставляет их быть злыми. Пока они думали, во дворе появилось заводское начальство, а с ними и надзиратель Чирь. Времена были лихие, неспокойные. По России гулял Пугачев. На ружейном заводе мастеровые тоже чувствовали себя, как начиненные порохом. Начальство побаивалось, когда рабочие собирались вместе.
– Что за сборище? – закричало начальство. – Разойдись!
Желая показать свое усердие в службе, Чирь сорвал с дерева ветку и начал хлестать мальчишку. А много ли надо малому? Чирь хватил его несколько раз по голове железным прутом, тот и поник. Надзиратель спокойно, как будто ничего не случилось, выкинул ветку через забор в отвал, куда сбрасывают мусор, и опять встал рядом с начальством. Тут, у кого было и каменное сердце, и тот не мог сдержать гнев. Все с кулаками пошли на Чиря. Чирь видит, что дело плохо, стал отступать. Приперли его к воротам. Увидев над собой молот, он неожиданно превратился в собаку и юркнул через подворотню. Люди распахнули ворота, кинулись за ним, но разве собаку сразу поймаешь!

Начальство, перепугавшись, как бы с ними не произошло такое же, вызвало срочно солдат и приказало как можно скорее похоронить парнишку, чтобы он не тревожил больше сердца. А мастеров потом долго мордовали, многих даже в цепи заковали. Когда у людей начали сходить от батогов рубцы, они опять вспомнили ту ветку. Начали говорить граверам, чтобы они нашли ее, перерисовали для детей и внуков, пока еще не истребила ржа.
Пошли в отвал, увидели – ветка цела, она даже пустила свежие листья.
Добрые вещи и среди мусора не погибают.
А собака потом каждый вечер подходила к заводу и выла у ворот, хотела снова стать человеком, но уже не могла.
* * *
Был у нас на заводе один человек, который никак не мог дождаться, пока его признают мастером. Ходил он по начальству и жаловался на старых мастеров, что они его считают учеником, хотя он давно имеет документ мастера. Тыкал им всем в нос бумажкой, но радости своей работой никому не приносил. А в Туле, кроме диплома, привыкли еще смотреть на искусные руки и руки считать главным документом.
Этому человеку стало казаться, что его окружают злые люди, из-за которых он никогда не выйдет в мастера. Решил уйти из завода. И ушел бы, если бы Тычка за ним не заметил одну диковинку.
Сидел он днем за граверным верстаком, а вечером, после работы, переходил к столярному. Зачем?
Однажды открыл его рабочий ящик и вытащил оттуда красивую деревянную шкатулку. Она была так отполирована хорошо, что в нее можно было смотреться.
– Неужели это твоя работа? – спросил Тычка.
– А ты что думал, – ответил тот.
Тычка подвел к нему стариков.
Старики повертели в руках шкатулку и недоверчиво покачали головами: мол, мели, Емеля.
Тогда он взял обыкновенное полено и на глазах у мастеров так отшлифовал, что после этого посадили на него подкованную блоху, та корячилась, корячилась, а вспрыгнуть никак не могла.
Старики пожали ему руку и в первый раз назвали его по имени и отчеству. А в Туле говорят: «Если старики назвали тебя по батюшке, зачем тогда и генеральское звание. Значит, ты уже мастер».
* * *
Однажды в Тулу совсем неожиданно приехала Катерина II. Здешнее начальство привыкло одаривать царей, а тут и подарка никакого не подготовили. Что делать? Забегали по мастеровым людям: не держит ли кто в голове хорошую задумку, которую можно быстро выполнить.
Вдруг Тычка сказал:
– Есть у меня одна задумка, только понравится ли?
Все знали, что работы Тычки ценились высоко и раскупались за большие деньги для музеев и художественных галерей. Только у начальства он был не в почете. Его всегда числили в списке неблагонадежных. Если где-нибудь вспыхивал бунт, даже за Уральскими горами, Тычку все равно на ночевку отправляли в острог, а днем держали прикованным на заводе.
В то время, когда приехала царица, где-то тоже бунтовали люди, и наш Тычка, как обычно, сидел прикованным к своему верстаку.
Так вот, когда он сказал про свою задумку, у начальства от радости даже глаза загорелись.
– Так если есть у тебя задумка, выполняй ее, – сказали они, – а понравится или нет, там увидим. Что тебе для этого нужно: серебро или золото?
– Ничего не нужно, – сказал Тычка, – только ночь свободы.
Начальство сейчас же цех окружило солдатами и расковало Тычку.
На второй день царице преподнесли изумительной красоты цепь цвета ночи и звезд. Царица была так довольна подарком, что насмотреться на него не могла. Когда же пришли снова заковывать Тычку, то у него цепи не оказалось.
– Где же твоя цепь? – спросили его.
– Как где? – сказал он. – На шее у царицы.
После того как царице вручили цепь, к Тычке подошел ученик и спросил:
– Мастер, а мастер, почему так получается: только вчера царица говорила, что таких людей, как вы, нужно держать на виду всей России, а сегодня даже не хочет замечать вас?
– О, милый мой, богатые люди любят музыкантов, только когда они играют.
* * *
Остротой ума и веселостью рук в Туле никто не мог сравниться с мастером Тычкой. Недаром работные люди нарекли его таким именем. В давние времена на ружейном заводе тычкой называли керн – инструмент для разметки деталей. А наш веселый мастер мог не только на железе, а даже на самой плоской стороне человеческой жизни «откернить» такую деталь, которая людям запоминалась на века. Редко кто над ним осмеливался посмеяться. Но иной раз, подобно Кузьке, находились такие люди.
Кому не известно, что железо во все времена ценилось так же дорого, как и хлеб. Да и сейчас оно достается не дешевле хлеба. Недаром же хлеборобы до сих пор не могут спокойно проходить мимо напрасно брошенных зерен, а тульские мастеровые – мимо железа.
Как-то раз один из учеников Тычки, пришедший на завод из сытой семьи, увидев в кармане своего учителя ржавую подкову, подобранную на дороге, спросил:
– Мастер, не бедность ли у вас выглядывает из кармана?
– Нет, – сказал Тычка, – это невежество заглядывает в карман.
* * *
Если уж забрякали дугами, видно, не улежать и хомутам.
Могуч тот, кто душой чувствует свое ремесло и владеет многими знаниями. По-моему, таким могучим является мастер Тычка.
С вашего позволения, расскажу я о нем один случай.
Однажды, теперь уж не помню точно когда, к нам на завод привезли станок. С первого взгляда в нем будто бы не было ничего особенного. Одна святая простота. Но эта проклятая машина оказалась капризной, как избалованная невеста из богатой семьи. С одного конца хитро, с другого мудреней, а в середке ум за разум заходит. Кому ни поручали собрать станок и пустить его в ход, ни у кого это не получалось. Хотя охотников было очень много. Когда мастеровые приступали к делу, у каждого появлялось чувство беспомощности, как у цыпленка, упавшего в яму: кричать – голос слаб, взлететь – крылья малы. Потопчутся, потопчутся возле станка, как тетерева на току, покружатся, покружатся вокруг него, как вокруг кольца, и, не найдя ни начала ни конца, отходят прочь. И наконец, этот бедный станок настолько замучили, что если бы он был бычком, то перебодал бы всех от злости. Когда позвали мастера Тычку, люди сбежались к тому станку чуть ли не со всего завода, посмотреть, что же получится у носящего имя лучшего мастера столицы мастеров. Тычка сначала погладил станок, как заморенную лошадь в дороге, потом втиснул в его нутро несколько деталей, позвенел ими, привернул их гайками, и все услышали, как станок задышал, и почувствовали, что, ежели Тычка сейчас втиснет в него еще несколько деталей, – станок заговорит.








