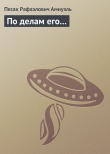Текст книги "Что будет, то и будет"
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я так и не понял, что тамошние евреи называют пустыней. На мой непросвещенный взгляд, пустыня – это место, где песок, скалы, горные козлы и колючки, где не растут деревья и где нет трав и кустарников, пусть даже и разумных.
Как бы то ни было, Шай Бельский очень удачно слился с пейзажем, и в первые часы я вообще не мог отличить его стебель от прочих стеблей – все были высокими, зелеными, все шевелились, когда дул ветер, все бодро шлепали корнями по мокрой почве. Наконец я понял: Бельский постоянно вылезал на сухую землю, и соплеменники оттаскивали его обратно, а то этот новоявленный Моше мог бы усохнуть раньше срока.
Деревья, кстати (а точнее – те племена, что пока не приняли идею единого Бога), не обращали никакого видимого внимания на то, что вытворяла трава. По крайней мере, они не пытались своими огромными корнями примять еретиков и никак не реагировали на то обстоятельство, что трава все быстрее и быстрее перемещалась на восток – туда, где, по идее, пропагандируемой Бельским, находилась исключительно плодородная земля, в которой травы могли за один сезон вымахать до десятиметровой высоты.
Вы когда-нибудь пытались вести растительный образ жизни? Даже если ваши корни способны перемещаться, такая жизнь – не для творческого человека, я так считаю. Могу себе представить, какие муки испытывала деятельная натура Шая Бельского, тем более, что, если для нас, сидевших в лаборатории института, проходил час нашего локального времени, в мире омеги Эридана успевали пробежать сутки.
Телеметрия исправно информировала о состоянии дел, доктор Фрайман с директором Рувинским обрабатывали данные, компьютеры переваривали информацию и создавали предварительные варианты заповедей, а мы с писателем-романистом Эльягу Моцкином, забравшись в киберпространство, пытались ощутить весь процесс как бы изнутри.
Шай Бельский старался, конечно, изо всех сил, но евреи роптали.
– Если бы мы верили не в единого Бога, – подстрекали провокаторы, – то смогли бы вырасти такими же большими, как вот эти племена, и нам никто не был бы страшен.
– Глупости, – говорил Бельский, покачивая стеблем, – не нужно путать причину и следствие. Мы не потому стали травой, что поверили в единого Бога, но наоборот, – нам пришлось понять, что Бог один и неповторим, потому что мы трава, и врагов у нас больше, чем у кого бы то ни было, и только мысль о Творце всего сущего может сплотить нас и избавить от этих огромных деревьев!
Для соплеменников эти слова были слишком умны. Бельский пока пользовался авторитетом, но терял его на глазах. Призрак золотого тельца и многобожия уже маячил впереди. Только одно могло спасти цивилизацию на омеге Эридана – немедленное вмешательство и дарование заповедей.
Торопить Фраймана и Рувинского не имело смысла, они и так едва ли не опережали компьютер по скорости создания новых идей.
В Тель-Авиве настала ночь, а на планете, где Бельский изображал из себя Моше, прошел месяц, когда трава достигла опушки леса. Это я так говорю «опушка» – за неимением другого, столь же однозначного, термина. Огромные деревья, верившие в сонмы богов, остались позади, и трава, шагавшая на восток, вышла на крутой берег довольно широкой реки. Не думаю, чтобы вода в реке обладала разумом – иначе она сумела бы пробить себе прямое русло, а не текла изгибами, будто змея. Для травы, которую вел вперед Шай Бельский, даже эта преграда была непреодолима.
Вполне возможно, что деревья только того и ждали, потому что «лес» неожиданно сдвинулся с места, и корни огромных деревьев начали сшибать оставшиеся в тылу травинки местного еврейского племени. Как говорил великий Шекспир: «Когда в поход пошел Бирнамский лес…» Все знают, чем это кончилось для Макбета. Конец Шая Бельского оказался бы не менее плачевным.
– Еще хотя бы час локального времени! – воскликнул доктор Фрайман. Компьютер уже сконструировал восемь из десяти заповедей, неужели Шай не может потянуть время?
Нет, времени больше не оставалось. Высокий стебель, в котором даже я уже без труда мог признать Шая Бельского, отделился от общей травяной массы и, шлепая корнями, полез на крутой склон, нависший над берегом реки. Нашел-таки Синай!
– Сейчас, сейчас, – бормотал над моим ухом доктор Фрайман, – уже девятая заповедь готова, еще пять минут…
– Я появлюсь там из-за того вот камня, – сказал испытатель Шехтель, который уже наладил аппаратуру и ждал только приказа изобразить Создателя.
– Барух ата, Адонай… – неожиданно забормотал писатель-романист Эльягу Моцкин, чья нервная система, видимо, не выдержала напряжения ожидания.
– Тихо! – рявкнул я, ибо и мои нервы находились на пределе.
Вот тогда-то все и случилось.
* * *
На крутом берегу реки трава не росла, а деревья – подавно. Видимо, здесь не раз случались оползни, и растения, будучи существами разумными, предпочитали пускать корни в более безопасном месте. Шай Бельский, вероятно, не успел полностью свыкнуться со своим телом (да и кто смог бы попробуйте-ка на досуге пошевелить корнями, растущими у вас из коленных суставов!), и движения его, если смотреть со стороны, выглядели угловатыми и неуклюжими. Он едва не сорвался с обрыва в реку, и я едва успел удержать за рукав Эльягу Моцкина, бросившегося на помощь.
Так вот, когда Бельский приблизился к самому краю обрыва, песок неожиданно засветился, отрезав новоявленному Моше обратный путь. Шай отдернул корни, кончики которых попали в зону свечения, а датчики показали, Бельский испытал мгновенное ощущение сильнейшего ожога – почва и песок оказались раскалены чуть ли не до температуры плавления.
Из глубины, будто из какой-то подземной пещеры, раздался голос:
– Вот заповеди мои для народа твоего, и вот земля, которую я дарю вам, если народ выполнит все заповеди и не свернет с пути, указанного мной, я Господь Бог ваш.
Несмотря на всю свою морально-политическую подготовку, Бельский от неожиданности на мгновение потерял сознание – выразилось это в том, что стебель стал быстро желтеть, корни конвульсивно завозились в песке, и хорошо, что как раз в этот момент наш спасатель Рон Шехтель включил свою аппаратуру, и силовые поля поддержали обмякшее тело юного героя, иначе он точно свалился бы в реку, а у меня было такое впечатление, что течет в реке не вода, а гораздо менее приятная для осязания жидкость. Царская водка, например.
Обошлось.
Стебель выпрямился, желтизна исчезла, уступив место нездоровому румянцу, корни выпрямились, укрепляясь в земле.
– Десятая заповедь готова, можно запускать, – неожиданно заявил доктор Фрайман, который, будучи полностью поглощен работой, не видел того, что происходило на берегу реки за много парсеков от Института альтернативной истории.
– Тихо! – потребовал Шехтель.
Песок, отделявший Бельского от травянистого племени местных иудеев, остыл так же быстро, как нагрелся, и на поверхности остались лежать несколько широких желтых листьев, которых не было здесь еще минуту назад. Жилки на листьях сплелись в какой-то сложный узор, и только Бельский мог бы сказать точно, были это просто капилляры или, в действительности, – текст неких заповедей, дарованных евреям системы омикрона Эридана… кем?
Стебель вытянул вперед один из своих корней и ловким движением (когда это Бельский научился?) подцепил листья с заповедями. Держать дар приходилось навесу, передвигаться с подобной ношей было, наверное, очень неудобно, и потому Бельский ковылял с обрыва почти час – для нас-то, в режиме реального времени, прошли две минуты нервного ожидания развязки.
Не сказал бы, что народ с восторгом воспринял слова, сказанные Бельским после того, как листья с заповедями были предъявлены и прочитаны.
– И велел Творец, Господь наш, – сказал Бельский, совсем уж войдя в роль Моше, – исполнять каждую заповедь неукоснительно, иначе не видать нам Земли обетованной как своих корней.
Не уверен, что в лексиконе местных евреев прежде существовала такая идиома. К тому же, лично я совершенно не понял смысла заповеди номер восемь – «не перепутывай корни свои перед закатом». С кем не перепутывать? Почему перед закатом нельзя, а в полдень можно?
– Возвращай, – устало сказал директор Рувинский Рону Шехтелю, тот ввел в компьютер соответствующую команду, и Бельский вернулся.
* * *
– Насколько заповеди, сконструированные тобой, – спросил Рувинский у доктора Фраймана, – отличаются от тех, что на самом деле были получены на берегу реки?
– Практически не отличаются, – объявил Фрайман. – Разве что стиль чуть более напыщенный, я бы так не писал.
Шай Бельский, вернувшись из экспедиции, не проронил ни единого слова отчет представил в письменном виде, а на вопросы отвечал покачиванием головы и пожатием плеч. Мы собрались в кабинете директора обсудить результаты, и Бельский немедленно забился в угол, будто растение, поставленное в кадку.
– А ты что скажешь? – задал директор прямой вопрос юному дарованию, совершенно выбитому из колеи. – Что это было?
Вынужденный открыть рот, Бельский долго шевелил губами и пытался вывихнуть себе челюсть, но все же соизволил ответить:
– Н-не думаю, – сказал он, – что это был Шехтель.
– Замечательный вывод, – вздохнул Рувинский. – Значит, сам Творец. И если Он, действительно, существует, и если Он, действительно, сам составляет тексты заповедей для евреев в каждом мире, то неизбежно на любой планете, которую мы выберем, Он будет опережать нас, зная, естественно, о наших планах.
– Думаем, что так, – сказал доктор Фрайман за себя и Бельского, продемонстрировав, таким образом, классический пример перехода от атеистического способа мышления к сугубо монотеистическому.
Писатель Эльягу Моцкин, который все время бормотал «Барух ата, Адонай…», неожиданно прервал это занятие и потребовал:
– Хватит вмешиваться. Не нужно мешать Творцу даровать заповеди своему народу.
– Которому из своих народов? – осведомился директор Рувинский, единственный из присутствовавших сохранивший способность к здравому размышлению. – Евреи, как мы видим, оказались чуть ли не на каждой планете. Кто сейчас на очереди? Кто должен получить заповеди в ближайшее время?
– Евреи из системы Барнард 342, – подсказал Рон Шехтель.
– А, – поморщился Рувинский, – это которые живут под землей?
– Именно.
– В эту систему пойду я сам, – заявил директор. – Вы все деморализованы и можете сорвать операцию.
– Нет, – с неожиданной твердостью сказал доктор Фрайман. – Пойду я.
– Я, – коротко, но безапелляционно объявило юное дарование Шай Бельский, но на него даже не обернулись.
– Барух ата, Адонай, – сказал писатель Моцкин, и никто не понял, что он имел в виду.
– Пойдет опять Павел, – неожиданно вмешался испытатель Шехтель. Аппаратура хорошо воспринимает его индивидуальное подсознание, и, если придется спасать, у меня будет меньше проблем.
Вы думаете, я горел желанием повторить свой подвиг? Вы ошибаетесь.
* * *
Жить под землей – совсем не то, что жить под водой. Тривиально? Зато верно.
Племя, которое я вывел из рабства, уже много времени блуждало где-то на глубине трех-четырех километров под поверхностью планеты. Перепады в плотностях породы выглядели для меня будто подъемы и спуски. Я легко передвигался в песчаниках, но в граниты проникал с трудом, а, между тем, именно в гранитах встречались очень вкусные и питательные прожилки странного минерала, вязкого на ощупь, и дети постоянно нарушали строй, не слушались родителей, залезали в гранитные блоки, и их приходилось потом оттуда извлекать с помощью присосок, бедняги вопили, потому что это, действительно, было больно, я сам как-то попробовал и долго не мог отдышаться.
Кстати, можете вы себе представить, что это значит – дышать под землей, передвигаясь в глубине гранитной или мраморной породы? Нет, вы не можете этого представить, а я не могу описать, но каждый желающий может приобрести в компьютерном салоне соответствующий стерео-дискет и попробовать сам. Единственное, что могу сказать, – незабываемое ощущение.
Между прочим, подземные евреи в системе Барнард 342 – самые жестоковыйные евреи во Вселенной, можете мне поверить. Я прожил среди них около месяца своего личного времени (час по времени института), и мне так и не удалось убедить их в том, что во Вселенной есть еще что-то, кроме песка, гранита, мрамора, известняка, молибдена, александрита и еще тысячи пород. В конце концов, на меня стали коситься, когда я заявил, что Творец способен сотворить не одни камни, но еще и пустоту в придачу. По мнению местных евреев, Творец не мог сотворить пустоту, поскольку был пустотой сам. «Что значит – не мог?» – возмутился я, и наша дискуссия перешла к обсуждению, аналогичному поискам истины в проблеме: «мог ли Творец создать камень, который сам не смог бы поднять?» Подобные дискуссии перед дарованием заповедей были ни к чему.
Мы шли и шли в пустыне, если можно назвать пустыней гранитно-мраморные наслоения, перемежаемые известняковыми плитами. Народ устал, народ потерял цель, народ возроптал, а ведь я его еще и провоцировал сам нелепыми рассуждениями о пустоте. И народ собрался свергнуть своего лидера, чтобы предаться поклонению Золотому тельцу (мы, действительно, приближались к мощной залежи золотоносной руды).
Я оставил своих евреев отдыхать в русле подземной песчаной реки, а сам полез на мраморную гору, если можно назвать горой перепад плотности между мрамором и гранитом.
Вы обратили внимание – я до сих пор ни слова не сказал о том, как выглядят евреи, живущие под землей в системе Барнард 342? Так вот, они никак не выглядят. Камень в камне – нужен специалист-геолог, чтобы это описать. А я историк, как вам известно. Поэтому ограничусь описанием того, что сохранила моя память.
Я поднимался, чтобы получить для своего народа заповеди, но на этот раз был вовсе не уверен в результате. Рассчитывать на доктора Фраймана я не мог – мы решили сделать эксперимент «чистым» и надеяться только на Творца. А если Творца нет, то заповедей я не получу, и придется испытателю Шехтелю спасать меня от гнева толпы.
На случай, если Творец, как обычно, проявит себя, раскалив докрасна мрамор или гранит, я должен был набраться смелости и прямо спросить у него, кто создал весь этот сонм миров с бесчисленным числом избранных народов, каждый из которых называл себя «евреями». Возможно, Он и не ответит, но научный подход к проблеме требовал хотя бы попытаться.
Прошу заметить еще одно обстоятельство: поскольку дело происходило под землей, то ни о какой смене дня и ночи не могло быть и речи. Евреи на Барнарде 342 не знали, что такое солнце, не имели представления о смене времен года, и это, кстати, не говорит об их умственной ущербности. Мы же не считаем себя неполноценными только по той причине, что не можем определить на ощупь, сколько электронных оболочек в атомах, составляющих кристаллическую решетку алмаза. Как говорится, каждому еврею – свое.
Так вот, я поднялся на вершину (точнее – на место, где спад давления прекратился) в тот момент, когда надо мной воссияло солнце. Это не образное сравнение, по-моему, так оно и было: сверху возник огненный шар, и я почувствовал, что мои каменные бока вот-вот начнут плавиться и стекать по склону. «Началось,» – подумал я и приготовился получить заповеди из первых рук.
Звук хорошо распространяется в камне, и потому голос прозвучал подобно удару грома:
– Вот заповеди мои для народа, избранного мной! Вот слова мои, обращенные к народу моему! Я Господь Бог ваш, и нет других богов, я один!
Пока звучали слова введения, я внимательно всматривался в раскаленный шар, сиявший надо мной. Во-первых, я обнаружил, что голос раздается со всех сторон сразу. Во-вторых, как ни странно, голос не сопровождался никакими колебаниями в каменной породе и, следовательно, звучал, скорее всего, во мне самом. Естественно: Творец говорил со мной лично, и евреи, ждавшие меня внизу, не должны были слышать наших секретов.
– Кто ты? – подумал я с такой силой, что мои каменные мозги едва не выдавились из моего каменного черепа. – Если ты действительно Бог, докажи это. Если нет, скажи, из какой ты звездной системы!
Мне показалось, что голос на мгновение запнулся, но затем продолжил грохотать с еще большей яростью:
– Сказано: я Господь Бог ваш, о жестоковыйные! Не веря в меня, насылаете вы напасти на себя и своих потомков. Я, только я…
Ну, и так далее. Только он, естественно. Так я и поверил. Больше всего мне захотелось сейчас, чтобы Шехтель вытащил меня из этого каменного мешка, а директор Рувинский удосужился выслушать идею, неожиданно возникшую в моем сознании. Голос грохотал, а когда, наконец, смолк, я обнаружил, что опираюсь на каменную скрижаль, значительно более плотную, чем гранит. Солнце погасло, жар исчез, Бог отправился в другую звездную систему дарить заповеди другим евреям.
Я с трудом протащил скрижаль сквозь базальтовые наслоения и предстал перед своим народом усталый, но довольный содеянным.
– Вот! – провозгласил я. – Вот заповеди, которые вы должны соблюдать!
О соблюдении, впрочем, пока речь не шла. Сначала нужно было прочитать. Этим народ и занялся.
А я вернулся в Институт, потому что Шехтель включил, наконец, спасательную систему.
* * *
– Все, – сказал я, – когда мы собрались в кабинете господина Рувинского, – не нужно больше посылать никого в эти альтернативы. Никого и никогда.
– У Павла развилась клаустрофобия после того, как он пожил неделю в камне, – пояснил директор. – Но согласись, – обратился он ко мне, – что именно ты стал не просто свидетелем дарования заповедей каменным жителям омикрона Эридана, ты сам эти заповеди для них получил. Тебе просто уникально повезло, а ты, будучи историком, недоволен!
Рувинского поддержал писатель Моцкин:
– Павел – историк в нашей реальности, а, когда он попадает в иную, то становится хуже Йорама Гаона.
Йорам Гаон, журналист из «Едиот ахронот», был, по мнению романиста, примером самого тяжкого из грехопадений, поскольку время от времени писал в своей газете разгромные рецензии на новые книги великого писателя Моцкина.
– Павел прав, – неожиданно вступился за меня Бен-Натан, – дарование заповедей – это договор между Творцом и избранным им народом, и процесс этот, где бы он ни происходил, должен происходить без свидетелей.
– Да нет, – сказал я, – я вовсе не это имел в виду. Видите ли, господа, дело в том, что даже отцы-основатели альтернативной хронодинамики не подумали об одном обстоятельстве, с которым мы сейчас и столкнулись.
– Чепуха! – в голос воскликнули оба молодых дарования, которые, как все гении, излишне доверяли авторитетам. Эйнштейн доверял Ньютону и построил свою теорию относительности, стоя, как он как-то выразился, на плечах гиганта. А Фрайман с Бельским доверяли старику Штейнбергу, открывшему альтернативные реальности – недаром каждый из них повесил портрет основателя в своем закутке, который лишь с изрядной долей иронии можно было назвать кабинетом.
– Тогда скажите мне, – терпеливо спросил я, – альтернативой чему было появление разумных существ в системе омикрон Эридана? И появление самой системы? И Земли? И Галактики? Я уж не говорю о Вселенной, чтоб ей жить вечно.
Фрайман улыбнулся, Бельский пожал плечами, все остальные просто не поняли, к чему я клоню.
– Павел, – терпеливо пояснил Бельский, – ты и сам прекрасно знаешь, что альтернативный мир появляется в результате принятия кем-то какого-то решения. Не ты ли в каждой главе своей «Истории Израиля» приводишь надоевший уже всем твоим читателям пример о чае и кофе? О том, что если ты делаешь выбор в пользу чая, то немедленно рождается мир, в котором ты налил себе кофе. В природе всегда осуществляются обе альтернативы. Мы живем в одной, что не мешает прочим быть столь же реальными. Но, – молодое дарование назидательно подняло палец, – чтобы сделать выбор между чаем и кофе, должен быть некто, кто сидит и думает об этом выборе!
– Я не такой дурак, как тебе кажется с расстояния трех метров, обиженно сказал я. – Во-первых, пример с чаем и кофе придумал не я, а сам Штейнберг. А во-вторых…
– А во-вторых, – прервал меня представитель министерства по делам религий, – Павел в кои-то веки сказал разумную вещь и тут же был осмеян. Между тем, господин историк совершенно прав: была, всегда была альтернатива – создать Галактику или нет, создать Солнце или оставить Землю пребывать в вечной тьме, создать эту вашу… э… омикрон Эридана или не создавать… Подобные альтернативы стояли и могли стоять только перед Творцом, и это ли не доказательство Его воли, желания и…
– Спасибо за поддержку, – прервал я господина Бен-Натана, – но я вовсе не Творца имел в виду.
Господин Бен-Натан так и остался сидеть с вытянутой в мою сторону рукой.
– Да подумайте хорошенько, – с досадой сказал я. – Старик Штейнберг решил, что для создания альтернативной истории нужен разум. Но уже его последователи склонялись к мысли, что альтернативный мир может возникнуть даже по воле кота, который стоит у входа в мышиную нору и чисто инстинктивно решает, напасть ему или пойти соснуть час-другой. Сделайте шаг и предположите, что в любой момент во Вселенной возникает и, соответственно, реализуется бесконечное множество альтернатив, вовсе не зависящих ни от разума, ни от инстинкта.
– Не может, – сказал Фрайман. – Возьми хотя бы любой из законов Ньютона, которые никто не отменял. Все однозначно. Иначе любая физическая задача имела бы множество решений, а в нашем мире…
Он осекся, потому что и до него, наконец, дошло.
– Вот именно, – заявил я, – в нашем мире! Вы, физики, за своими законами не видите сути.
– А вы, историки, за своими измышлениями… – начало юное дарование Бельский и осеклось тоже, потому что дошло и до него.
А прочим пришлось объяснять, причем господин Бан-Натан, по-моему, просто придуривался, когда делал вид, что не может понять. В разгар спора он встал и ушел, чем значительно облегчил нам принятие решения. Согласитесь, куда проще решать практические проблемы науки, если за вами не надзирает представитель Всевышнего.
Потом мы разъехались по домам, но не для того, чтобы поразмыслить над принятым уже решением, а с единственной целью – отдохнуть перед экспериментом. Решение мы приняли единогласно, прекрасно зная, что сразу же начало осуществляться и противоположное решение. По сути, мы и эксперимент могли не проводить, прекрасно зная, что кто-то в созданной уже альтернативе этот эксперимент так или иначе проведет все равно, и любая из возможностей, о которых мы прокричали друг другу в пылу полемики, а также те, о которых каждый из нас только подумал, и даже те, которые никому из нас и в голову не пришли, – все это сейчас уже происходит или произошло в каком-нибудь из нами же созданных альтернативных миров.
Поэтому лично я с легким сердцем на следующий день вошел в операторскую и позволил директору Рувинскому лично надеть мне на голову шлем и налепить датчики.
* * *
Конечно, каждый из нас преследовал свои цели, и если господин директор Рувинский когда-нибудь начнет утверждать обратное, можете ему сказать, чтобы он вспомнил свои слова в последний момент перед включением аппаратуры.
Выбор мира, в который мне предстояло отправиться, был сделан не нами, а генератором случайных чисел, поэтому какие-либо подтасовки я исключаю полностью. Собственно, когда начался эксперимент, я еще понятия не имел, какой именно мир выбрала машина, и где я окажусь в следующее мгновение.
Я оказался на Земле.
Точнее, я почему-то был уверен, что оказался именно на Земле, хотя не имел тому никаких подтверждений. Пустыня? Но пустыню можно обнаружить где угодно, начиная с Марса и вплоть до какой-нибудь зачуханной планеты в далекой системе, скажем, беты какого-нибудь Змееносца. Не будучи астрономом, я вполне мог сделать и такое предположение. Солнце? А кто дал мне гарантии, что яркая желтая звезда, полыхавшая почти в самом зените, была именно Солнцем, а не какой-нибудь дзетой Козерога? В общем, не было на жарком песке пустыни надписи «Земля», и все же внутреннее чутье историка подсказывало мне, что альтернативный мир, в который я попал, если и находился далеко от нашего, то скорее по оси времени, нежели в пространстве.
И тогда я подумал, что юное дарование Бельский, ясное дело, запрограммировал базовый компьютер заранее на эту, очевидно, им тщательно продуманную авантюру.
И что мне оставалось делать? Сидеть и ждать, когда Шехтель протрубит отбой и вернет меня в институт? Сидеть и ждать, когда в километре от себя я увидел стоявшее лагерем племя?
У этих существ была одна нормальная человеческая голова, и еще были у этих существ по две руки и две ноги, а лиц я с такого расстояния разглядеть, конечно, не мог, хотя и был уверен в том, что, подойдя ближе, увижу бородатые лица мужчин, которым еще предстояло стать евреями.
И кого-то их них звали Моше.
Я не стал подходить ближе. Наоборот, мне захотелось отойти подальше, скрыться, не мешать истории идти своим чередом, а, вернувшись, устроить юному дарованию хороший скандал с применением физической силы. Нарушение чистоты эксперимента – научное преступление, какими бы мотивами ни руководствовался экспериментатор.
Я не смог сделать и шагу. Более того, я обнаружил, что у меня нет ног. Мгновение спустя я понял, что и рук у меня тоже нет, а также нет ничего, чем я мог бы доказать свою принадлежность к человеческому роду.
Я был камнем и лежал на вершине довольно крутого, хотя и не очень высокого, холма.
И не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: имя этому холму – Синай.
А собственно, в чем дело? – подумал я. Мне уже довелось побыть камнем в системе омикрон Эридана, так что дело это вполне привычное. К тому же, как бы ни была эта планета похожа на Землю, это все же не наша планета, а одна из ее альтернатив, вычисленная и обнаруженная стратификаторами института. Все просто замечательно – Бельский молодец, и записи нашего эксперимента теперь будут изучать во всех израильских школах на уроках ТАНАХа как иллюстрацию того, как и в нашем мире могло произойти дарование Торы.
Я просто обязан был воспользоваться моментом. С помощью Бельского, конечно, следившего за ходом моих рассуждений с помощью стратификатора.
Солнце уже начало клониться к западу, когда я увидел: от толпы будущих евреев отделилась темная точка и начала быстро приближаться. Я напряг зрение. Это был мужчина лет сорока с густой черной бородой, на плечах у него была накидка из шкуры какого-то животного. Мужчина поднимался на склон, легко одолевая препятствия и перепрыгивая с камня на камень.
Моше?
Я не думаю, что сумею точно описать собственные ощущения и потому не стану этого делать. Попробуйте сами вообразить себя камнем, лежащим на плоской вершине, представьте, что у вас нет возможности шевелить чем бы то ни было, кроме мозговых извилин, после этого подумайте-ка, есть ли такие извилины у простого булыжника, пусть и огромных размеров. И если вы сумеете описать словами собственные ощущения, я непременно потребую, чтобы вас внесли в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе за текущий, 2034 год.
Моше приблизился, и от волнения мне стало так жарко, будто не одно, а двадцать солнц опаляли синайскую пустыню с бледно-синего неба.
– Погоди, – сказал я, – не торопись, так и свалиться недолго.
Моше замер, потому что мой голос, отразившись от других камней и скал, прозвучал неожиданно гулко. Моше стоял и смотрел на меня, и ноги у него подогнулись, и он пал ниц, бормоча что-то себе под нос.
А я испугался, потому что неожиданно забыл, как звучат в точности слова заповедей, которые мне предстояло продиктовать Моше. Мгновение назад я их прекрасно помнил, но сейчас в мою каменную голову не приходило ничего, кроме «Берейшит бара елохим эт ашамаим вэ эт аарец…»
Эти слова я и начал произносить, и голос мой шел, будто голос чревовещателя, из глубины камня, из почвы, отражался от скал, от самого неба, меня охватил жар, и я представил, каким видит меня Моше – огненным столбом среди холодных камней.
Сам Творец явился ему среди скал Синая.
И вещал.
За первыми словами я, конечно же, вспомнил и следующие, от первой главы перешел ко второй, от нее – к третьей, и описал я Моше всю жизнь его праотцев, и его самого, и текст заповедей вспомнил, равно как и весь остальной текст, который, как мне казалось, никогда не знал от буквы до буквы.
Моше не то, чтобы слушал, он впал в экстатический транс, он внимал, он запоминал – так, как в наши дни и в моей родной альтернативе запоминают некоторые люди с одного прочтения целые главы толстых книг.
Я поведал бедняге Моше о том, как он умрет, и как похоронят его на высоком холме, и даже дату назвал, но весть о грядущей кончине не произвела на Моше ни малейшего впечатления. А может, – подумал я, – в этой альтернативе Моше уготована совершенно иная судьба, а я, диктуя ему вовсе не канонический для этого мира текст, тем самым нарушаю его историческую ткань?
А что мне оставалось делать? Ни Бельский, ни Шехтель не давали знать о себе, приходилось выпутываться, и я делал все, что мог, учитывая, что мог я только говорить, да и то – не своим голосом.
Закончив, я неожиданно успокоился. Вы представляете, чем отличается каменное спокойствие от каменного же возбуждения? Естественно, только температурой. Я успокоился и остыл. Я стал холоден, как все окружавшие меня камни. Моше вышел из транса и, по-моему, мгновенно забыл все, что я ему наговорил и напророчил. Меня это не волновало: когда надо будет – вспомнит. Единственное, чего мне сейчас хотелось: чтобы Моше поднял меня, положил в мешок и таскал с собой, а я бы смотрел и впитывал впечатления. Пусть это был другой мир, другая альтернатива Земли, но разве здешним евреям не предстояло почти во всем повторить собственную альтернативную судьбу? И я хотел видеть – естественное желание для историка, будь он даже камнем.
Я был слишком велик для того, чтобы поместиться в мешок. Да Моше и в голову не пришла такая возможность. Он был потрясен, напуган, и никакая иная мысль, кроме «скорее, вниз, подальше отсюда!», его, вероятно, не посещала. Видели бы вы, как он бежал! Но по мере того, как Моше спускался с холма на равнину, приближаясь к своему племени, бег его замедлялся, он перешел на шаг, а шаг становился все более уверенным, я бы даже сказал чеканным. Вершину покинул испуганный и мало что понимавший человек. К народу пришел Вождь.
Он даже не оглянулся!
А если бы оглянулся, различил бы он меня среди сотен таких же валунов?
Солнце зашло, темнота упала, как черное покрывало, и в небе засияли созвездия. Впрочем, из всех созвездий мне лично были известны два – Большая Медведица и Орион. Ориона я не увидел, а Медведица оказалась на своем месте. А где ж ей быть – в любой альтернативе Земли звезды должны были оставаться теми же, ибо не в них суть. Суть всегда в нас, людях.