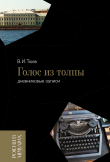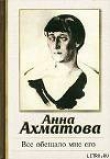Текст книги "Ахматова без глянца"
Автор книги: Павел Фокин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Виталий Яковлевич Виленкин:
На какое-нибудь замечание по поводу ее нового стихотворения, или отдельного стиха, или слова никогда не возражала, но, помолчав, обычно говорила: «подумаю», а иногда просто молча кивала в ответ головой. Бывало, проверяла себя, заранее требуя от слушателя полной откровенности. Несколько раз я от нее слыхал: «Я знаю, вы мне скажете всюправду», «Только скажите мне совершенно откровенно, хорошо?» и т. д.
Эмма Григорьевна Герштейн:
Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.
– Еще один пропавший сюжет, – заметила я.
– Нет, – возразила Анна Андреевна. – Об этом уже написано. – И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и о людях», тогда еще у нас не переведенного. <…> Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставляла его с изложением Ахматовой и не находила пластических сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.
То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6–7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы все – немного чужие друг другу – молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.
Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.
Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры. Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова: «Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича… Писатели… будут только рассказывать то значительное… что им случилось наблюдать…» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности. – Значит, просто в вас этого нет, – воскликнула Анна Андреевна. – Это – самое главное!Итак, самое главное – художественный вымысел. Восклицание Ахматовой – ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) – вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя».
Надежда Яковлевна Мандельштам:
А.А. сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если б жизнь сложилась иначе. Мне не очень верится: в исследованиях о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стушевывает. Писем же, по которым можно судить о свободной прозе, она никогда не писала, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от писем: противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, но и в юности она на этот счет была сдержанна.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Как-то раз у меня собралось довольно много народа, и Анна Андреевна вошла в комнату во время разговора о Кафке, которого тогда, впрочем, еще мало кто из нас читал в подлиннике или хотя бы в переводе. Усевшись в кресло, она без малейшей паузы включилась в этот разговор и моментально им завладела. Мы все рты разинули, когда она по общей просьбе стала пересказывать нам роман «Процесс», причем пересказывать так, что было впечатление, будто мы слушаем самого автора. До сих пор думаю, что это было какое-то наитие сотворчества: ни одного лишнего слова в этом потоке подробностей, как бы перегонявших одна другую, но в то же время поразительно рельефных. Продолжалось это странное действо чуть ли не целый час, но Анна Андреевна не устала нисколько, только щеки у нее разгорелись и глаза необычно блестели.
Маргарита Иосифовна Алигер:
Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи, – это естественно и нормально. Но иногда она говорила: – Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Ну до того придумала, что остается только сесть и записать.
Мне было удивительно это слышать: Анна Ахматова – и сценарий! Вот уж не вяжется! А она, значит, думала и о кино.
Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно: Анна Ахматова – и авиация! Но все это влекло ее, присутствовало в ней.
Анатолий Генрихович Найман:
К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадью просвещения», а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь, главным образом, переводами. Свои стихи она писала когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, – а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней – за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена. Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скиталец» румына Александру Тома…
Она переводила Незвала, которого называла «парфюмерным», Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и т. п. критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилёвского: «Коля занимался культуртрегерством, и только, он переводил с французского – как тут можно сравнивать!»
Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? – говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. – Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться.
Игнатий Михайлович Ивановский:
Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством. Сама она обратилась к переводу лишь на склоне лет. Переводила по подстрочникам, причем сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но даже хороший подстрочник не удовлетворял Анну Андреевну. Вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, Ахматова создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить. Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе. <…> Как-то сказала:
– Рифма в своих стихах помогает, ведет. В переводе это орудие пытки. <…>
Когда Ахматова взялась за переводы с корейского, встал вопрос о стихотворном размере. Русская и корейская системы стихосложения несоизмеримы. Как быть?
По просьбе Анны Андреевны к ней пришли студенты-корейцы. Пели, играли на своих инструментах. Ахматова вслушивалась. На размер она махнула рукой и просто написала стихи, соображаясь со смыслом и настроением подлинника. Это был единственно правильный выход.
Лидия Яковлевна Гинзбург:
И она обладала особым даром чтения.В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто. Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек – по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась. Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) – она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.
Игнатий Михайлович Ивановский:
Ахматова говорила, что у поэта непременно должен быть досуг. Время, когда он, по-видимому, ничем не занят.
Конечно, она имела в виду не ленивое и никчемное безделье, а тот досуг сознания, когда открывается полная свобода подсознательной работе мозга.
Эмма Григорьевна Герштейн:
Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-эмигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. Но это – мертвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она.
Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки. <…>
Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арго: «свин», «полусвин», «свинец». <…>
Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно.
Вячеслав Всеволодович Иванов:
Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали…»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.
Она мне признавалась, что у нее бывает страх, что стихов вообще больше не будет. От него даже она не была ограждена.
Эдуард Григорьевич Бабаев(1927–1997), поэт, писатель, литературовед:
В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:
– В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем месте.
– Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.
– Многописание не делает поэта…
– Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом…» Некрасова…
Игнатий Михайлович Ивановский:
– Если вам скажут, что стихи – занятие для молодых людей, не верьте. Возраст не играет роли. Она это доказала.

Свойства ума и мышления
Лидия Корнеевна Чуковская:
24 июня 1940.Понимает она, угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью.
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Много думавшая и глубоко переживавшая «личное» и «общее», то, что относилось к исторической и духовной жизни, она была человеком с позицией, с убеждениями, с принципами. Но все это, как часто бывает у людей артистического строя, не приобретало у нее характера системообразных построений. В этом отношении она была далека от символистов, которые редко обходились без концепций или систем – собственных или заимствованных у их предшественников. И однако это отнюдь не лишало мировоззрение Ахматовой направленности и постоянства.
Исайя Берлин(Berlin; 1909–1997), английский философ, общественный деятель:
В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда – провидческим и пророческим…
Анатолий Генрихович Найман:
В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему.
Исайя Берлин:
Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и проницательно определять самый нравственный центр людей и положений – и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей – с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. <…> У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они были основаны на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, все они были составными частями в связной концепции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным, в картине мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство.
Виктор Ефимович Ардов:
Ее суждения о людях, событиях, о нравах – жизненных и литературных – были бескомпромиссны. Иной раз Анна Андреевна произносила свое суждение:
– Это против добрых нравов литературы. И переубедить ее, уговорить, что дело обстоит не так, было невозможно.
Конечно, всегда права была Ахматова, а не ее не слишком щепетильные оппоненты.
Исайя Берлин:
Ахматова ни в коем случае не была визионером, напротив, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до Первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представало как живое перед глазами.
Иосиф Александрович Бродский. Из бесед с Соломоном Волковым:
Качество памяти было у нее поразительное. О чем бы вы ее ни спросили, она всегда без большого напряжения называла год, месяц, дату. Она помнила, когда кто умер или родился. И действительно, определенные даты были для нее очень важны.
Виктор Андроникович Мануйлов:
Она помнила не только все когда-либо прочитанное и услышанное, но и даты исторических событий, выхода в свет тех или иных книг. Меня всегда удивляли ее точные, с множеством характерных подробностей воспоминания о ее молодых годах в Царском Селе, о встречах с И. Ф. Анненским – директором Царскосельской гимназии, известном поэте, которого она позже назвала своим учителем, о литературной жизни дореволюционного Петербурга.
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
В разговорах с Анной Андреевной особенно поражала ее блистательная, феноменально точная память, которая распространялась на явления культуры в такой же мере, как и на мелочи жизненных отношений. (Мне приходилось, например, слышать от нее приблизительно такие фразы: «А прошлым летом вы говорили мне то-то и то-то».)
Наталия Иосифовна Ильина:
Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в свое время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало.
Анатолий Генрихович Найман:
Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней.
Михаил Борисович Мейлах:
Ахматова обладала редкостной памятью, наблюдательностью, зоркостью, она тотчас замечала то, на что другие не обращали внимания. Взяв однажды в руки выпуск «Paris Match», посвященный незадолго до того умершему Черчиллю, который остальные перед тем успели просмотреть, она указала на нескольких фотографиях детали, которых никто не заметил, такие как орден Подвязки на ноге Черчилля, или то, что на одном из снимков министр пьян. Она удерживала в памяти не только, как это бывает у пожилых людей, события давнего времени, но и все текущие события.
Анатолий Генрихович Найман:
Ее острый слух («собачий», «как у борзой» – если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, которые, произнесенные ею, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес.
Наталия Иосифовна Ильина:
…Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом: всякие обыденности в устах ее становились значительными – это поражало меня. Той осенью в Голицыне я открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже – и дар комический, что тоже поразило меня… Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься, одного чулка мало!»
Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное, я хохотала до слез, она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: «Перестаньте смеяться над старухой!» У этой величавой женщины, умевшей оцепеняюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор, а основной признак присутствия такого слуха – это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете.
Виктор Борисович Кривулин(1944–2001), поэт:
Уже тогда (при первой встрече. – Сост.) япочувствовал особую природу ахматовского юмора. Почти все, что она говорила, можно было понимать двояко, двусмысленно. Чем дольше я общался с ней, тем очевиднее становилось, что любое ее высказывание может быть прочитано вплоть до обратного смысла. Это была ирония по отношению ко времени, к себе, по отношению к современникам и к прошлому и, естественно, по отношению к нам. Какая-то тотальная, удивительная ирония, можно сказать, небесная, моцартианская. Ирония, которая для меня до сих пор значит гораздо больше даже, чем ее стихи. Потому что этот самый воздух, которым может дышать поэзия, где каждое слово имеет двойные, тройные смыслы.
Анатолий Генрихович Найман:
Чувство сценичности происходящего было свойств венно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, – сделанная незадолго до смерти и его, и ее. А.А. комментировала снимок: «Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: «Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын – не твой». Он хватается за голову… А сын тем временем уже профессор в Стокгольме».
Вячеслав Всеволодович Иванов:
Но в чем я убежден, так это в важности для Ахматовой юмора как очень существенной части европейской культуры (в отличие от восточной, по ее мнению). Она умела находить смешные черты во многом, что иначе казалось бы непереносимо страшным или неизгладимо скучным. Она могла быть язвительной или изысканно остроумной, но понимала и вкус грубой шутки. Как-то Анна Андреевна сказала мне: «И как мы разговариваем? Обрывками неприличных анекдотов». Один из таких обрывков она любила особенно. Не раз я слышал от нее уместную реплику: «Тоже красиво».
Анатолий Генрихович Найман:
В ее стихах юмор редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был наготове. Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело, – ей предлагали тот или иной выход, она говорила: «Не утешайте меня – я безутешна». Негодовала из-за чего-то, ее пытались разубедить – это называлось «оказание первой помощи». Ей советовали что-то, что было неприемлемо, она произносила иронически: «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ольшевская жаловалась на нее, что вот, столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом, она добродушно защищалась: «Грязная клевета на чистую меня». Она смеялась анекдотам, иногда в голос, иногда прыскала. Вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот. «И как правильно указывает товарищ из буйного отделения…»; «Сначала уроки, выпить потом…»; «То ли, се ли, батюшка, а то я буду голову мыть…». К пошлости была нетерпима, однажды сказала, возмутившись: «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать. Например, «папа спит, молчит вода зеркальная», как недавно осмелились при мне пошутить. А сегодня резвился гость моих хозяев: «Отчего Н. лысый – от дум или от дам?»» Терпеть не могла и каламбуры, выделяя только один – за универсальное содержание: «маразм крепчал». Однажды сказала: «Я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствовавший там X. воскликнул: «Вы с ума сошли – как можно, при Анне Андреевне!»» <…> Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше – точностью своих замечаний, и никогда – абсурдностью, в те годы входившей в моду.
Она шутила, если требовалось – изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось – грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще – на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добивала» шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны – подобно шуту-профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутовстве.
Михаил Борисович Мейлах:
Ахматова умела находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. Однажды к ней приехала молодая поэтесса, которая во всем произвела на нее хорошее впечатление, кроме выбранного ею псевдонима. Анна Андреевна спросила у нее фамилию бабушки, которая оказалась подходящей, и вопрос был решен, как более полувека назад для самой Ахматовой. Что-то похожее было и в том, как Ахматова регулировала продолжительность визитов: если посетитель выказывал нерешительность, следует ли ему оставаться дольше, она говорила, взглянув на часы: «Сейчас без четверти шесть? Посидите до шести». Она мудро обращалась со временем: «В день надо делать не больше одного дела».