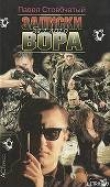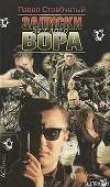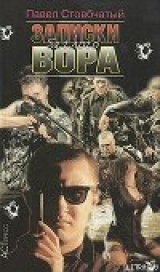
Текст книги "Сцены из лагерной жизни"
Автор книги: Павел Стовбчатый
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Параша
Рано утром на пересыльном пункте начинается оправка. В камерах обычно по пятьдесят—семьдесят человек, половина спит прямо на полу. Полно вшей, клопов, крыс, ужасная духота, постоянно варится чифирь, кадят сигареты и самокрутки. Никто не хочет выносить злодейку-парашу – железный бак в метр высотой и сантиметров семьдесят шириной. Как правило, ее хватает где-то на два дня и – доверху. Все стараются выскочить из камеры первыми, четверо последних обречены нести.
Коля Сытик и Юрий Петрович, два пожилых особиста, недавно переведены на строгий режим, они еще не успели понять «юмор» черного режима; живут понятиями и постановкой особого, где больше правильного, где почти все по жизни и как должно, где зарезать бандита или зарвавшегося хулигана совсем просто. Менты там тоже не исключение, «шелковые»… Необходимым условием является наглость и несправедливость, если это есть, завтра или через месяц вас обязательно прирежут или случайно придавят трактором. Если вовремя не одумаетесь.
– Парашу!.. – Контролер Гена Глист, спекулянт-прапорщик с двадцатилетним стажем работы на одной пересылке, напоминает зазевавшимся особистам о параньке. Он явно прикалывается над бедолагами, соображая, что почем, как настоящий зек.
Коля и Юрий Петрович переглядываются между собой, лихорадочно прикидывая, как быть. «Молодежь ушлая свалила, а выносить так и так надо, потому что до следующего утра не откроют». «Что за козья постановка?! Почему мы?! Надо разобраться с этим, нашли молодых!»
Особисты, безошибочно и не переговариваясь, набрасывают в уме «спектакль», и начинается игра.
Они молча подходят к параше и начинают валять ваньку…
– Ой, да мы не сдвинем её, старшой! – Коля и Юрий Петрович буквально краснеют от натуги, но руки и не думают напрягать.
– Ну сволочь, тя-же-лая… Не-е-е, надо пару человек молодых. Фу! Аж «мотор» прихватило сдуру! – Коля потирает грудь и корчится. – Ой, да она, кажись, привинчена к полу, Петрович! И не приподымешь глянуть, мать твою в так! В натуре, как привинчена! Старшой, её раньше-то выносили или нет?! Может, ты новенький, не в курсе, а?
Глист, понятно, давно «выкупил» разыгрываемую перед ним комедию и выжидает, смотрит, что будет дальше. Наконец ему это надоедает.
– Ну идете или я закрываю дверь? – не глядя на особистов, безразлично бросает он.
– Идём, идём, командир, ты чего! – в голос кричат особисты и летят к двери. Параша уже в четырех метрах от стены, все-таки кое-как они её немного оттащили.
Глист даёт им выскочить, заходит в камеру, опирается спиной о стенку и опрокидывает парашу на пол, успевая при этом отскочить. Дверь быстро закрывается на засов.
* * *
Семеро солдат и три овчарки десять минут загоняли в камеру шестьдесят человек, не желавших входить в зловоние. Глист гогочет и с удовольствием щелкает пальцами: «Это вам не у Кати за столом! От параши ещё никто не умирал».
Больше особисты к параше не подходили. Ночь прошла спокойно.
14 сентября 90-го года
Мертвец – ещё не свободный
Ровно шесть дней до свободы, восемнадцать лет позади! Ничего не лезет в голову, постоянно рассеян и где-то витаешь. Ждешь и одновременно боишься свободы.
Вчера утром снова погиб человек, Юра Медведников, родом из Кинешмы. Одно бревно, точно в голову. Может, судьба, кто знает!.. Но почему погибают только зеки, почему? Почему ни одной такой «судьбы» за последние одиннадцать лет не случилось ни с одним офицером? Почему?.. Десятки «почему?» и грустная усмешка… Это надо видеть и знать!
Земляки из Кинешмы с ходу отбили телеграмму родственникам погибшего. Надеясь, что родители таки приедут за телом, допустили неслыханную дерзость – обтянули простой, грубый зековский гроб дешёвой материей, неизвестно где раздобытой. Помянули с чифирем, поговорили. Прощаться с покойным не положено. Около восьми вечера в секцию влетает Коля Гусев, друг погибшего, и шальными глазами ищет меня.
– Пашка!!! – чуть ли не плачет он и весь трясётся. – Прости, Бога ради, я знаю, тебе не до этого, шесть дней осталось, но больше некому, некому!.. Гады! Козлы! Людоеды! И покойнику режим, и покойнику, Паша! – Губы его бледные и сильно дрожат.
Я успокаиваю его и прошу рассказать толком, что произошло.
– Мы обтянули материей гроб, Паша, чтоб хоть на что-то был похож. Родители уже под воротами, выехали сразу. А они… замполит Ливанов и режимник Рыбаков ворвались к шнырю вахты, где гроб лежит, и сорвали все, одни гвозди торчат! Материю унесли, шнырю дали в зубы. Он и рассказал все втихаря только что. Паша!.. Я и ты… Больше никто не узнает! Я понимаю, шесть дни, но не бойся, раньше времени они не узнают, клянусь! Запиши данные, запиши: Юра Медведников, тридцать один год, город Кинешма… Может, даст Бог, люди прочтут и узнают! Я знаю, у тебя много чего написано, мне говорили… Запиши, Пашок, запиши! Майор Ливанов и майор Рыбаков…
Апрель 91-й года
«Во даёт!»
Кто хоть один раз видел настоящего лагерного картёжника, каталу, отбывшего на зоне десять – пятнадцать лет, тот никогда и ни с кем уже не спутает его.
Настоящий картежник-профессионал никогда или почти никогда не проигрывает. Еще до начала игры он безошибочно определяет, на что способен его будущий или возможный партнер-соперник и способен ли он на что-то вообще.
Если партнёр достаточно «гнилой» и «прелый» и высчитать его не так-то легко, он сыграет с ним всего лишь пару партий, и все выяснится. Братва наивысшего качества практически не играет между собой в карты – нет смысла делить общее, братва делится так. Но бывают случаи, когда два авторитетных каталы сходятся в лобовой и играют до конца, до полного выяснения отношений, как говорят зеки.
Настоящий картежник, как правило, интеллектуал и аферист в одном лице, ибо обман в лагерной игре, в отличие от вольной, приветствуется и допускается. Единственно, что ждет мошенника, если его уличили в шулерстве, так это расчёт по ставке партии, не больше. Однако и тут есть свои исключения: в лагерной картежной игре, как и в жизни, на первом месте всегда стоит договор, контракт, «объява», и, если эта «объява» ограничивала возможность хоть какого-либо обмана, а картёжник допустил его, он будет не прав и уплатит за все. Но так играли только старые каторжане и воры, которые не позволяли себе играть на число или на «под туды», а играли только «на сразу».
Настоящий картёжник применит в процессе игры сто «жужжалок» и «примочек», поменяет пять колод, спулит карту, вымотает партнера, но так или иначе обыграет его, если тот играет на счастье и верит в кратковременное везение. На худой конец он проиграет десятку-две, встанет, завтра придет снова, а через три дня «убьёт» уверенного простака за пятьсот – шестьсот рубликов. Это его работа, это его хлеб. Тонкие, нежные руки, худые узкие плечи, изрядно ссутулившиеся от сидения на нарах, неторопливая, важная, слегка вкрадчивая походка (если ему уже за тридцать), впалая грудь; он часто совсем близорук. Умный, проницательный взгляд психолога, богатейшая интуиция… Вот приблизительный портрет большинства лагерных маститых катал, которые не вылазят из БУРов и крытых. Человек-лис, человек-кот. Он очень редко повышает голос и всегда спокоен, знает, что тихих лучше слушают и слышат, да и куда спешить? В большинстве – юморист и отличный рассказчик. Редко жаден на деньги, он их по сути, не ценит – как пришли, так и ушли, завтра будет день, а карты всегда в кармане…
Но встречаются и истинно «экономные», артисты! Имея восемьсот в заначке, они будут наигранно визжать и выть, проклинать чуть ли не два часа себя же за то, что неразумно расходовали какую-то трешку. Они могут ходить в старой линялой телогрейке, полурваной шапке и брюках с латками, являясь при этом самыми богатыми людьми в зоне, о чем всем, естественно, известно. Они не так жадны, как может показаться, но им нравится играть такую роль, и с годами они забывают, что это всего лишь роль.
Настоящему катале приходится очень часто и долго сидеть в камерах, ибо это их крест. Едва приехав в зону, он сразу бросается в игру, и буквально через семь – десять дней его знают все, кто хоть чуточку интересуется лагерным движением. Катала спешит, ему надо успеть наиграть денег на время отсидки в БУРе, куда его еще не посадили, но обязательно посадят через месяц или два. Там, где что-то знают двое, знает и «кум»: скрыть, кто ты есть на деле, в лагере невозможно. Их стараются быстро отловить, не обязательно за игрой, и запрятать на шесть месяцев под замок. Братва, конечно, его не забудет и там… Как и он потом братву…
Как это ни странно прозвучит, но честность, благородство и порядочность среди настоящих арестантов и воров ценится много выше денег и золота, и это не просто слова. Вор – это не какой-нибудь современный «крутой», не имеющий ничего, кроме дури и денег, силы и наглости. Вор – совесть арестантского мира, он не просто третейский судья в разборках, но человек, чье слово дороже денег и кого уважают по наитию, а не из-за страха либо тяжести авторитета. Таких было мало раньше, мало сейчас, но именно на таких ворах – и это мало кому известно – держится и держалась десятилетиями воровская идея. Они из того же теста, что и все люди, а человечество еще ничего не изменило в вечных ценностях. Да, они не станут работать и служить где бы то ни было, они живут воровством, но они и платят за это жизнью, бесценной и единственной! Не заметить этого невозможно. Картёжники всегда близки к ворам и живут одной с ними жизнью, но не все из них становятся ворами, не все…
Санька Липкин, тридцатишестилетний свердловчанин, умудрился отпыхтеть на строгом режиме почти двадцать лет. Он почти не был на свободе. Сев в четырнадцать, Санька четырежды освобождался, но, получив через несколько дней свои кровные пять – семь, снова отправлялся на зону.
Милиция давно наловчилась прятать таких, как он, и, надумай вдруг Санька завязать по-настоящему, ему бы никто и ни за что не поверил, и через три – пять месяцев он все равно бы получил срок. Если не за надзор, так за «изнасилование», если не за наркотики, так за «разврат».
Старые урки отлично понимали «систему» и потому обычно сразу «терялись», не прописываясь и не получая вшивого паспорта. И чудо! В этом случае они пробывали на свободе гораздо дольше тех, кто сразу шел в РОВД, как порядочный человек. Таковы причуды прошлой да и нынешней жизни.
С Санькой давно боялись играть. Он играл во все мыслимые и немыслимые игры и даже в «кто дальше плюнет», как шутят арестанты. Это был виртуоз и артист в полном смысле слова. Никто, даже зануды и жлобы, тем не менее не обижались на него и с легким сердцем платили свои проигранные денежки. Настолько он умел ублажить партнера и интеллигентно преподать ему урок мастерства.
Отсидев последние шесть месяцев в БУРе, Санька всячески лавировал и не попадался. Оперативники сходили с ума, но сажать его внаглую, причем сразу в БУР, а не в ШИЗО, да еще ни за что, было чересчур даже для ментов. Сажать же сперва в ШИЗО, как и полагалось, они не хотели по той простой причине, что за пятнадцать суток Санька успевал обыграть там двадцать – тридцать человек. Четыре стены, делать нечего, и все поступающие и поступающие люди. Играй – не хочу!
«Настоящая сволочь! – жаловались на Саньку оперативники своему непосредственному начальнику, заму по POP. – Специально не пьет, из бригады никуда не уходит, подкупил всех мастеров и прапорщиков, вежлив!..»
Да, всё, что можно было схватить в зоне, Санька схватил. Санчасть, шеф биржи и вольные мастера стояли за него горой. Он мог все! Должники получали посылки с дефицитом из Москвы и Питера, богатые родители из более близких мест нет-нет подвозили стройматериалы и мебель, цветные телевизоры и вещи. Всё крутилось и вертелось, бригада, где «висел» Санька, не думала о чае и куреве и ела от пуза. Проценты выработки всегда были на уровне. Если бы не страх, начальник колонии давно бы использовал его и сам, но он знал, что такая связь рано или поздно всплывет и тогда его неизбежно сожрут свои, те, кто давно метит на место хозяина.
В ту ночь Санька пошел играть во второй отряд к известному картежнику дяде Коле Пушинке. Выставив атас, он спокойно уселся на шконку и достал карты.
Старый тэрсист дядя Коля Днепровский решил в очередной раз попытать счастья и позвал Саньку в гости, посидеть… Это была отнюдь не первая его попытка обыграть Саньку, две предыдущие закончились полным фиаско.
«Теперь я легкий, как пушинка!» – шутя и с горечью сказал он после второго раза, и ему сразу приклеили очередную кличку – дядя Коля Пушинка.
Подыграв по низам денежек, он снова решил взять реванш. Самолюбие старого картежника никак не давало ему покоя. Дяде Коле исполнилось пятьдесят шесть лет, и его можно было понять…
В полчетвертого утра, когда Санька имел уже четырнадцать партий по двадцать пять рублей, в секцию галопом влетел атасник и крикнул: «Менты! Несутся прямо сюда, сдали, видать!»
Санька мгновенно собрал карты, завернул их в полотенце, на котором играли, и что есть силы швырнул в дальний угол под шконку, метров за девять от себя.
«Ну всё! Устряпался на шесть месяцев, идиот! Раз бегут, значит, „сдали“, факт!» – Десяток мыслей промелькнуло в Санькиной голове, он вылетел в коридор и на секунду замешкался. Куда?!
В бараке было всего четыре секции, но одна из самых маленьких принадлежала обиженным, лагерным «девочкам». Они жили там отдельной республикой, и по законам лагеря мужики имели право только разговаривать с ними и «общаться», ничего более.
Внезапная мысль осенила Саньку, но он внутренне содрогнулся от нее… «А, куда выведет, – подумал он, – выхода так и так нет». Рванув на себя дверь, Санька вбежал в «девичью», мгновенно отыскал в полумраке свободную койку и, сбросив тапки, нырнул под одеяло.
Два прапорщика и ДПНК уже протопали по коридору и ворвались в секцию, где всего две минуты назад играл Санька.
«Да, значит, в натуре сдали, и сдали в цвет! Случайностей у ментов не бывает…» – Санька понял, что его уже ничего не спасет, только зря опозорится с этой чертовой «девичьей»… А он уже сбросил куртку и брюки и остался в спортивном трико.
«Вот бес, разделся и лег в „петушиную“ койку!» – злился он на себя, предчувствуя, что его меры ничего не дадут. Когда надо, менты переворачивают все вверх дном, невзирая на время, а выход из барака всегда перекрыт…
«Может, успею выскочить? Они, видно, в тех секциях. Пока то да се… Скажу, заходил „даму“ позвать, ну и попался…» – Санька снова вскочил и начал в лихорадочной спешке одеваться, поглядывая на спящих «дам». Как раз в этот момент в коридоре снова послышался топот. Дверь распахнулась.
ДПНК с фонариком в руках шагал первым, он светил в проходы между шконками и нет-нет смотрел на бирки, висевшие на каждой кровати…
Заметив стоящего человека, он присветил на него и изумленно воскликнул:
– Ли-и-пкин?! А ты что здесь делаешь, дорогой?! Ты почему здесь и куда это на ночь собрался? – Дежурный никак не мог сообразить, что к чему, а Санька почти прикусил губу от досады. По голосу и вопросам дежурного он моментально понял, что дал страшного маху. «Господи! Они же случайно нырнули с обходом, случайно! Никакой „сдачи“! Теперь сто процентов посадят за то, что находился в чужом отряде ночью! Какой я бык, что же делать?!»
Выхода, казалось, не было, но Санька решил играть до конца.
– А вы с понтом не знаете, что я здесь делаю… – обиженно промычал он и, скорчив рожу, опустил голову вниз. – В уборную иду, куда ещё…
– Я тебя спрашиваю, как ты вообще здесь оказался, а не про уборную! – повысил голос ДПНК, так ничего и не поняв.
– Да всё уже, всё!.. Отыгрался я, начальник, радуйтесь! Вы давно жаждали загнать меня в «петушатник», что, нет? Ну вот я и на месте, дома!.. – Санька снова опустил голову и замолчал, как настоящий «обиженный». «Скушает лапшу или нет?»
Дежурный не поверил собственным ушам и все смотрел, все вглядывался в некогда козырного арестанта.
– Вот это но-овость! – наконец произнес он и взялся рукой за козырек. – Ну ты даешь, Липкин, ну даешь! А я и не знал, честно говоря, да… Вот жизнь блатная, а?! – Ему стало весело, и он даже рассмеялся. – Ничего, от этого еще никто не умирал, Липкин, живут и здесь, может, оно и к лучшему, кто знает… Поблатовал и хорош, может, сидеть больше не будешь. Я таких мно-ого видел, ничего… А вообще-то вы все одинаковы, – махнул, он рукой, – в зоне масти, а там напасти… Ну не расстраивайся особо, поможем… – Он повернулся к прапорщикам и вместе с ними пошёл на выход.
Санька стоял как вкопанный на месте и не решался ступить шагу. Ему казалось, что они сейчас спохватятся и вернутся за ним. Случилось невероятное: менты поверили картежнику на слово и не стали ничего проверять! Смех и гордость потихоньку распирали его грудь. «На такую мякину, на такую мякину!!!» Конечно, ДПНК ни за что не простит ему такого фокуса, так или иначе посадит за другое, но пусть неделя да на воле!..
* * *
На следующий день буквально вся зона ржала, пересказывая услышанное и добавляя в ночной прикол все новые и новые детали. Один Санька не ликовал. Он уже собирал мешок и утрясал свои дела перед долгим «плаванием»… Такова жизнь.
«А где их взять?»
Группу очередных отказчиков от работы, человек двадцать пять, еле втиснулись в помещение, заводят в кабинет начальника колонии. Все средства и методы к ним уже применялись: угрозы и постановления на лишение ларька, передач и свиданий, побои – ничего не помогает. Они упорно не желают выходить на лесо-биржу. Сейчас начальник сам решит, кому сколько суток, а кому БУР.
Причины его не интересуют, все начальство отлично понимает, что почти ручной труд под открытым небом ужасно тяжел, даже невыносим, но что делать?.. Сверху давит свое начальство, и оно не пощадит, оно не видит вблизи смертей и травм, голода и самоубийств, оно тре-бу-ет государственный план.
Мороз тридцать – сорок градусов, с восьми утра до девяти вечера на бирже, голая пайка, пахота за двадцать – сорок рублей, а часто и даром. Целый месяц бригада работала, но план не выполнила: премии нет, заработка нет, почти все уходит хозяину за питание и обязательные пятьдесят процентов государству. Работай дальше!
«Лучше уж сидеть в ШИЗО, – рассуждали многие мужики. – Сломаешь хребет или ногу, никто о тебе и не вспомнит, копейки не дадут! На кого пахать-то?!»
Зимой в отказ оставалось очень много людей, сорок – шестьдесят человек каждый день волокли в железные клетки на улице, а потом по одному до пяти-шести вечера выдергивали в штаб, на разбор. Выдержать, причем не один раз, процедуру клеток, прежде чем попасть в ШИЗО, было не так легко, многие не выдерживали и шли пахать. Люди калечились и гибли, как мухи, особенно во время обледенения, когда снега еще нет, но прихватывает мороз, настоящий уральский мороз.
Десятки обледенелых пятиметровых баданов диаметром от восемнадцати до шестидесяти сантиметров, словно торпеды, с грохотом срывались с ниток транспортеров и неслись вниз с большой высоты прямо на людей и дальше, к реке.
Жуткое, непередаваемое зрелище, особенно когда тебе некуда спрятаться и ты совершенно бессилен высчитать полет бревна! Штабеля рушились и накрывали по два-три человека сразу, зекам отрывало ноги и руки, заматывало их в барабаны и цепи, ломало тазы и ключицы.
Из-за работы и теплого местечка между зеками шла настоящая рубка, и дело доходило до того, что убивать стали из-за мотора и лучшего леса. Трупы бросали в кузов железного МАЗа или, обмотав тросом, как бревна, везли на тракторе до зоны. Ночью гибло еще больше… План выжимался любой ценой, О технике безопасности в лагере заикаться было смешно, но мастера, инженеры по этой самой технике, а их присылали в зону тучами, никогда не забывали поднести зеку журнал по ТБ.
«Распишись, а то завтра прихлопнет сдуру, начнут таскать, объяснительные со всех брать… Сам понимаешь!.. А может, тебе инструкцию прочитать, а?» – «Да на хуя мне твоя инструкция, кто по инструкции работает здесь?»
Слушать их, конечно же, не имело смысла. Будешь соблюдать инструкции, выполнишь норму на двадцать процентов, хозяин завтра запрессует.
Каждый выживал как мог, слабые погибали либо опускались на самое дно и тихо сходили с ума.
– Ну что, граждане тунеядцы, отказчики и престуг ники!.. – будто персонаж из фильма «Операция „Ы“» спрашивает старший лейтенант Фомичев у сбившихся в кабинете отказчиков. Симпатичный, молодой, умный карьерист, начальник ИТК. Этот из новой плеяды ментов, с претензией на интеллигентность и прочее. Встает из-за стола, одергивает китель.
– Одни и те же лица, одни и те же!.. – Он внимательно всматривается в лицо каждого, как будто желая разгадать и проникнуть внутрь, а сам думает, что бы такое сказать. Говорить действительно нечего, да и что можно сказать тем, кто живет на грани и не лишен разве что воздуха?..
Но хозяин таки находит слова:
– Вроде неглупые люди, на стро-гом режиме… Все понимаете, не инвалиды…
– У меня третья группа, гражданин начальник! Я же вам говорил в прошлый раз… – Маленький мужичок лет пятидесяти в длинном грязном, засаленном бушлате неизвестно с чьего плеча пробивается вперед.
Это Глухой, из Калининграда. Он действительно очень плохо слышит и потому постоянно торчит в санчасти, откуда его прогоняют. Болезнь несерьезная, работать можно и глухим. Полудетский скулящий голосок, ангельское, стянутое, как у старушки, лицо, печальные глаза. Сущий одуванчик по виду. Ему дали десять лет за убийство врача – ещё одна причина, по которой его гонят из санчасти.
Освободившись из лагеря в последний раз, Глухой очень болел и потому был вынужден сразу лечь в больницу. Какой-то молодой врач чем-то сильно задел его душу, то ли невниманием, то ли обманом, то ли грубостью, и этот тихий дедушка вогнал ему нож в грудь прямо в палате. Он умер через два дня, поэтому Глухому и дали десять, а не пятнадцать или расстрел.
Надо сказать, Глухой нисколько не страдал из-за содеянного и постоянно вынашивал планы поджога санчасти или кого-нибудь из медперсонала. Оперативники не принимали его болтовню всерьез, а может, просто выжидали…
– Тихо! – гневно зыркнул начальник на Глухого, и тот сразу заткнулся. – Неужели вам в самом деле лучше в ШИЗО, чем на бирже? – допытывался он от нечего делать. – Вши, клопы, баланда, параша!.. Чего вам не живется, не пойму? Ну вон другие… Работают, и ничего, привыкли… Я понимаю, труд тяжёлый, но, извините, я вас сюда не приглашал. Это спецколония, спецлес… Ходят в ларек люди, деньги кой-какие родителям посылают, на поселение со временем выходят, а вы?..
Зеки, дождавшись паузы, разом загудели: «Ничего не платят!»; «Сапоги не могу стащить с мороза, валенок негде взять! Воровать, что ли?!»; «На бирже помыться негде, хотя бы одну баню на всех!»; «Бригадиры бьют крючками, а у меня сил нет на норму!»
Выкрикивают самое наболевшее.
– Тут в основном все больные, гражданин начальник, а в санчасть не попадешь. Она один час принимает, а очередь на двадцать метров! Говорят, что это специально так, по вашему указанию, чтоб меньше людей от работы освобождали. За час до развода можно от силы семь – восемь человек принять, а остальным куда? Хозяин дает возможность высказаться всем, потом поднимает руку:
– Это лагерь, господа!.. Подстраиваться под вас здесь никто не будет. Накопите себе отгулов и идите в санчасть, если больны. Помыться можно в жилой зоне, баня есть, нечего тут антимонию разводить! Валенки выдаются по лимиту, а бьют лодырей! И мало бьют, мало! В столовой, небось, по три пайки жрете, а работать Вася будет? Не выйдет!
После слов о пайках Глухой как-то встрепенулся и напружинился.
– А где их взять, где?! – неожиданно произносит он таким тоном, будто три пайки и были единственным счастьем в его жизни.
В кабинете на секунду все смолкло. Начальник внимательно посмотрел на Глухого и понял, что сморозил несусветную глупость. В столовой подбирались даже вывалянные на полу огрызки, а не то что куски хлеба. Ни о каких трех пайках не могло быть и речи. Даже не верилось, что на дворе стоит восемьдесят второй, а не сорок седьмой год!
Зеки не выдержали и дружно закатились смехом. Если б они были, эти три пайки! Все на мгновение позабыли, что их вот-вот потащат в ШИЗО.