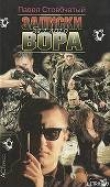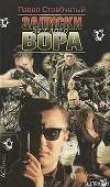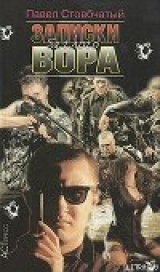
Текст книги "Сцены из лагерной жизни"
Автор книги: Павел Стовбчатый
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
СТОВБЧАТЫЙ Павел Андреевич
Записки беглого вора – 4
Сцены из лагерной жизни
Рассказы
«Привет», или Почему у зеков «отмороженные» глаза
Окно выдачи диетического питания в лагерной столовой. За маленькой перегородкой стоит очередь с мисками, человек восемь-девять. Больные и те, кому дано, – у кого есть деньги. Вообще, больных на списке человек пятьдесят, тех, кому дано, – сто двадцать.
Кирилл, вечно голодный, но неунывающий работяга, уже несколько дней присматривается к этой «тусовке» и трется возле окошка. Денег у него нет, а кушать очень хочется. В один прекрасный день он прикидывается глупой овечкой, дожидается своей очереди и, бросив небрежно-обыденное «Привет» вездесущему повару-раздатчику, преспокойно сует миски в «амбразуру». Первый раз! Страха нет, но есть некое сомнение в глубине души. Оно-то и может передаться раздатчику. Диета по лагерным меркам стоит довольно дорого. Повар на несколько секунд застывает, видимо что-то вспоминая и перебирая в уме, смотрит в Кирилловы бесцветно-проникновенные глаза и… накладывает! В последующие дни все идет как по маслу, сказывается наработанный опыт. Кирилловы глаза в течение месяца становятся как бы другими… И это замечают все. Он на седьмом небе от счастья, смеется до боли в животе…
– Чё вы боитесь? – внушает он мужикам в секции. – Я сам раньше боялся и стеснялся… А чего, спрашивается? Они же обкрадывают нас, козлы! Драться не кинутся. Подошел, сказал «Привет» и – суй миски. В морду не плюнут, они всех не помнят, а тайный список прячут от ментов подальше. Главное, понаглей, с уверенностью! – Кирилл хохочет и хлопает себя по животу.
Через полтора месяца бедняга «погорел» на продавщице из зоновского ларька. Сказав ей «Привет», он от имени начальника попросил тридцать пачек сигарет «Астра», не зная о том, что час назад хозяин уже посылал человека за куревом.
Мы встретились ровно через пятнадцать суток, когда он вышел из ШИЗО. Изрядно похудавший, он стоял возле санчасти и что-то обдумывал.
– Привет, Кирюха! – поприветствовал я его и спросил, как положение.
– Класс! – ответил он, выставив вперёд большой палец. Кивнув на кабинеты санчасти, многозначительно добавил: – Пора знакомиться…
«Знымайтэ потыхэсэньку!»
Фельдшер Галя Новак крутит втихаря любовь с нарядчиком-зеком. Гале – сорок три, ему – двадцать восемь. Муж Гали ни о чем не догадывается, работа дежурного помощника начальника колонии выматывает до предела. Коллеги Галочки кое-что подмечают, но дружно молчат из солидарности с дамой, дожидаясь неминуемой развязки.
Раза два в неделю Галя приходит на работу чуть раньше положенного времени, и через несколько минут в санчасть «случайно» заявляется нарядчик…
Тридцати минут до прихода остальных им вполне хватает. У нарядчика, как и положено, все схвачено, на атасе стоит его очень доверенный и проверенный человек, следит за движением в оба глаза и даже больше того. Окон в кабинете нет, дверь запирается изнутри…
Но нет ничего тайного, что бы не стало явным. Информация в конце концов доходит и до оперов…
Поймать «преступников» надо с поличным, на месте, так сказать, преступления, иначе и тот, и другая откажутся наотрез от запрещенной связи. Оперативники под каким-то предлогом вызывают на ковер того самого атасника и под угрозой нового срока за якобы участие в передаче наркотиков понуждают его к «сдаче» товарища в самый горячий и волнующий момент… Все детали оговорены до тонкостей, со всех сторон.
В один из дней Галя приходит в зону раньше обычного и едва успевает глянуть на себя в зеркало, как появляется «жених». Атасник исправно стоит под дверями и терпеливо дожидается легкого постанывания… Сигнал – и три здоровенных прапорщика вместе с оперативниками с маху выламывают дверь кабинета.
Галочка в неглиже сидит на коленях у возлюбленного спиной к дверям.
И ворвавшиеся, и застигнутые замирают на некоторое время, не зная, что делать. Наконец до Гали доходит весь ужас случившегося, и она, пряча лицо в грудь нарядчика, восклицает: «Знымайтэ потыхэсэньку! Знымайтэ потыхэсэньку!» Потом, спохватившись, прикрывается рубашкой и гонит прочь подлых оперативников. В руках она держит трусы, свирепо размахивает ими, но не замечает этого.
Через сорок минут весь лагерь и посёлок вовсю смакуют детали происшедшего. Инструкции прежде всего!
«Привет Фариду»
Фарид перевидел в своей жизни многое. Спецы и одиночки, мор и кормежку с лопаты, никотиновый пресс и жажду, холод и смирительные рубашки. Его не сломал даже знаменитый жуткий препарат «Мадам де По», делающий из здорового человека паралитика. Врачи-оперативники из психиатрических отделений нескольких больниц буквально преклонялись перед стойкостью этого сорокапятилетнего татарина, бродяги по жизни в лагерном понимании.
Но что значит все это в сравнении с наглостью, тупостью и цинизмом капитана Петренко, знаменитого на весь Кизел-лаг хохла-хапуги, «воспитателя» и начальника отряда!
Выходной день. Фариду остается ровно двадцать шесть дней до долгожданной свободы. Он уже отпустил небольшой волос и весь преобразился, как преображается всякий зек, разменявший последний месяц на зоне.
Барак, секция, предпоследний проход, где обычно обитают блатные и авторитеты. На тумбочке гора газет и журналов, дым коромыслом.
В три часа дня в секцию неожиданно влетают два прапорщика и капитан Петренко. Очередной обход в поисках добычи. Зеки быстро гасят и спуливают окурки кто куда. Прапорщики скорым шагом устремляются к последним, «козырным», шконкам, успевая пробежаться рыщущими глазенками по лицам и позам сидящих и снующих. Жажда добычи и хоть какого-то улова делает их похожими на мерзких шакалов.
Капитан Петренко идёт прямо в проход Фарида, тот встаёт с койки и садится, стараясь не встретиться взглядом с хищником.
– А, Фарид!.. – издевательски-радостным тоном восклицает Петренко, как будто только заметил татарина. – Газетки почитуешь, книжечки. – Он мешает русские и украинские слова, в общем, говорит как неотёсанная дубина. – Скикы осталось, га? Шось не дужэ весел…
– Двадцать дней, – нехотя отвечает Фарид и тяжело вздыхает.
– Бачу, волос видпустив вже… Острыжэм, ничого!
Фарид молчит и, сцепив крепко зубы, ждёт худшего.
Петренко тем временем лезет в верхний ящик тумбочки, достает оттуда мыло, щетку, письма, папиросы, домино, ручку.
– О, четки! – вертит он в руках красивые чётки, которые только вчера принесли из рабочей зоны, на освобождение Фариду. Спокойно кладет их в карман. – Не положено. На воли будэш носыты. – Петренко задевает что-то на тумбочке, и мыло падает на пол.
Фарид молчит.
Петренко открывает дверцу и вытряхивает содержимое тумбочки прямо в проход. Книги, свернутые носки, брюки, рубашка, банка из-под кофе, две пуговицы, спички, баночка с солью, крем… Далее идут какие-то свертки, пакеты и бог знает что ещё. Шмон будет долгий и капитальный.
– Скажи, что ты хочешь найти, и я тебе отвечу, – говорит Фарид. Его уже начинает малость потряхивать.
– Знамо шо, Фарид, знамо, – ухмыляется Петренко.
Последним из тумбочки извлекается целлофановый мешок с пряниками. Петренко демонстративно переворачивает его, и пряники сьшлются под ноги Фарида. Тумбочки пуста.
Лицо Фарида медленно наливается кровью, он теряет всякое благоразумие и терпение.
– Ты что же это, пидор, делаешь?! – чётко произносит он, готовый вцепиться гаду в глотку.
Петренко в это время высыпает спички из коробков, но судьба Фарида уже предрешена, это видят все.
– Шо-о ты сказав?! – Вещи мигом оставлены, Петренко впился глазами в Фарида. – Шо ты сказав?! – повторяет он ещё раз и встает с корточек.
– Я сказал, что ты пидор и мразь, хуесос поганый, животное!
Глаза в глаза. Гнев, ненависть, бессилие и безысходная тоска. Здесь ты до последней секунды раб и не вздумай претендовать на большее!
– Пишлы зи мною, – говорит Петренко и быстро, на всякий случай, выходит из прохода. Он подзывает прапорщиков, и они вместе ждут, пока Фарид оденется.
– Игорь, – обращается Фарид к соседу, – скажи Седому, чтоб не забыл насчет Вити… Он в курсе дел. Пояснишь, за что меня уволокли.
Все выходят. Зеки плюются вслед легавым.
* * *
Через двадцать минут остриженного наголо Фарида повели в изолятор. Пятнадцать суток за оскорбление офицера.
Выйдя из ШИЗО, Фарид рассказал мне, что ублюдок Петренко ещё трижды проделывал то же самое без него и, обращаясь к зекам во время своих фокусов, всегда говорил одно и то же: «Привет Фариду».
Недавно к капитану Петренко прикрепили двоих молоденьких курсантов, прибывших в зону. Говорят, они успешно перенимают его опыт…
Отремонтировали
Весна. Ремонт барака собственными силами. На улице почти тепло, на душе очень скверно. Игорь Жук и Стёпа Бандера возятся в одной из секций. Один – бывший шнырь, другой – бывший повар. Стёпа здоровый и старше, Игорь меньше и спокойней, весь в себе, сроку – девять лет.
Из-за какого-то пустяка возникает перебранка и ругань. Стёпа рычит на Игоря и лает его всяко-разно, тот огрызается в ответ, кипит и напоминает Стёпе, что он всего лишь повар… Атмосфера накаляется – шнырь, по мнению Стёпы, не блатнее повара, и он его в гробу видал.
Наконец Стёпа пинает Игоря ногой в грудь и сам чуть ли не падает с табуретки, на которой стоит. Тот отлетает в сторону и, зацепившись за доски, падает на пол. Торчащий гвоздь впивается Игорю в ногу, и он дико взвывает от боли. Вскочив, тут же бежит в угол секции, где стоит ведро с инструментом.
Топор уже в руках. Стёпа спрыгивает с табуретки, ищет глазами лом или что-то тяжёлое. Ещё секунда – и он выскакивает в коридор, затем на улицу. Мат, погоня… Игорь гонится за безоружным Стёпой. Стёпа с криком несётся в сторону вахты. Идущие навстречу зеки сторонятся и замедляют ход. Стёпа в ловушке; впереди высокие металлические ворота, по бокам локальные перегородки. Вся надежда на сидящего на кнопке активиста-сэвэпэшника, который открывает маленькую калитку. Тот все видит из будки, но не спешит нажимать на спасительную кнопку, понимая, что в подобных случаях, как правило, «валят» и сэвэпэшника, до кучи. Расстояние между бегущими неуклонно сокращается. Пять, четыре, три метра… Топор летит и попадает Степе прямо в голову, он падает у самого КП. Толпа быстро окружает лежащего в луже крови…
* * *
Врач Галина Павловна, жена хозяина зоны, вместе с ДПНК в это самое время возвращаются из ШИЗО. Дежурный расталкивает зеков, пропуская вперед врача. Посмотрев несколько секунд на Степу, она поворачивается к майору и кривит губы… Потом сбрасывает с ноги туфлю и пальцами сквозь тонкий капрон пытается нащупать пульс на откинутой руке Степы.
– Не прощупывается. Рана слишком глубокая… – констатирует докторша и, ни на кого не глядя, идет к вахте. За ней плетется дежурный.
Зеки дружно чертыхаются им вслед и судачат о происшедшем. Всех интересует, сколько лет накинут Игорю. Солнце почти в зените.
«Ату его!»
Январь восемьдесят четвертого года. Уральский лагерь. Развод на работу. Лютый мороз с ветром, все спешат выйти на объект и добежать до будки. Впереди почему-то возникает заминка, бригады стоят, мат и проклятия нарядчику и всему свету. Некоторые зеки вытягивают головы и выходят из строя. В чём дело?
Выгоняют самого ярого отказчика от работы, Жору Утюга. Двести пятьдесят суток изолятора за спиной, «опущен» и списан в «петушиную» бригаду, неоднократно бит до синевы. Ничего не помогает. Жора в глухом отказе, дело принципа. Помощник замполита, занимающийся отказниками, не верит в такую невиданную стойкость уже «петуха» и приказывает беспредельщикам из «петухов» же привести последнего силком.
– Приволочите и вытолкайте на биржу, а там посмотрим, – говорит он бугру.
Наутро бугор и ещё пара вышибал берут отказчика под конвой и волокут на развод вместе со всеми. После выкрика его фамилии он делает несколько шагов в сторону ворот и быстро ныряет в узкое пространство между здоровенным, выше человеческого роста, железным ящиком для инструмента и забором штрафного изолятора. Два прапорщика и сэвэпэшник тут же бросаются туда. Поздно…
Угрозы и крики, жуть и мат. Один из прапорщиков в гневе пинает ногой отказчика со всей силы. Нога его достает последнего, но тот забивается ещё дальше и начинает истошно, дико орать. На крыльцо штаба выскакивает все лагерное начальство во главе с полковником Сухотериным.
– Собаку сюда, быстро! – командует Сухотерин.
Через несколько минут солдат с собакой уже стоит у крыльца. Собака рвётся с поводка и громко лает. Бригады, воспользовавшись хипишем, сбились в кучу, но все молчат, все на расстоянии и наблюдают.
Солдат почему-то уперся и не хочет спускать собаку на человека. Он подчиняется своему, а не лагерному начальству.
– Забери у него собаку! – приказывает полковник прапорщику. – Стоит, понимаешь, сопли распустил тут! Иди (слово «иди» вырывается рыком) на хуй (слово «хуй» как раскат грома, поражающий волю) отсюда, щенок!!!
Прапорщик берет поводок из рук растерявшегося или жалостливого солдата и пускает собаку к ящику. Поводок пока еще совсем не отпущен.
Нечеловеческий вопль рвет морозный воздух, все морщатся и отворачиваются.
– Давай! – кричит Сухотерин. – Давай!
Прапорщик не спускает собаку, но кричит в узкое пространство:
– Вылазь, гад! Вылазь по-хорошему, загрызет! Себе хуже сделаешь, учти… Вылазь, говорю!
Собака бешено лает и рвется из рук.
– Ма-а-а-ма-а-а!!!
Второй вопль «бьет» сильнее первого, и по запуганым рядам бригад проносится недовольный гул.
Сухотерин тут же подскакивает к первой стоящей четверке и наотмашь бьет кого-то в лицо, тот не падает, но летит на задних.
– Руки по швам, ну!!!
Ряды быстро шевелятся, и через мгновение все четверки ровнехонько стоят на плацу.
– Продолжайте развод, – командует полковник Сухотерин.
Собаку оттаскивают, и зеки проходят к воротам.
* * *
В стационаре Жору Утюга никто не видел, в больницу же таких не возят…
Его звали Витя
Его звали Витя. Вчера ему исполнилось ровно двадцать лет, а сегодня я пишу этот рассказ, и слезы медленно текут по моим щекам, сильно режет в глазах.
Мне нельзя плакать, ибо в будку, где я пока один, нет-нет кто-то заходит… Я должен уложиться в час, в один час, и, видит Бог, я уложусь в него, даже если время потечет в два раза быстрее. Я сделаю это, ибо уже задыхаюсь, а сердце отказывается работать, как прежде, оно слишком много повидало и знает, оно видит твоими глазами, Господи, и я шепчу, шепчу про себя: «Не приводи сюда никого хотя бы час, Боже, не приводи!»
Дай мне сказать то, что всегда говорил Ты, дай мне рассказать о Вите, которого уже нет!
* * *
Он выпил, немного выпил… Три месяца подряд он отрывал из своих ларьковых восьми рублей по пятёрке и, отдавая чеки за чистые деньги, терпеливо копил на одну-единственную бутылку водки. Ему хотелось выпить в свой день рождения и хоть на время забыться, «уйти» из лагеря.
Друзей и приятелей у Вити не было, да и какие друзья могут быть у несмышлёного, голодного, нищего пацанёнка на строгом режиме? Одни неувязки и хлопоты с ним! Богатой мамы у Витюши тоже не оказалось, он рос в детдоме и где придётся. На той работе, где он работал, платили всего четырнадцать-пятнадцать рублей на карточку. Кому он был нужен такой! Так и жил Витя почти год в зоне, совсем незаметно и тихо, как маленькая, никому особо не мешающая мышка. Работа, столовая, койка, книжка и грустные, тяжёлые мысли о сроке. Мне нравился этот мальчонка, нравился своей застенчивостью и нелагерной скромностью, чего не всегда приметишь у молодых.
Глядя на него, я вспоминал себя былого, свои чувства и мысли почти два десятка лет назад, в зоне строгого режима.
Чего хотелось мне тогда? Пять дней в неделю я думал о легком способе самоубийства, два утешался мыслями о Тане… Да, Богу угодно было послать мне восемнадцать лет нечеловеческих мук, но тогда я об этом еще не знал. Ах, Витя, Витя! Если бы ты знал, на чью смерть копил ты эти проклятые деньги, если бы ты знал!
Купив через вольняшек бутылку водки, он выпил ее вместе с одним парнишкой, который, видимо, просто располагал его к себе. Пайка хлеба, луковица и треть пачки маргарина на закуску – вот и весь день рождения. Больше года он не пробовал водки, я знаю это совершенно точно потому, что несколько раз вечерами беседовал с ним и кое-что ненавязчиво выпытал. Я имел намерения со временем приблизить его к себе, поддержать морально и материально, что и так, по сути, делал уже, но и не борщил особо, давая понять, почувствовать ему, что тюрьма не мёд и легко в ней ничего не даётся. Нет, я не имел ни единой корыстной мысли, Бог мне судья! Я видел в нём себя, и этим всё сказано.
Да, я мог купить ему не одну, а три бутылки водки, я мог «увязать» с бригадиром, и его отпустили бы с работы на целый день, но я даже не знал, что вчера ему исполнилось двадцать лет! Я этого не знал.
Молчун, он неохотно рассказывал о себе, держал все внутри, горел и страдал один. Только глаза говорили мне об этом страшном невидимом огне, силу которого познал и я.
Витя быстро опьянел и, подойдя к бригадиру, попросил того поставить его на другое рабочее место, всего на два часа, пока не выветрится дурман.
Бугор без особого удовольствия выслушал Витину просьбу и счёл себя обиженным и обделенным каким-то сопляком. Его, Васю Клыча, обошли! Авторитеты и солидные приглашали, а этот…
Я ни в чем не виню Клыча, нет. Я не виню его потому, что хорошо, слишком хорошо знаю, что сделало его таким. Знаю, что значат двадцать девять лет лагерей – советских, людоедских, лагерей смерти. Я не виню его еще и потому, что вся планета веками и тысячелетиями кого-то обвиняла и клеймила, казнила и загоняла в тюрьмы и подвалы, а их все не убывало и не убывало. На смену одним приходили другие, и все начиналось сначала.
И только один Христос… Один Христос возлюбил убийц своих и простил их до казни, еще до нее! Что хотел сказать Он людям, что? Не то ли, что любить и прощать надо тех, кого по жизни земной невыносимо и немыслимо любить, кого и Он, быть может, не сумел бы переделать в течение одной человеческой жизни. Может быть, Он хотел сказать всем, что святые, чистые и тихие и так дойдут до Царствия Небесного, что только любовью и прощением возможно явить мир и дать начало Света убийцам, насильникам и лжецам?!
Сложно ли любить красивое, сложно ли любить чистое? А возлюби, человек, грязное, возлюби, брат, (страшное и чудовищное по сути. Возлюби, коль ты человек! Поэтому я не виню Клыча…
Он сдал Витюшу ментам через тридцать минут после их разговора. О это жуткое число тридцать! Сколько людей ты вогнало в ад, сколько человеческих душ ты вместило в себя за последний век, только за последний век?!
Витю тотчас сняли с лесобиржи и повели в штаб колония. Он шел своим ходом и даже не шатался. Сначала его закрыли в «темную», под лестницу, а потом, позже, когда появился начальник его отряда, Витю вывели в комнату контролеров и впятером, вместе с ДПНК начали избивать дубинками и ногами. Он не кричал и не вырывался, и это ещё больше распалило прапорщиков и офицеров, жаждущих преподать сопляку хороший урок.
Один из них, лейтенант Затулин, ударил его по голове доской для счёта при проверках. Удар оказался очень сильным, весь пол моментально залило кровью. Витя потерял сознание, алая кровь заливала куртку и шею. Один из прапорщиков пнул его ногой, сказав, чтобы он брал тряпку и вытирал свою блевотину – так он называл кровь. Убедившись, что парнишка уже ничего не может делать, они снова затащили его в «тёмную».
Через двадцать минут кто-то подошёл к двери «тёмной» и спросил Витины инициалы… Витя молчал. Тот повторил вопрос. Снова тишина в ответ. Угрозы и стук в дверь не дали результата. Войдя в «тёмную», дежурный капитан понял, что пацан умирает или уже умер.
Машины не было, его погрузили прямо на тепловоз, стоящий в это время на бирже, и отправили в больницу. Двадцать пять километров дороги стали последними километрами Витиной жизни. Он скончался, не приходя в сознание. Виктор Петин, 1970 года рождения, статья 89 УК РСФСР, срок – 4 года. Экспертиза установила, что он был пьян, а нападение и сопротивление пьяных пресекается по инструкции жестко. Я не виню этих убийц, нет. Я не виню их потому, что…
Успел… Уложился в пятьдесят восемь минут. Благодарю Тебя, Господи!
23.10.90-й год
«Леонид Ильич, пришлите бандероль!»
Зима, январь 75-го года, Микуньский лагерь строгого режима… Мне пошел двадцать первый год, всё ещё впереди.
В бараке человек сорок – пятьдесят, режима пока никакого, полная расслабуха. В августе сюда, в ИТК-10, завезли человек шестьсот заключенных со всех концов Союза. Раньше в зоне сидели в основном первоходочники с большими сроками, усиленный режим. Их всех вывезли.
У дальней стены барака бренчит гитара, несколько человек, спарив шконки, играют в карты, кто-то чифирит, кто-то болтает, кто-то спит, накрывшись бушлатом. На улице за сорок градусов мороза. Мишка Дубик (все фамилии подлинные), коренастый маленький крепыш из города Стрий Львовской области, о чем-то яростно спорит с Лёхой Мамочкой, луцкий молодой карманник Витя Морущак «подливает керосину» в спор и втихаря посмеивается над земляками. Я самый молодой среди хохлов. Невыразимо скучно, тоска, в карты я пока еще не играю, боюсь, заняться нечем, слушать чьи-то приколы не хочется. Что бы придумать, что? Хорошей литературы нет, а забивать голову всякой ерундой не привык. Письма родным и друзьям давно написаны и посланы, жалобы по делу тоже, рисовать я не умею… Что же придумать?
А если… Идея!
Мне уже не сидится на месте, я предвкушаю настоящий прикол, прикол на все сто!
Тетрадка, ручка, ноги под себя, бушлат на плечи. Вперед!
«Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич! Пишу вам из маленького городка Микуня, что в Коми АССР. Недавно меня этапировали со Львова сюда, и вот сейчас я здесь. Письма, Леонид Ильич, отсюда идут очень долго, так что не знаю, когда вы получите это письмо и получите ли вообще. Я слышал, что ваши секретари и органы перехватывают почти все письма, в том числе и от родственников, и вот я думаю и гадаю…
Но буду надеяться на лучшее. Извините меня, пожалуйста, у вас и так много дел, а тут еще я со своим письмом. Опишу вам все коротко, не обессудьте, если что не так.
Освободившись из ВТК в семьдесят втором году, Леонид Ильич, я не долго пробыл на воле. Через несколько месяцев меня снова арестовали и осудили на десять лет лагерей строгого режима. Восемнадцать лет мне исполнилось прямо под следствием.
Думаете, убил кого, Леонид Ильич? Не-ет. Магазин какой всковырнул? Не угадали. Порезал? Не-а. Не поверите ни за что!
Иду я рано утром по улице и встречаю, значит, одного знакомого, лет на пять старше меня. Поговорили мы с ним по душам да и пошли трахнуть по стакану белого винца в будку к Яше и Саше, что на Заставе. Выпили мы с ним преспокойно, и он спросил меня про парня одного, соседа нашего Сашку Бедика, вместе в школе учились. Не видел, мол, его? Я говорю: нет. Пойдем, говорит, к нему, нужен очень. Ну и пошли к Сашке.
Приходим, а там его отец вдребадан пьяный, давай ругаться, слюной брызгать, грозить нам чёрт те за что. Ничего толком не говорит, дома Сашка, нет. Ну знакомый мой возьми да и толкни его, тот с кулаками, естественно… И пошло-поехало… В общем, дал он ему пару раз, а тут дочка с женихом своим заявилась как раз, соседи ведь, всех с детства знают. Ушли мы оттуда, так и не повидав Сашку. Знакомого забрали ночью, а я ещё недельку скрывался, значит…
В милиции пришили нам сговор, грабеж с разбоем. Стало быть, статья 142 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Один синяк всего, в больнице даже не был батя Сашкин-то, а вот сказал, что тридцатку, дескать, из кармана уперли. Забрали, и всё.
Ему, то бишь знакомому моему, семь, Леонид Ильич, а мне аж десять припаяли. А про то, что к Сашке шли, про то, что с детства знакомы и даже соседи, судьи даже и не заикнулись. Мол, грабят и знакомых, так вот! А я еще, дурак, возьми да прокуроршу на суде оскорби. Вот они и впаяли мне десять да пять высылки в придачу, знай наших, мол, не высовывайся!
Высылку, правда, сняли чуть позже, не имели права несовершеннолетним-то, в определении написано было, а срок оставили.
Спровоцировала она меня, прокурорша эта херова, Леонид Ильич, спровоцировала!
„Ты что же, такой молодой парень, в десять утра винище хлещешь, как квас? – говорит. – Или занятий больше не было?“ А я ей отвечаю спокойно: „Не винище, гражданка прокурор, а стакан один, белое кооперативное от Яши и Саши… И что же тут за криминал такой? Ну выпил себе на здоровье, так что ж? Будто вы не пьете! Конечно, не по рупь семь, извиняюсь, но ведь пьешь, факт! Коньячок, настойки разные, то, другое…“
Она прямо взвинтилась, честное слово: „Не тычь! Замолчи! Бандит, пьяница!“ Тут меня и прорвало: „Сама не тычь! Воровка, взяточница, людоедка, самосудчица! Серьги-то в ушах не на зарплату, трусы не с фабрики „Прогресс“ носишь!“ В этом духе, одним словом. Вот вам крест, Леонид Ильич, воровка и взяточница чистой воды, по глазам через стенку видно Г Гадюка, одним словом.
Писал я потом, писал во все инстанции два года, да все без толку. Ответ приходил всегда один, и, главное, из областного суда, черт бы его побрал! „Осужден правильно. Вина подтверждается показаниями свидетелей“.
Терпел я все это, терпел да и написал им о свиньях, то есть будто не я, а Митька Макуха перегнал ночью стадо свинтусов из соседнего района в наш. Так и написал. И что вы думаете, пришёл-таки ответ, пришёл. „Осужден правильно. Вина подтверждается показаниями свиней…“
Не хотел вас тревожить, Леонид Ильич, честное слово, не хотел по-родственному, да, видно, правды не добиться, нет. Пишу вам. Помогите ради Христа, что же мне в самом деле десятку за здорово живешь тянуть?! Мать стара совсем стала, некому и бандерольку прислать.
Леонид Ильич, дорогой, если вас не затруднит моя просьба, пошлите, пожалуйста, хоть вы, а? Только ровно один килограмм, ровно. Вернут ведь гады, не посмотрят, что от вас. Лишний вес! Цензор тут стр-о-огий.
Шлите вот что: пару теплых и пару простых носков, конвертов штук десять, стержней для ручки, рубашку теплую бельевую, сигарет каких и, если позволит вес, пряников обычных.
На этом, пожалуй, и закончу. С уваженьицем и здоровья вам от души. Павел. Мой полный адрес такой…»
Одним махом я написал письмо, перечитал его про себя и, оставшись вполне доволен, быстро надписал гербовый конверт крупным четким почерком: «Москва, Кремль. Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу».
Помахав конвертом, окликнул Мишку Дубика:
– Мишаня, я тут вот набросал письмо Леониду Ильичу о жизни нашей… Как думаешь, дойдёт или нет? Бандерольку заодно попросил, курева, пряников, с понтом родственник дальний…
– Не гони, Пашок, не гони! – Мишка недоверчиво посмотрел в мою сторону, но, заметив конверт, всё же полюбопытствовал: – В натуре, что ли, написал или смеёшься?
Я утвердительно кивнул.
– Врёшь! – не поверил он.
– Свободы не иметь, Миша! Чё мне врать-то, вот оно…
Я тут же достал письмо из конверта и с выражением, по-одесски, прочел его вслух от начала до конца.
– Ну как?
Все дружно поржали надо мной и над текстом, особенно прикололись на предмет бандерольки, но, понятное дело, никто не поверил, что я всерьез собрался отправить эту циничную крамолу по адресу.
– Даже если бы ты надумал отправить его через вольняшек, Пашок, понту мало… Все письма перехватывают как здесь, так и в области. Сперва наши опера, потом комитетчики и прочие козлы. Сам знаешь. Один шанс из тысячи! – говорили мне земляки, но я их не слушал.
– Смотри, только БУР себе схлопочешь, и больше ничего, – предупреждали те, что постарше.
– Какой там БУР, Вася!.. Да два года сроку накинут и отправят в крытую, а нет, так в психушку запрут и заколют до делов. Я таких видел не раз…
– Да он не отправит, дурачится себе по тихой, ерша гонит. – Миша Дубик, как всегда, улыбался во весь рот и успокаивал говорящих. Он знал меня лучше других.
– А я его отправлю прямо через цензуру! Хотите верьте, хотите нет, но отправлю, – твердо заявил я всем сразу. – Просить я имею право у кого хочу, не динамит и не водка. Не ворую, прошу ведь…
Все как-то разом притихли, уразумев, что я отнюдь не шучу. Дурак, мол, или срок захотел?
– Если кто-то не верит и желает убедиться, пошли со мной. Ну?.. – Я поднялся с койки и пошёл из секции.
– Не поленюсь и таки пойду! – воскликнул Мишка и махом слетел со шконки вслед за мной.
– Я тоже пройдусь для фортецелы, – заявил Витя Морущак. – Ну Пашок, ну капканист!
Мы вместе прошли метров четыреста в сторону ларька и подошли к почтовому ящику. Я достал конверт с письмом, еще раз показал им, что никакого «фонаря» нет, и бросил его в ящик.
* * *
В жизни всякого человека случаются порой удивительные и даже невероятные вещи. Разве здравый человек поверит в то, что письмо «великому Генсеку», брошенное в лагерный ящик в семьдесят пятом году, может дойти до каких-то канцелярий ЦК КПСС?! Да еще письмо с таким текстом!
Такое представить весьма и весьма трудно, но, видит Бог, именно так и случилось.
Я до сих пор, хотя прошло уже много лет, не знаю, кто помог ему дойти до адресата. То ли цензор автоматически, не глядя на адрес, заклеивал наши письма, то ли он, по-своему оценив мой плоский юмор и наглость, решил пошутить на свой страх и риск, то ли что еще. Как бы там ни было, но письмо мое дошло.
Прошло месяца три – три с половиной, я начисто забыл о послании, и вот в один из дней нарядчик не выпустил меня на работу, пояснив, что он выполняет указание моего начальника отряда капитана Шевчука, или Горбатого, как называли его мы. Я был крайне удивлен, гадал, что к чему, но выяснить ничего не смог.
Капитан Шевчук подошел ко мне только на общей поверке и как-то многозначительно, с явно скрытой иронией сказал:
– Ну что, Паша, сейчас пойдём…
– Куда это? – спросил я в ответ, ничего толком не понимая, но чувствуя что-то необычное, предчувствуя нечто.
– Сейчас узнаешь, – ухмыльнулся Горбатый и, Отвернувшись от меня, сплюнул на землю. Он делал так в моменты особого волнения и стресса, я это знал.
По окончании поверки он сразу повел меня в штаб колонии. Войдя следом за отрядником в кабинет капитана Иванова, замначальника по политико-воспитательной работе, я увидел, что здесь полно офицеров. Начальники отрядов, оперативники, режимники и сам хозяин – начальник ИТК подполковник Бобровничий сидели кто где и ожидали «гостя»! То есть меня.
Отрядник быстро доложил по форме, присел на свободный стул у стены, а я, как и положено, остался стоять у двери, переминаясь с ноги на ногу и совершенно ничего не понимая. Гнетущая тишина длилась с полминуты, двенадцать пар глаз сверлили меня так, будто я только-только спустился с небес на землю или воскрес.