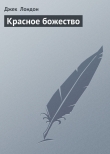Текст книги "Красное небо"
Автор книги: Павел Мисько
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Вторая неприятность была гораздо большей. Нас собрал в гумне Сергей. До этого он никогда туда с нами не ходил. Не заговаривал всерьез и на улице. Ух, какой злой он был сейчас!
Но говорил сдержанно...
– Ладно... Уши драть вам не буду – не маленькие. А стоило бы! Этими дурацкими крынками вы сорвали нам более серьезные планы. Сегодня Рудяк нацепил замки, заколотил наглухо чердак. Да и сам насторожился... – Сергей примолк, потом стукнул кулаком по коленке: – Ах, свинтусы!.. Ну, что теперь поделаешь... Наверное, я и сам виноват не меньше – слишком понадеялся на Степу. Отныне без моего ведома ни шагу! Поняли?
– Поняли... – ответили мы шепотом.
– И вот еще. Я тогда немного разобрал, о чем Таня с немцем говорила. Мать у нее, оказывается, преподавала в Гродно немецкий язык, она и ее обучила. Сказала Шпайтелю, что нарочно удрала от матери из эшелона, чтоб остаться с немцами. Поняли, чем это пахнет?
Мы и глазами захлопали. Степа мычал и вертел головой, как будто у него все зубы повыдергивали. Вот так штучка эта Таня!
"Ну что, командир, иди, ухаживай за своей немкой!" – злорадствовал я. Хорошо все-таки, что я первым раскусил бабушкину внучку...
Тане не стало от нас житья. Мы с Петрусем улюлюкали и свистели ей вслед, и она целыми днями не показывалась из дому. Неожиданно стал захаживать к ней Филька Гляк, и это окончательно убедило нас: предательница...
Бабка Настуся захворала, и за молоком попробовала сунуться к нам Таня. Я выгнал ее из хаты, и, конечно, за это мама всыпала мне перцу.
За молоком снова начала приходить бабка. Невыносимо было слушать ее все об одном и том же, о Танечке, единственной внученьке. Мол, до сих пор все хорошо с ней было, а сейчас заболела, что ли? Плачет, бедная, по ночам, стонет, вскрикивает, бормочет что-то о самолетах, о пожаре... А однажды просила оттащить в сторону какие-то колеса, кого-то освободить из-под них...
III
Миновала осенняя распутица, подсохла, смерзлась острыми комьями грязь.
А немцев все еще нет в нашей деревне. Заезжали только несколько раз к старосте полицаи в черных мундирах с серыми воротниками и серыми обшлагами на рукавах. Помогали ему собирать налоги. Потом конвоировали в город подводы с провиантом, с привязанными к телегам коровами, и опять все замирало на несколько дней. Помощь эту выпросил в городе, наверное, Рудяк: дважды на обоз нападали окруженцы и награбленное отнимали.
А вот Шпайтель наведывался часто – то один, то с каким-то длинным белобрысым немцем. Таня просто не могла наговориться с ними, даже выбегала следом на улицу и все молола и молола языком. "Феномен! Дас ист феномен!" разводил от удивления руками белобрысый немец.
Немцы больше не выменивали продукты на спирт, а прямо заходили и требовали "яйко-курку". Заходя говорили "дозвиданье", а когда уходили "здравствуйтэ". Потом начали забирать яйца без спроса, ловко отыскивая в хлевах куриные гнезда. А как-то забрали у нас даже подкладени – болтуны. (Представляю, как они разбивали их на сковородку!) Позже, когда брать стало нечего, последних кур перестреляли из карабинов и автоматов и принялись за голубей.
В те первые холодные дни я простудился. Как мне хотелось вместе с хлопцами носиться по первому снегу, взметать ногами мягкую, как тополиный пух, порошу! А пришлось лежать с банками, компрессами-натираниями. Мать признала без врача – воспаление легких...
Когда подымалась температура, кудельное одеяло казалось раскаленным. Меня раскачивало, как на огромных волнах, я куда-то плыл, проваливался, тонул...
В дремоте-бреду виделись мне встревоженные лица матери, отца и брата. И будто бы не Петрусь иногда приближался ко мне, а такой же курносый, как и он, Миколка-паровоз. Я почему-то диктовал ему письмо на фронт отцу. Все путалось, временами мне казалось, что это я и есть Тиль Уленшпигель, и это мне нужно мстить за сожженного отца, это его пепел стучит в мое сердце...
Примерно через неделю мне стало легче, но вставать еще было нельзя кружилась от слабости голова. Читать, правда, мог, и я уже в который раз доставал из-под сенника и перечитывал книги о подвигах Миколки-паровоза и Тиля. Я так тосковал по школе и книгам, что сами собой запоминались наизусть целые страницы.
Петрусь наведывался почти каждый день, и время проходило немного быстрее. Мы подолгу разговаривали с ним о довоенной жизни, о том, как все будет после войны. С ним можно было говорить сколько угодно и о чем угодно.
А Степа заходил раза два. Повертится в хате – "Ну, что? Ну, как ты?" словно не находит себе места. Скучно ему было с нами.
– С Филькой подрался... Из-за Тани... – сказал однажды Петрусь, как только за Степой хлопнула дверь. – А Филька обрез таскает с собой... Во-от такой! – развел руки в стороны Петрусь. – И патроны к нему есть... Грозится: "Я вам покажу!" Стреляли из обреза за гумном...
– Что – и тебе давал пальнуть?
– Давал... – виновато шмыгнул носом Петрусь.
Черт знает что происходит, пока я валяюсь в постели! И что надо этому Глячку? Почему он подбивает клинья к Петрусю?
– Ты ничего не выболтал ему? Он выспрашивал у тебя о наших делах?
– Не-е-ет... – протянул Петрусь. – Я дурачка разыгрываю, вроде не понимаю ничего...
– Ты ясно ответь – спрашивал?
– Нет. Предлагал и мне сделать обрез... И патронов дать. Он, знаешь, как свой сделал? Сунул ствол в воду и стрельнул – как ножом отрезало!
– Врет он... Я слышал, если так сделать – ствол разорвет... А что он просил взамен у тебя?
– Он не просил... Он говорил: "Давай наделаем обрезов! У меня есть еще одна винтовка! А сколько у вас?"
– А ты что?
– А что я? Ничего... Нет, говорю, у нас оружия. Запрещено – немцы убьют, если найдут. Это тебе, говорю, хорошо: батька полицейский, у немцев служит...
Было ясно, только понимал ли это Петрусь, что Гляк о чем-то догадывается, что-то подозревает. И не по его ли заданию Филька полез с дружбой к Петрусю?
Последние дни своего заточения я просидел у окна, завернув платком шею и закутавшись в отцовскую суконную свитку. Сукно было домотканое, старое, оно выгорело на солнце, вылиняло под дождями и сейчас пресно и вкусно пахло черствым хлебом. Я с наслаждением вдыхал этот чудесный запах и все смотрел на улицу.
И лучше бы я еще несколько дней пролежал, чем увидеть такое...
Степа и Таня, вдвоем, тащили на салазках сырые ольховые дрова – длинные стволики-палки. Свежие срезы на них краснели, будто их смочили кровью.
Таня была в чиненном-перечиненном бабкином кожушке, теплом, в черно-серую клетку, платке. Длинные концы платка перекрещивались на груди, как пулеметные ленты, и на спине были завязаны узлом. На ногах у нее были те же ботинки, в которых она пришла из Гродно. Они здорово "просили каши" и сейчас хватали холодный снег.
"Поморозит ноги..." – подумал я. И тут же обругал себя: ну и что? Не было печали – жалеть эту "немку"! Я должен ненавидеть ее, как ненавижу сейчас Степу... Предателя Степу... Ишь, гребет рядом с ней своими длинными ходулями снег. Рот до ушей... Весело, видите, ему! Улыбается!..
"Скажу Сергею... Обязательно скажу!" – твердо решил я.
Но другое событие вынудило меня забыть на время обо всем.
Послышался натужный рев моторов. Из переулка, откуда начиналась дорога на Слуцк, въехало в деревню несколько огромных пестро раскрашенных тупорылых машин с натянутым брезентом над кузовами. Впереди колонны медленно раскачивалась и подпрыгивала на ухабах, еще хорошо не присыпанных снегом, легковая черная машина. Она была красивая и блестящая и намного роскошнее той, что привозила Рудяка. У одного грузовика верх был не брезентовый, а, видимо, из жести, и над ним торчали антенны. Еще за двумя прицеплены были котлы на колесах – походные кухни.
Я видел из окна, как машины остановились у мостика через канаву, напротив хаты Рудяка. Из них посыпались немцы, начали толкать друг друга, пританцовывать – греться. Из легковой машины никто не выходил, а из кабины первого грузовика выскочил офицер и скорым шагом направился к старосте.
Но Рудяк уже сам, без шапки, трусцой бежал навстречу. Послушал немного, что ему говорил офицер, и побежал к легковой машине. Открылась дверца, и Рудяк сразу отвесил поклон. Начальство в машине, наверное, было большое, ибо Рудяк все время порывался кланяться.
Наконец послышался протяжный крик-команда. Солдаты бросились к грузовикам...
И все время, пока грохотали мимо дома в сторону школы машины, у нас дрожали стены, дребезжала в кухонном шкафчике посуда, звенели стекла.
– Видал?! Одевайся быстрее! – забежал, тяжело дыша, Петрусь.
Он шмыгал красным простуженным носиком, тер под ним рукавом и все отбрасывал с глаз облезлую желто-коричневую шапку из хорька. Потом протянул мне рукава ватника, он служил ему вместо пальто, – подвернуть.
– Не пойду... – ответил я. – Обещал маме, что сегодня еще побуду дома...
– Эх, ты! Маменькин сынок! – Петрусь вырвался из моих рук и так же стремительно исчез за дверью, как и появился.
Я не мог усидеть в хате. Бросался от окна к окну, как зверь в клетке. Что делать? Не могу же я нарушить слова, обидеть маму. Она у меня одна-единственная. Как она дрожала надо мной, пока я болел. Хорошо Петрусю: у него и мать есть, и отец, хоть и инвалид.
Моя мать сегодня где-то на заработках. Хлеба с нашей четверти надела мы собрали столько, что его не хватит до нового года. Надо было зарабатывать, и она ходила помогать людям молотить. Теперь, говорит, как раньше, при помещиках стало: нужно батрачить, наниматься к другим, чтобы прожить.
Смысл нового, немецкого порядка познал я и на себе. Если бы не оккупация, не фашисты, то в этом году пошел бы в пятый класс. А так все лето и осень, до самого мороза пас овец. Жарился на солнце, дрожал под холодными осенними дождями и ветрами...
Крытые грузовики промчались, подпрыгивая на ухабах, назад. Не было среди них только того, что с антеннами.
Пришла на обед мать – вся в серой пыли, с запекшимися черными губами. Заглянув в хату и убедившись, что со мной все в порядке, она вышла во двор вытряхнуть одежду и долго кашляла там. Пока она промывала глаза, вынимала из печи поесть, я все время вертелся возле нее и просился на улицу.
– Ну ладно, – сдалась мать. – Только не долго, а то, не дай бог, опять заболеешь! И одевайся потеплее...
Я быстро управился со щами, но мать велела вымыть посуду и уже с порога добавила:
– Не забудь корове бросить трасянки!
Когда я сделал все, что от меня требовалось, и вышел на улицу, из переулка опять показались машины с немцами. Видимо, это были новые грузовики, не могли же те так быстро вернуться.
Староста встретил их на выезде из переулка уже вместе с Гляком. Они вскочили на подножки по обе стороны кабины первой машины. Грузовик развернулся на улице и исчез опять в переулке. И все машины проделывали такой же маневр. Потом они свернули на дорогу, что шла за огородами вдоль восточной стороны деревни. Там стоял колхозный клуб.
Я сразу направился туда.
Здание клуба было большое, приземистое, из отборных смолистых бревен. Гордость колхоза... Вдоль клуба тянулась крытая веранда, крышу по краю поддерживал ряд резных столбов. Это было любимое наше место, мы часто здесь играли. В левом конце веранды дверь вела в зал. В правом – в комнаты за сценой. Вдоль клуба у веранды росли молоденькие, лет шести-семи елочки.
Весь зал был заставлен крепкими, одна выше другой, скамьями. Они были со спинками и имели подставки для ног. Если надо было пробраться к стене или спрятаться от учителя, мы пролезали под лавками, как по туннелю, между двумя рядами ног.
Последние годы перед войной привозили уже звуковые фильмы, но продолжали показывать и немые. В конце зала, где ставили в проходе громоздкий киноаппарат, на одной из лавок прикрепляли динамо. Ручку этого таинственного динамо попеременно вращали хлопцы постарше. Давали попробовать и нам, малышам. Мы брались по два, и, слизывая с губ соленый пот, бесплатно смотрели, что происходило на экране.
Эх, как давно было то чудесное время!
Возле клуба было полно немцев. Сбежалась и детвора. Девчонки, сбившись табунком, глазели издали. А хлопцами верховодил Филька, он то и дело шнырял между немцами. Ни Степы, ни Петруся не было видно.
Я попробовал пересчитать немцев и сразу сбился: суетились, как муравьи. Одни разгружали машины, другие вытаскивали во двор зеленые скамьи и тут же разламывали и пилили их на дрова. Через открытые окна клуба валила пыль на веранду, на уже не белый снег летел мусор.
Только сейчас я заметил, что вместо многих елочек торчат одни пеньки: срубили немцы на метелки. И сразу защемило в груди. Мы так любили эти маленькие, колючие, как ежи, деревца!
Возле одной машины, которая еще не отъехала за волейбольную площадку, не стала в ряд с другими, офицер говорил что-то солдату и все показывал желтой кожаной перчаткой на кузов машины. Задний борт был откинут, брезент заброшен наверх, и видны были комоды, столы, разобранная кровать, чемоданы. В ответ солдат прищелкивал каблуками сапог и отвечал: "Яволь! Яволь!" Потом офицер подозвал к себе старосту и Гляка, которые о чем-то спорили, наблюдая, как немцы расправляются со скамьями. Офицер говорил тоном приказа, и Гляк все время ему козырял. Вскоре староста с Гляком и еще несколько солдат направились к грузовику, что стоял первым за волейбольной площадкой, а офицер – в клуб.
Машина уехала в деревню...
Солдат, что щелкал каблуками, забрался в машину с вещами и сразу крикнул ближайшим немцам:
– Ком цу мир! Шнель!
"Карл Шпайтель! – узнал я его. – Так это он, оказывается, денщиком у офицера!.. А смотри ты, как покрикивает..."
Шпайтель подвинул к краю кузова один бидон, потом второй.
– Спиритус! Га-га-га... – заржали солдаты, подхватывая бидоны и принюхиваясь. Они прищелкивали языками, что-то предлагали Шпайтелю. Тот сначала улыбался, а потом цыкнул на них и стал сыпать словами, как из пулемета. Солдаты примолкли и быстро забегали с вещами от машины к веранде.
И вдруг я отшатнулся, не поверил своим глазам. Из комнат за сценой вышла, держа перед собой тазик грязной воды, Таня. Отнесла тазик в сторонку, прополоскала и выжала красными от холода руками тряпку, выплеснула черную воду. Возвращаясь в комнаты, успела улыбнуться и что-то сказать Шпайтелю. Меня она словно и не заметила.
"Вот это да... Только тебя здесь и не хватало!" – задрожало все у меня внутри.
Я видел, что уже и компания Гляка-младшего работает на немцев: таскает в зал охапками напиленные и наколотые дрова. Филька дымит сигареткой заработал, поганец...
Вскоре вернулся грузовик. В кузове на огромной копне соломы лежали, задрав ноги, немцы. Один из них пиликал на губной гармошке. Из клуба вышел офицер, что-то скомандовал. Гармошка умолкла, шурша, полетела наземь солома. Запахло пылью и мышами...
Подъехала легковая машина, видимо, та, что промчалась впереди колонны к школе. Офицер подскочил к ней, взял правой рукой под козырек, а левой открыл дверцу. Из автомобиля, однако, никто не вышел. Показалось только плечо с блестящим, витым погоном и багровая, в две складки, шея. Не вылезая из машины, "шея" что-то сказала офицеру.
Тот еще раз козырнул: "Яволь, гер оберст!"
Дверца захлопнулась, машина уехала.
– Есть срочное задание... – вдруг услышал я над ухом шепот Степы. Я даже не заметил, когда он подошел вместе с Петрусем. – Есть задание... повторил Степа, почти не разжимая губ. – Нужно подсчитать, сколько здесь немцев будет на постое, какое у них оружие... Мы возле школы вертелись прогоняют...
Я плохо слушал Степу, я опять видел только Таню. Она выбежала на веранду и начала вытряхивать какие-то половики и коврик с красными оленями. В это время компаньоны Фильки переключились с дров на солому, набрали в охапки и потащили в клуб... И только тогда дошел до меня смысл сказанного Степой. Я тоже набрал соломы и понес ее вслед за ними. За мной Степа и Петрусь...
– О, гут, гут! – одобрительно покрикивали немцы.
Потом Рудяк пригнал еще две подводы с соломой. Привезли ее отец Петруся и Савка Прокурат. Во дворе сразу стало тесно и шумно. Мы не дожидались, пока солому свалят на снег, выдергивали с возов и таскали, таскали...
По углам большущего зала стояли кирпичные четырехгранные печки. Через раскрытые дверки видно было, как бушует в печках пламя. У стен в один ряд стояли скамейки. На них – один возле другого – карабины, автоматы, ручные пулеметы. Было оружие и на сцене. Мы сваливали солому вдоль этих скамеек, оставляя посреди зала проход метра на два, и все считали. Оружия было много. Пока хотя бы на глазок сосчитали, вдосталь наглотались пыли. Что-то около ста штук получилось.
Гляк привел с лопатами и метлами двух женщин – убрать веранду, подмести во дворе.
– Пан староста! Пан староста! – ходил вслед за Рудяком Савка Прокурат. – Вы ж не забудьте, что я давал солому. Хай немцы уменьшат мне налог... А? Пан староста!
– Да-да-да... – отмахивался от него Рудяк.
Отец Петруся ничего не клянчил. Согнувшись, засунув руки в рукава кожуха, он смотрел на все печальными глазами и вздыхал...
Опять выбежала Таня. Взяла у одной женщины из рук метлу, сама чисто вымела площадочку перед дверью, ступеньки, отдала метлу, отряхнув руки. Все!
– Ай, Та-анья, Та-анья!.. – восхищенно тянул Шпайтель.
Он вынул из кармана плоский прозрачный пакетик, надорвал угол и выковырнул из него две конфетки-монпансье.
– Данке шен! – чуть не присела Таня.
Больше я не мог выдержать такого пресмыкательства. Плюнул и пошел от клуба. Противно было до тошноты.
Петрусь увязался за мной.
– Ну и ну... Это ж надо так, а? Ты видел, Петрусь, что вытворяет эта "немка"?
– Видел... Поймать бы ее где-нибудь – и темную, как Глячку... Дать-дать, чтоб... – просипел Петрусь.
– Чтоб десятому заказала... – договорил я.
– Эй, обождите!
Нас догонял Степа.
Мы остановились, нахохлившись, как воробьи на морозе.
– Ну – сколько? У меня получилось тридцать автоматов, сорок пять карабинов.
Мы молчали. Нам совсем не хотелось разговаривать с нашим командиром. И как это я вдруг забыл о его поведении и полез в клуб считать оружие? А что, если он выдаст нас немцам?
Мы стояли и молчали. Мы пронизывали Степу презрительными взглядами.
Степа почувствовал себя неловко.
– Вы что?.. Вы это... приходите завтра к школе.
Я сжал зубы и отвернулся. Петрусь старательно вытирал рукавом нос и тоже молчал.
– Хлопцы, что с вами? – смотрел то на меня, то на Петруся Степа.
И тогда меня прорвало:
– А ты не знаешь – что? Думаешь, не видим, как ты снюхался с этой гродненской обезьяной? Может, у вас любовь? Хи-хи...
– Замолчи! – Степа потряс кулаком возле моего носа.
– Замолчи?! Мы еще проверим, предатель... Мы спросим у Сергея, сколько ты ему патронов передал, а сколько для немцев припрятал!
– Ых!.. – двинул мне Степа кулаком по носу и побежал в деревню. Было слышно, как он выкрикивал на бегу: – Вот дурачье, а? Свет не видал таких дураков... Правду Таня говорила: молоко еще на губах не обсохло!
Не пошел я назавтра в школу.
И не потому, что Степа расквасил мне нос и не хотелось больше выполнять его поручения. Была другая причина...
Уложив на санки мешки для жита, ячменя и картофеля, мы ездили с мамой по домам, собирали плату за овец. За голову – два кило зерна или три картошки. Семьдесят три овцы были в моем стаде. Можете себе представить, сколько я заработал. Это придавало мне гордости.
Но как тяжело и стыдно было собирать те килограммы!
Почти все отдавали беспрекословно. Но были и такие, что забывали уговор, готовы были недовесить, десятки раз пересыпали туда-сюда, чтоб и зернышка лишнего не передать. А Савка Прокурат даже картофелину перерезал пополам. Не преминул он вспомнить и о потраве. Мама схватила мешок и выбежала прочь.
– Горький это хлеб, сынок... А каково на душе у тех, кто вынужден побираться?
IV
Через день я все-таки пришел к школе. И не узнал ее. Мне показалось, что деревянное здание, выстроенное буквой "П", стало совсем серым, прижалось к земле.
Над крылечками развевались на ветру флаги, на каждом – черная свастика в белом круге. А я помню, как висели над крылечками красные полотнища с белыми, написанными разведенным зубным порошком буквами – "Добро пожаловать!". Тогда крылечки сверкали яркой желтизной – так надраивала их бабка Настуся песком. Теперь же намерзло столько грязи, что можно было и ноги поломать.
Вровень с первым крыльцом был пристроен низкий сарай с плоской крышей. Туда часто забегали немцы, выходили, никого не стесняясь, подтягивали штаны, застегивались. А я все никак не мог понять, что это выстроено и для чего...
– Уборная!.. – объяснил мне Петрусь. – Х-гы... Я нашел в коридорчике жестянку с вишневой краской – не всю вымазали. Подкараулил, когда никого не было, заскочил туда – и краской на барьер, на барьер!.. А они голыми садились! Вот было хохоту и крику! Ругались: "Донный ветер! Донный ветер!"
Петрусек, Петрусек... Он хотел утешить меня своим рассказом. А стало так горько и больно, что хоть криком кричи... Хуже и не придумаешь, чтобы так опоганить школу!
В середине буквы "П", как раз на бугорке, где каждой весной делали пятиконечную клумбу-звезду, дымились две кухни на колесах. Горел и костерок с подвешенным над ним небольшим котлом. Валялись поленья, картофельные очистки, щепки, какие-то недоломанные ящики...
Возле кухонь, повязав вместо фартука наволочку с черневшими на ней немецкими буквами, вертелась Таня. Она угодничала перед поваром: то лезла драить котел, то носила воду, чистила лук. Три раза на день в сопровождении Гляка женщины приносили по два ведра очищенной картошки – немцы брали дань поочередно с каждой хаты – и Таня перемывала эту картошку. Неподалеку от костра, у чурбака равномерно взмахивал топором... Степа! Тут же суетились мальчишки из компании Фильки, хватали дрова и таскали в школу.
– Смотри... – дернул меня за рукав Петрусек и показал в ту сторону, где должен был стоять дровяной сарай. Вместо сарая лежала груда бревен. – День и ночь топят печки... Некоторые уже потрескались... Хочешь посмотреть?
Немцы уже не прогоняли детей от школы. Дров надо было много, пусть работают!
Посмотреть, что делается внутри, очень хотелось, и мы с Петрусем тоже взяли по охапке дров. Пускали только через вход с правого крыла. Когда-то здесь были квартиры директора и завуча. Теперь сразу у входа стоял часовой. Мы пошли по коридору влево – мимо небольшого зала, мимо учительской, мимо класса, в котором искали книги. На повороте – кабинет физики и химии...
Мы понесли дрова еще дальше. Но тут почти сразу за поворотом коридор был перегорожен серыми, неоструганными досками. Возле двери-дыры прохаживался немец с автоматом. "Вэк!" – сразу крикнул он нам, к той дыре и близко не подпустил. Но я успел заметить – за перегородкой, возле стен, стояло в пирамидах черт знает сколько оружия...
Мы бросили дрова у первой попавшейся печки и вышли.
– А Таня и в солдатскую столовую заходит, где зал, и в офицерскую – где учительская была... – сказал с завистью Петрусек. – Даже за перегородку бегает!..
Я не понимал, зачем каждый день торчит возле школы Степа. За эти дни можно было несколько раз пересчитать оружие, даже издали заглядывая в дыру.
Пришли строем немцы из клуба – на обед. Им долго о чем-то, поставив по стойке смирно, говорил другой офицер – его называли гауптманом.
Пока я глазел на солдат, Петрусек куда-то исчез. Мне не хотелось одному идти домой...
И вдруг на крыльцо выбежал Петрусь. Глаза у него были вытаращенные, рот искривлен. Шатаясь, сошел по ступенькам, шагнул к Степе и упал лицом в снег...
Я бросился к нему. Выбежала пз школы с ведром и Таня, оттолкнула в сторону меня и Степу, стала возле него на колени и начала тереть хлопцу виски и лоб снегом.
Петрусь очнулся, раскрыл глаза. Мы приподняли его. Из уха по щеке текла струйка крови... Он смотрел на нас бессмысленно...
– Я видела... Петя к перегородке подошел, смотрит на пулемет... А часовой подкрался сзади и ка-ак ахнет кулаком в ухо!.. – говорила Таня и вытирала ему наволочкой кровь на щеке. Голос ее срывался на горячечный, с присвистом шепот.
– Форт! – вдруг рявкнул над нами, появившись на крыльце, часовой и указал автоматом от школы.
У меня гудело в голове, я тоже был оглушен как Петрусь, бессильная ненависть сжимала мне грудь.
Мы со Степой подняли Петруся под руки. И в это время зашагали мимо нас в столовую, загрохали сапогами по крыльцу немцы. Некоторые хохотали над нами, а мы шли вдоль этого, казавшегося нам бесконечным, строя, и жеребячее ржание стегало нас, как кнутом...
Таня тогда, кажется, еще осталась возле школы...
Это был последний день 1941 года.
В полдень я снова пошел к клубу. Немцы срубили последние елочки – на украшение зала. Несколько деревцев отправили в школу.
В клубе намечался новогодний бал. Карл Шпайтель и староста ходили из дома в дом – собирали столы и стулья.
Таня – конечно же! – была с ними. Она слюнила химический карандаш и старательно, русскими и немецкими буквами, надписывала снизу на стульях и столах фамилии их владельцев. Староста от имени немцев обещал все вернуть хозяевам. Но люди понимали, что все это делается для отвода глаз. Сняв голову, по волосам не плачут... И даже помогали выносить мебель, грузить на сани.
Забрали стол и у нас. Таня расхаживала по комнате, словно кроме нее и Шпайтеля никого в хате и не было.
К вечеру, когда я шел проведать Петруся, видел, как Таня несла из дому в клуб посуду. Выходил от Петруся – опять она бежала в клуб, тащила что-то, прикрытое полотенцем. Все заботилась о своих немцах...
Я старался даже не смотреть в ту сторону, но видел краешком глаза все. И каждый раз от злости у меня дрожали руки.
В эту предновогоднюю ночь уснули мы с мамой поздно. Долго говорили о довоенной жизни, вспоминали папу и брата. Как они воюют, где? Живы ли? Мама поплакала немного.
Проснулись мы от криков "пожар!" и выстрелов. В прямоугольниках окон вздрагивал кровавый багрянец.
– Сынок!! Хата горит! Одевайся быстрее!.. О, боже, о, милосердный... запричитала мать.
С перепугу у меня начались рези в животе, подкосились ноги. Я еле выбрался во двор. Я знал уже, что такое пожар: совсем недавно, в прошлом году и мы горели...
Вдоль забора в полумраке кто-то бежал. В руках у неизвестного сверкнул огонь – ба-бах! Мне показалось, что я узнал Фильку Гляка, увидел его обрез... Но почему он стрелял?
Горел клуб.
Из-за домов, что стояли по ту сторону улицы, видно было, как высоко в небо вздымаются чудовищные языки пламени. А еще выше, словно стая огненных птиц, взлетали, кружились в неистовом хороводе комья кострицы, обрывки бумаги и еще чего-то. Полнеба было усеяно роями огненных шмелей... Даже на западе, с противоположной от пожара стороны, небо краснело и колыхалось.
Напрямик от клуба было больше двухсот метров, но и здесь слышны были гул, треск, ненасытный рев пламени. К счастью, ветер дул не в сторону хат...
– Такое смолистое дерево, не диво, что полыхает... Бревно к бревну подбирали... Не поставим больше такого клуба... – вздыхала мать. Она понесла назад в хату какой-то узел. – Оденься потеплее и будь начеку!
Одеваюсь и опять выбегаю на улицу. У каждого двора чернеют группки людей, слышен сдержанный говор... Никто не суется, не бежит тушить пожар. Пересекаю улицу, мчусь через чужой двор к клубу, а в сердце неудержимая радость: так и надо этим фашистам! Фигу им, а не казарму на зиму!
Старый сад, деревья на фоне огня угольно-черные, с огненной окантовкой, словно они уже обглоданы пламенем. Пляшут на розовом снегу длинные, колеблющиеся тени, не черные, а почему-то густо-вишневые...
За строениями, садами и огородами тоже стоят группки людей. Некоторые, подойдя и узнав, что горит, куда дует ветер, спокойно достают кисеты, высекают кресалами огонь, прикуривают от тлеющих фителей. Молча, как летучие мыши, шастают от группки к группке дети.
Ближе никто не подходил. Да и немцы не пускали, оцепив место пожара с трех сторон. Пронзительно-звонко, как когда-то в горящем самолете, лопались патроны. В жутком завывании огня иногда что-то глухо взрывалось, в воздух с фырканьем и уханьем, разметав пламя в стороны, взлетали головни. Несколько раз бабахнуло с того краю, где жили офицеры... Посредине здания с грохотом обрушилась раскаленная докрасна жесть крыши, и в небо взметнулись мириады огненных брызг...
Наталкиваюсь на Петруся и молча становлюсь рядом. Он без шапки, голова перевязана сложенным в несколько раз пестрым женским платком. Петрусь говорит, что не слышит на правое ухо – лопнула барабанная перепонка. Из уха все еще сочится сукровица...
Вскоре взрывы и выстрелы стихают. Немцы из оцепления приблизились к огню. Некоторые без головных уборов, без шинелей и оружия, ежатся от холода. Медленно подошли ближе к месту пожара и люди, словно второй круг оцепления...
От жары больно глазам. Снег вокруг пожарища растаял на десятки метров. Чернеет влажная земля, отсвечивают лужи... И кажется, что это столько разлито крови...
Вдоль шеренги, между немцами и нашими, бежит Степа – мы узнаем его еще издали.
– Таню не видели? Дядька, Настусиной Тани не встречали здесь? – голос у него встревоженный, дышит прерывисто.
Скользя и оступаясь, он обегает всех и круто поворачивает к деревне...
Какая-то смутная тревога закрадывается мне в сердце и растет там, растет...
Я тоже осматриваюсь по сторонам, ищу глазами Таню. Потом прохожу в одну сторону, в другую и возвращаюсь к Петрусю... Не видно нигде этой девчонки. Дрыхнет, наверное, дома, как после бани...
В клубе обрушились стены. Пламя словно вздохнуло с облегчением и перестало выть: дело сделано... По вздыбленной буграми жести крыши перебегают, суетятся золотистые искры-муравьи.
– Нету Тани?! – подбежал к нам, задыхаясь, Степа.
Мы покачали головами.
– Коля... – У Степы стучали зубы. – Ты это... Нету Тани и дома!..
– Придет твоя "немка", никуда не денется... – я стараюсь оставаться спокойным. Таким взволнованным нашего своенравного командира я еще никогда не видел.
– Сволочь ты! – обеими руками Степа ухватил меня спереди за рубаху. Ты знаешь, что она пошла вечером в клуб и не вернулась? И бабке сказала перед уходом... – Степа просто задыхался. – Все сказала... Погибла ее мама... Разбомбили фашисты эшелон! Бабка Настуся в параличе лежит!..
– Пусти его... – подошел Сергей, силой отрывая его руки от меня: я тоже уже задыхался. – Правда, Коля... Ошиблись мы в Тане... – Сергей, словно клещами, сжал мне плечо. – Вчера, уже в сумерках, принесла мне пистолет и два заряженных автоматных магазина. Из школы вынесла вместе с помоями...
Я будто окаменел. До меня еще не доходило все то ужасное, что могло случиться с Таней. Я непонимающе смотрел то на Сергея, то на Степу. У Петруся кривился разинутый рот, он судорожно старался сглотнуть.