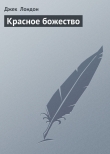Текст книги "Красное небо"
Автор книги: Павел Мисько
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Мисько Павел Андреевич
Красное небо
Павел Андреевич Мисько
Красное небо
Повесть
Перевод с белорусского автора
Две повести составляют эту книгу. В повести "Земля у нас такая" рассказывается о наших днях. Три друга, герои повести, живут в деревне Грабовка, невдалеке от строящегося гиганта химии. Друзья занимаются в школе, работают в колхозе, интересуются стройкой, учатся познавать, где добро, где зло.
Общаясь со взрослыми, постигая жизнь, юные герои почти на каждом шагу слышат эхо минувшей войны...
Повесть – "Красное небо" – посвящена детству того поколения, которому сегодня за тридцать, чьи сердца нещадно ожег пожар войны.
Для детей среднего школьного возраста.
...В сказке все нарочно,
В сказке все наврали
Здесь же только правда,
Только, что прошло.
Арк.Гайдар
I
Дверь была приоткрыта, и я проснулся от разговора на кухне. Еще ничего не соображая, я смотрел на стену, где дрожали, прыгали солнечные пятна. За окном легкий ветерок шевелил верхушку сиреневого куста, сквозь которую пробивались солнечные лучи.
Ко мне долетали то взволнованная скороговорка, то громкий, таинственный шепот. У женщины был знакомый голос, рассказывала она о чем-то невероятном, потому что мать все никак не могла поверить, переспрашивала:
– Что ты говоришь?! Неужели такое может быть?! Ах, бедное дитя!.. Ах, горемычное...
Сначала я не очень и вслушивался в кухонный разговор. Мало ли о чем могут говорить поутру женщины? Я вытащил из-под подушки осколок зеркала и начал рассматривать на лбу шишку. Вчера она торчала, как рог, и была багрово-красная. Сегодня краснота и опухоль уменьшились, зато прибавилось синевы и желтизны. Я потянул к себе штаны... И сразу – шасть под одеяло: ведь это бабки Настуси голос! Сказала она маме о вчерашнем или нет?
– ...Так ты, говорю, внученька, сама сюда и добиралась? Одна, без мамы, из-под самого Гродно?! – не умолкает Настуся. – Ага, говорит... Мамка поехала одна на восток, а она отстала от эшелона – и прямо сюда... Ах, боже мой! Если б ты видела, какая она худенькая... Насквозь вся светится... Бабка начала всхлипывать.
"У бабки появилась какая-то девчонка? – навострил я уши. – Интересно... И одна шла среди немцев от самого Гродно?! Это же сколько оттуда до Слуцка километров? Три сотни? Четыре?"
– А где теперь моя доченька, успела ли убежать от этой навалы – никто не знает... – продолжает бабка. – А мне так тяжело на сердце, так горько хоть головой в омут. И чует что-то мое сердце, ей-богу... Да разве у нее выспросишь, у Тани? Одно заладила, одно повторяет: отстала... Хай бы и мать сюда повернула, с Таней. Тут все-таки тише, вроде и войны уже нет. Переждали бы в спокойствии лихолетье...
– Где теперь найдешь это спокойствие!
– А потом про Василька своего вспомнила... Наплакалась: где он сейчас? Поверишь – до утра и глаз не сомкнула...
– Ой, тетка, может, все и хорошо будет, может, обойдется... – вздыхает мать в ответ и гремит сковородкой. – От наших тоже нет ни весточки... Как пошли в военкомат на второй день, так ни слуху ни духу...
И зачем эти вздохи и плач – никак не пойму. Завидовать надо Василю. И сын бабки Василь, и мой отец, и старший брат Миша где-то на фронте, фашистов бьют. А мы сидим здесь в стороне от дорог и даже живого немца по-настоящему не видели за два месяца.
Приезжала, правда, однажды из Слуцка легковушка с тремя немцами и одним не немцем. Согнали народ, ругались, почему разобрали все колхозное по дворам, зачем разделили на полоски и сжали жито. Потом главный немец в сверкающих на солнце золотых очках объявил, сколько зерна, мяса и молока нужно сдать до конца года великой Германии. Наконец сказал, что человек в гражданской одежде – Александр Рудяк. Он назначен старостой села. Надо, чтобы все его уважали, приказы выполняли беспрекословно. Иначе будут наказывать по законам военного времени.
Легковушка уехала. А Гляк, полицай, сразу повел Рудяка показывать дом бывшую колхозную контору. Оттуда вдвоем пришли к бабке Настусе, без всякого спроса зашли в хлев, набросили веревочную петлю на рога коровы и увели. Когда делили колхоз, эту корову – колхозную рекордистку – бабка Настуся вытянула по жребию. Не знала, куда девать молоко, а сейчас осталась без ничего. Вот почему каждое утро она приходит к нам, берет по литру молока...
– Ты, Анютка, мне сегодня литра два выдели... Пусть моя беженка хоть попьет его вволю... – доносится из кухни голос бабки.
Когда за Настусей хлопает дверь, я подхватываюсь. Интересно, сказала она маме о вчерашнем или нет?
– А, супостат... Драники совсем остыли, овец надо идти займать, а он, знай себе, похрапывает! Признавайся, куда вчера лазил? – сразу атаковала меня мать.
– Никуда... – пробурчал я и стал умываться.
– Как это – никуда? А книжки школьные, казенные, кто брал? – подступила она ко мне, развязывая фартук. – Настуся, как ты, врать не будет!
– Мы только хотели посмотреть, – признался я наполовину.
– "Посмотреть!.." Одни такие уже "посмотрели", не уберегла Настуся: от книг одна рвань осталась...
– А это Филька Гляк сделал, мы уже знаем... – сказал я, вытирая лицо.
– А-а-а!.. – протянула мать. – Так это, оказывается, вы ему красные сопли пустили за клубные книги! Ты что – беду хочешь на дом накликать? Пожалуется батьке, и нам не сдобровать!
– Не пожалуется... Мы ему темную устроили, нас много было.
– Всем достанется. Ихняя власть теперь. Что захотят, то и сделают!
– А пожалуется – еще схватит.
– Не смей, кому говорю! – хлестнула меня мать фартуком пониже спины.
Но постепенно гнев матери утихал хоть и ругала меня, пока собиралась идти пасти овец.
Сегодня воскресенье, и она подменяет меня, дает погулять. А в другие дни я кричу: "Выгоняй овец!" Кусок хлеба, бутылка молока – и с этим кукую до вечера. Хорошо, если б хоть хлеб был настоящий, такой, как до войны, а то...
Я не знаю, чего в нем было больше – толченого вареного картофеля или выжимок из бураков. Корка на буханке всегда вспухала и подгорала, пещеры под ней были такие – хоть две руки засовывай. А из серого и мягкого, как глина, мякиша можно было лепить игрушки. И хоть бы крупинку соли на этот хлеб! Но соль мать экономила и берегла пуще муки – достать было негде.
С драниками – картофельными оладьями – я расправился быстро. Вышел во двор почти вслед за матерью.
Мне сегодня надо идти в гумно – большущий сарай, куда до войны колхоз складывал сено или солому. Оно чудом сохранилось в конце соседней усадьбы. А дом и хлев соседа сгорели дотла в прошлом году. Еще счастье, что успели набежать колхозники, вытащить из хаты старого деда – головешки уже на голову падали... И хорошо, что их корова была в поле... От соседской занялась тогда и наша хата, но успела сгореть только крыша – отвоевали люди у огня.
Колхоз выделил соседу новую усадьбу, а пожарище весной засеял коноплей – до самого гумна. Выросла конопля на радость нам и воробьям по самую крышу.
Степа как-то говорил: если бы такая конопля была и вокруг деревни, то и леса не надо – партизаны бы враз появились. Я верю Степе. Он самый старший в нашей компании, разговаривает уже хрипловатым баском, а не так пискляво, как малявка-Петрусь. Поэтому мы и признали Степу командиром...
Какой чудесный запах у конопли! Идешь как по хвойному лесу... Некоторые стебли толщиной в палку и высокие-высокие. Темно-зеленые шапки-макушки раскачиваются из стороны в сторону. Точь-в-точь как сосны!
Я сломал одну копоплину, вышелушил в горсть темно-серые зернышки. Они сладкие, вкусные, мы разжевываем и высасываем их. Вместо семечек. Но не сравнишь, конечно, с грушами-цукровками. Если пробраться поперек конопляного леса, то там, у самого забора бабки Настуси, и растет цукровка – с одной стороны засохла от пожара, а другая еще зеленеет, плодоносит. Если хорошенько постараться, можно набрать полный карман.
Вдруг я обмер: на самой макушке кто-то уже был – потрескивали сухие сучья, шевелились, дрожали ветки. Но это был не Петрусь и не Степа...
– Эй, а ну – слазь! – крикнул я.
Мне подумалось, что забрался на грушу кто-нибудь из "кончанских" мальчишек, тех, что живут на другом конце деревни. А может, Филька Гляк?! Эх, нету со мной Степки и Петруся... Вот бы задали ему!..
На груше затаились, притихли. Но я вижу воришку, с моей стороны нет листьев! Продираюсь через коноплю к цукровке и не успеваю открыть рот, как сверху слышится девчоночий визг:
– Не подходи!!! А то прыгну отсюда, и будешь отвечать! Отвернись...
Этого еще не хватало!..
Я останавливаюсь и будто смотрю в сторону, а сам вижу все-все. Вижу, как тонконогая смуглая девчонка ловко спускается вниз, а с нижней ветки прыгает прямо во двор бабки Настуси. Быстро сдергивает с веревки голубое, с еле заметными белыми горошинами платье, начинает суетливо его надевать. Но платье, наверное, еще не просохло, никак не хочет одеваться. Мешают и груши, спрятанные спереди под майку.
Я подхожу к самому забору.
– Эй, давай помогу! – кричу я и издевательски хохочу.
– Дурак...
Она присела ко мне спиной, начала оправлять платье.
– А я знаю, ты – Таня... Это правда, что ты притопала сюда от самой границы?
Она ничего не ответила, повернулась ко мне лицом. Вела себя так, будто меня и на свете не было: переворачивала на веревке свое девчоночье барахло, что-то напевала под нос.
Я рассматривал ее обгоревшее на солнце лицо, шелушащиеся нос и уши. Когда Таня тайком поглядывала в мою сторону, мне казалось, что глаза ее без зрачков: такие темные они были, такие грустные. Желтовато-белые, коротко и неровно подрезанные волосы были отброшены назад и прихвачены обломком гребенки. Наверное, раньше были у нее косы, и не сама ли она их обрезала? Глаза очень темные, я не видел еще такого чуда: волосы светлые, а глаза черные...
С той стороны, где гумно, послышался свист – три раза, коротко и нетерпеливо. Я спохватился, свистнул в ответ два раза и бросился в коноплю.
Подумать только! Из-за какой-то девчонки чуть не опоздал на сбор...
Гумно старое, с прохудившейся и позеленевшей крышей, скособоченными половинками ворот. Вместо подворотни – щель...
И только сунул я в эту щель голову, плечи, как кто-то навалился на меня сверху, придавил лицом к земляному полу.
– Пароль!
– Будь готов! – прохрипел я, сплевывая соломенную труху.
– Всегда готов! – ответил Степа и отпустил меня.
– Ты что – задушить меня хотел? – набросился я на командира. – Думаешь, тебе все дозволено, да? Тебе все можно? – как петух наскакивал я на него, а самому хотелось зареветь от обиды.
– Никто тебя не душил... А если б это шпион?
– Дятел носатый!.. – не мог я успокоиться. – Ты же видел в щель, кто идет...
Степа молча пошел в угол, где лежала куча прошлогодней, полуистлевшей соломы. Он был похож не на дятла, а на пробиравшуюся болотом цаплю.
– Коля, иди сюда... – позвал из угла Петрусь.
Он сидел, склонившись к щели между бревнами, и внимательно рассматривал какую-то книгу.
– Доложите об итогах операции, – коротко, по-военному приказал Степа.
– А что докладывать? – сказал Петрусь. – Я только одну вынес, какая-то "Мгер из Сасуна"... Стихами написана... Наверное, хорошая: видите, что на обложке? – он протянул книжку мне, и я понял, что Степа ее уже видел.
Обложка была желтая и твердая, как кость. У самого верха выдавлены синие буквы, от них до самого низа обложку прорезал какой-то желобок, покрытый блестящей позолотой. Всматриваюсь лучше... Ух ты!.. Так это же меч! Большущий, красивый и, наверное, острый-острый. У меня просто дух захватило.
– Если бы нам такой!.. – мечтательно вздохнул Петрусь. – Мы бы немцев раз! раз! – Он размахивал рукой направо-налево, как кавалерист, колол, делая выпады вперед. Худенькое личико нашего самого младшего друга сияло от удовлетворения. Царапина через весь лоб, от бровей к волосам, покраснела еще больше.
Я молча разгреб у стенки солому и достал завернутые в чистую тряпицу книги – "Миколка-паровоз" и "Тиль Уленшпигель". Мои любимые, не раз читанные... Как там? "Пепел Клааса стучит в мое сердце..."
– И это все? – с издевкой спросил командир.
– Все! – вскипел я и без того разозленный на Степу. – А ты покажи, что сам вынес!
– Мне ничего не попалось целого... – начал выкручиваться Степа. – Но я придумал эту операцию!
– "Придумал..." "Я, я..." Заякал! Придумать легче, чем сделать. Трус ты, вот кто!
– Я?! Тру-ус?! – командир бросился на меня, и мы покатились по соломе клубком.
– Хлопцы... Степа! Коля! Да перестаньте ж вы! – суетился вокруг нас Петрусь.
Но нам было не до него. Мы все больше приходили в ярость.
Вчера в сумерках, пригнав с поля овец и успев схватить со стола краюху хлеба, я помчался к школе. Кругом – ни души, и мы решились, вынули стекло в том классе школы, где стояли два шкафа с книгами. Я полез первым, за мной Петрусь, и только потом, еще раз осмотревшись по сторонам, Степа.
Я уже говорил – опоздали мы спасти школьную библиотеку. Дверки шкафов были взломаны, весь пол в классе был завален изорванными книгами и тетрадками. В противоположных углах класса из парт были сооружены баррикады, из-за них, видимо, и перебрасывались книгами те, кто так мерзко "похозяйничал" здесь до нас. "Гады, ох, гады!.." – чуть не плакал Петрусь, роясь в бумажном хламе.
Мы переворачивали горы бумаг, чихали и кашляли. Тогда я и нашел под партой "Миколку-паровоза" и "Тиля Уленшпигеля", сунул под рубаху. Еще мне попался Пушкин без начала, без конца.
И вдруг послышался за окном голос бабки Настуси: "А кыш, кыш, кыш... Нету на вас управы..."
Мы допустили большую ошибку. Нам надо было притаиться за партами, и дотошная бабка, которая никак не могла забыть, что была до войны сторожихой в школе, прошла бы мимо, ничего не заметила. А Степа, как заяц, прыг к другому, застекленному окну, и давай греметь защелками да крючками. Хотел первым задать стрекача. Тогда и я бросился к нашей дырке в окне, быстренько просунул наружу руки с книгой и голову.
Держаться было не за что, я задрыгал ногами и руками, как лягушонок, потом швырнул книгу в траву. "Ах, ворюги! Ах, негодники, снова вы тут..." Настуся подбежала, подняла книгу и давай дубасить меня по голове, по плечам. Никогда не думал, что Пушкиным (даже без обложки) можно так оглушить! Я задергался сильнее, перевешиваясь наружу, и нырнул под ноги бабки – лбом в какой-то камень.
Ойкнула бабка с перепугу, а я подхватился и – ходу. Видел, как впереди бежали огородами, только пятки сверкали, Степа и Петрусь. Длинноногий Степа так прыгал через проволоку, словно сдавал на значок ГТО на школьных соревнованиях. А Петрусь бросился под заграждение, прополз на четвереньках. Но, видимо, не рассчитал, зацепился лбом за колючки...
И Степа еще уверяет, что не удирал! Да трус он самый и есть!..
– Вот... Вот... Вот тебе... – уселся наконец на меня верхом Степа.
Что было бы дальше, не знаю. Наверное, Степа хорошенько бы меня поколотил и мы поссорились бы навсегда.
– Ха-ха-ха! – послышалось неожиданно из-за стены гумна. – Ну-ка, еще разок – кто кого? Ха-ха-ха...
Оторопевший Степа соскочил с меня и нырнул под ворота.
Я сел, отряхиваясь, и увидел в щели Танины глаза. Темные-темные... Они глядели дерзко и смело и не были такими грустными, как там, около груши-цукровки.
Мои злые слезы сразу высохли.
Выследила!..
Вдруг глаза пропали. За стенкой послышалась возня, в гумне запрыгали тени.
– Лезь! Ну!.. – послышался минуту спустя грозный голос Степы.
Нам видно, как возле ворот замерли друг против друга две пары босых ног. Те, что поменьше, потоптались, подогнулись. Таня стала на коленки, с интересом заглянула под ворота, и вдруг ловко и быстро, как ящерица, юркнула к нам.
Вслед за ней пролез и Степа, схватил Таню за руку выше локтя и повел прямо в угол. Может, он боялся, что она вспорхнет, как пташка, и улетит?
Подойдя к нам, Таня повела, освобождаясь, плечиком, стыдливо поправила на груди платье. Степа тут же, словно обжегшись, отдернул руку. Чтоб скрыть растерянность, сказал:
– Садись, шпионка! Судить будем...
– Что-о?! Ха-ха-ха! – громко захохотала она. – Это ты меня будешь судить, цапля? – обратилась она к Степе. – А может, ты, воробышек? – к Петрусю. – Или ты, сыч надутый? – это уже ко мне.
Мы растерялись – атака была слишком напористой. Не успели ничего ответить, а девчонка опять подсыпала жару:
– Я все слышала и видела, герои... Чуть не умерла от смеха. А вообще примите и меня в свою компанию. Авось не испугаюсь, если еще куда полезете.
– Мы девчат не принимаем! – отрезал я.
– Не женское дело с немцем воевать... – пропищал Петрусь и шмыгнул носом.
– Ага! И катись отсюда колбасой... Ну! И держи язык за зубами, не то... – Степа потряс возле ее носа кулаком.
Видно, здорово обиделся за "цаплю". Ловко она подметила!
– Ну и черт с вами, вояки желторотые! – выкрикнула Таня и скользнула в подворотню.
– Ух! – аж задохнулся от злобы Степа и бросился было за ней.
А я припал к щели между бревнами. Таня заметила меня, показала язык – и исчезла в конопле.
Дерзкая девчонка...
Я вдруг почувствовал, что уже больше не сержусь на командира.
Меня охватило безразличие ко всем нашим делам. Плохое настроение, наверное, было и у Петруся. Он сидел тихо, морщил лоб и был похож на нахохлившегося воробья.
Степа возвращался от ворот медленно, загребая ногами солому. Видимо, и он думал о том, что мы делаем не то, что надо.
А что надо? Что можно было придумать, чтобы насолить немцам? Да и немца в деревне еще ни одного не было!
– Выкладывайте, что нашли за эти дни... – собрался наконец с духом командир.
Мы вывернули карманы. У Петруся было штук десять патронов к русским винтовкам и кусок пустой пулеметной ленты. Я вынул горсть розовых, толщиной в карандаш, палочек. Взрыватели... Они здорово стреляют, если бросить в костер, и пацаны ни за что не хотели отдавать. Пришлось задобрить их чужими цукровками. А раньше, в самом начале войны, было проще: и винтовки находились, и гранаты, и противогазы.
– У меня припрятан затвор и штык, – сказал Степа, сгребая наши припасы себе в карман.
Передаст все брату Сергею – мы знали это.
Сергею шел уже семнадцатый год, и у него была своя тайна.
II
До войны в нашей деревне никто уже не отмечал религиозных праздников. А теперь, при немцах, вдруг все сделались набожными. Мать тоже где-то достала икону – старика с длинной седой бородой. В одной руке он держал что-то похожее на книгу, три пальца другой руки были подняты и сложены так, будто он набрал ими соли и сейчас высматривает, куда бы сыпануть.
За деревней, с одного и другого конца, вкопали кресты. Высоченные кресты, дубовые. За дубом ездили куда-то в лесные деревни: своего леса у нас поблизости не было. Ставили кресты мужчины постарше, выкрикивая: "Еще раз ... зяли!!!" Больше всех суетился и давал советы беспалый Панас – отец Петруся. Хоть и не было у него пальцев на левой руке – отрезала силосорезка, – с топором и пилой он управлялся ловко: делал прорези в дубовом бревне, выдалбливал долотом гнездо для перекладины, затесывал и прибивал. Руководил и работал за троих. Землю вокруг крестов дядьки утрамбовывали толстенными колами, вгоняли туда и камни. Чтоб крепче стояли...
И кресты стояли – высокие, мрачные, крепкие. Как громоотводы, способные принять на себя, отвести от деревни удары грома войны...
Сегодня тоже какой-то религиозный праздник, и мать не пошла на работу к людям, а погнала в поле овец вместо меня. Оставшись один, я отодвинул в сторону стол в чистой половине хаты, подковырнул вилкой и выдрал короткий кусок доски, которым была надточена половица, и вынул дневник. Это была какая-то учетная книга, подобрал я ее в бывшей колхозной конторе. Она наполовину исписана фамилиями и цифрами – "Барановская Ганна – сгребала сено, 0,75 трудодня... Тарасевич Федора – подносила копны, 1,25 трудодня..."
О чем писать? Погрыз кончик карандаша, написал несколько строк об операции в школе, о появлении в деревне Тани, которая прошла пешком четыреста километров...
Я начал вести дневник с первого дня войны, но тех записей – кот наплакал. Вот некоторые.
За деревней сел наш подбитый самолет. Мы бегали туда смотреть, но из-за огня не могли близко подойти. Я просто так написал – про огонь. В самолете долго что-то взрывалось, лопались патроны, и все прямо липли к земле, боялись подняться. "Кончанские" рассказывали, что из самолета выбрались два летчика, расспросили дорогу к ближайшему лесу и пошли проселками на север. И будто бы остался третий летчик, раненый. Его не смогли вытащить, и он заполз, спасаясь от огня, в хвост самолета. Прибежав, мы уже не слышали его стонов – скончался... Так это было или не так, но назавтра мы видели могильный холмик у самолета. Вокруг валялись обгоревшие куски парашютного шелка, пахло чем-то резким и едким... Мы возвратились, взяв с собой несколько лепешек из расплавленной и уже остывшей дюралевой обшивки...
Вторая запись – как шли, отступали наши и группами, и в одиночку, как некоторые из них просили что-нибудь из одежды, и мама раздала им все мужские вещи...
Как брат Степы Сергей и другие взрослые хлопцы закопали в деревянном сундуке лучшие книги из клубной библиотеки. Рядом с волейбольной площадкой, возле столба "гигантских шагов"... А Гляк-счетовод и сын его Филька столб выкопали и затащили к себе – безвластие ведь! И обнаружили сундук... Обрадовались: во добра нагребут! А там оказались книги... Посекли книги лопатой, потом прокопали к луже канавку и спустили в раскоп воду.
Как делили колхоз и колхозный посевы... Мать взяла только четверть надела. Не было кому обрабатывать, не было чем...
Как приезжали на легковой машине немцы, привезли старосту...
Как Александр Рудяк и Гляк забрали корову бабки Настуси и как эта корова удирала от старосты то в бывший колхозный коровник, то к Настусе...
О чем записать еще? Скучно проходит время...
Спрятал книгу и решил идти на улицу. Как вдруг открывается дверь и вбегает Петрусь.
– Скорей! – выпаливает он. – Немец едет!
Мы мигом очутились на воротах.
Ну и смехотище! Такого в нашей деревне еще никто не видел...
По улице на каком-то чудном двухколесном шарабане с ящиком-багажником позади ехал немец. У ног немца стояли два молочных бидона.
По всему видно, лошадь местная, немецкого языка не понимает – пройдет два шага и станет, пройдет и станет. Немец и за вожжи дергал, и погонял длинной палкой, слезал и тащил за уздечку. Упрямый конь только моргал глазами, взмахивал хвостом и все заглядывал на крестьянские дворы.
Немец был старый, с сизым лицом и носом-картошкой. И, наверное, добрый. Он не злился на коня, а почему-то улыбался, растягивая рот до ушей, как клоун, и укоризненно покачивал головой:
– Ай, рус... Ай, пферд...
Вот он снова забрался в свой шарабан, пошарил по большущим, как торбы, карманам, пришитым по бокам и на груди зеленого кителя. Достал складной ножик, подморгнул мне и Петрусю и начал заострять конец палки.
Мы не понимали – зачем. Вдруг немец кольнул острым концом лошадь в хвост – и раз, и второй. Животное рвануло вперед бешеным голопом.
– Гэ-гэ – гэ! – задрал ноги немец. Потом его стрясло с сиденья вниз, он брякнулся на колени и, забыв о вожжах, испуганно вцепился в бидоны...
Чем бы все это кончилось, неизвестно. Но одна вожжа намоталась на колесо. Лошадь резко свернула в сторону, вломившись оглоблями в Степкин забор.
– Бежим! – дернул я Петруся за рукав и прыгнул с ворот.
Но нас опередили Таня и Степа. Когда мы примчались к шарабану, Таня бойко лопотала с немцем на его языке, а Степа силился вырвать из забора оглобли, освободить лошадь. Бедное животное было голодным и жадно срывало с сирени горькие листья.
Несмело приблизились к немцу несколько женщин, подошел брат Степы Сергей.
– Танья – гут, карош девашка! – похлопал немец Таню по плечу. – Э-э... оп! – он руками выхватил из шарабана один бидон, поставил на землю.
– Карл Шпайтель говорит, что будет продавать спирт. За пол-литра – яйцо или два огурца, – сказала Таня женщинам и опять загергетала с немцем. Потом сбегала домой и вынесла лошади охапку сена.
Немец начал продавать спирт. Женщины становились в очередь, но как-то нерешительно. А пацаны проворно сновали домой и обратно, тащили посуду и продукты.
– Хоть бы на лекарство с пол-литра взять... – оправдывались женщины друг перед дружкой.
Некоторые сдержанно улыбались – дурак немец... Неужели он не представляет, какая настоящая цена спирту?
– А чего ему жалеть? – сказал Сергей. – Нашим салом да по нашей шкуре... На спиртзаводе целые цистерны этого добра остались... Растащили все дочиста!
Я заметил, что Сергей, прохаживаясь возле женщин, внимательно прислушивается к Таниной болтовне с немцем. И правда, о чем они говорят?
В очереди за спиртом произошла заварушка. Немец огрел Петруся меркой по лбу. Он пристроился уже в третий раз. Цена на спирт сразу была повышена в два раза.
Меня не интересовал спирт. Я во все глаза рассматривал немца. И ничего особенного, как ни старался, не мог заметить. Человек как человек... Разве что одет немного диковинно, да карабин в бричке.
Было досадно: почему немец не вызывает у меня ненависти, а только любопытство, хоть я и убеждал себя, что это враг, враг...
А вот на Таню подымалась, росла в груди злость. Чего она так увивается вокруг немца? И откуда так хорошо знает немецкий язык? Третий месяц пошел, как отодвинулся и затих на востоке фронт, а она только недавно появилась в деревне. Где бродяжничала все это время?
Не нравился мне и Степа: ишь, как таращит глазищи на Таню, восхищается ее лопотаньем...
Муторно у меня было на душе.
Потом подошел Гляк с Филькой и потащили немца к себе на обед. Во втором бидоне у немца еще оставался спирт, и он достанется, конечно, Гляку.
Примерно через час мы видели, как от Гляка выехал немец. Назад, на Слуцкую дорогу "пферд" выбежал охотно. Видно, потому, что подкрепился, а может, та дорога вела к дому. Не очень понукал лошадь и Шпайтель: он пребывал в блаженном состоянии, то пел, то наигрывал на губной гармошке.
А мы еще долго сидели на бревнах под забором, обдумывая увиденное и услышанное. Особенно нас занимало то, о чем сказала, уходя, Таня: сюда придет на постой немецкая часть. И скоро – как только похолодает...
Я помню, какие у Тани при этом были глаза. Они необыкновенно блестели, но не радость в них была, а что-то другое.
Степа ушел домой вскоре после Тани, приказав нам собраться в гумне через час. Я думал, что он будет говорить о том, как отомстить Тапе за такое поведение, а услышал совсем другое.
– Слушайте сюда... – заговорщически прошептал он.
Замысел командира нам понравился: операция напоминала военную. Дело касалось старосты Рудяка, которого привезли немцы. А раз его поставили немцы, значит, он такой же враг, как и они. Гляка мы еще считали мелким вредителем: он местный, бывший счетовод. Почти свой человек!
– Тяните соломинки, – предложил нам Степа и вытянул вперед руку. Длинная – стоять на страже, две другие – лезть...
Я и Петрусь вытянули те, что короче.
Это было в пятницу, а операцию назначили на воскресенье. Обычно по воскресеньям Александр Рудяк запрягал чью-либо лошадь и уезжал в Слуцк до самого вечера. Иногда брал с собой и Гляка. Возвращались в сумерках пьяные, нагрузив телегу вещами из еврейских домов, и как воры, оглядываясь по сторонам, волокли узлы по домам.
Значит, воскресенье будет в нашем распоряжении...
Суббота показалась мне нескончаемо длинной. Голова у меня просто пухла от разных мыслей. И не заметил, как стадо перекочевало на озимь, на участок Савки Прокурата – крайний и самый широкий, чуть ли не два надела. Свет не видел такого дурачья, как овцы. На жнивье сколько угодно травы, так нет лезут на пахоту. А там и всходы еще еле заметные, хоть под микроскопом рассматривай. Утром, правда, когда роса, если прилечь и смотреть против солнца, видно хорошо – торчат изредка крохотные росточки-пики, розоватые, и на каждом сверкает капелька.
Странно, но первой узнала о потраве немая сестра Прокурата, жившая вместе с ним. Только показалось стадо вечером на улице, как она выбежала из ворот, замычала, замахала руками, вырвала из моих рук кнут и начала хлестать по чем попало. И все показывала куда-то в поле, повыше хат...
Ночью накануне операции я спал скверно и видел не менее ста снов...
Утром вид у меня был неважнецкий. Мать собралась было бежать на базар в город, отнести пару десятков яиц, обменять на очень нужную нам соль. Но посмотрела на меня, пощупала лоб – не заболел ли я? И отложила свой поход в город, погнала овец вместо меня.
Мы были убеждены, что операцию провели чисто.
Залезть по углу на чердак Рудяковой хаты – раз плюнуть. Со стороны огородов чердак прикрыт плохо: не хватало всех досок, а некоторые держались только на одном гвозде, и их можно было раздвигать.
На чердаке над сенями был полумрак. Под ногами гремели доски, они лежали на балках не вплотную, и Петрусь, оступившись, чуть не провалился вниз. Захныкал, захлюпал носом... Я ухватился руками за балку, повис, болтая ногами – и спрыгнул на пол.
– Давай! – и выставил руки навстречу Петрусю.
Он заерзал там наверху и снова захныкал.
Горе с этими коротышками. Уж лучше бы я пошел на это дело один...
На чердак хаты вела приставная жердяная лестница. Едва не надорвался, пока отвалил ее от хаты. Наконец она грохнулась на первую балку над сенями. Пусть слезает со всеми удобствами...
В этой бывшей колхозной конторе мы знаем все углы и закоулки. Бывали не раз, даже недавно Рудяк звал нас мыть посуду из-под молока: его лапища не пролезала в кувшины.
Мы обыскали сени, кладовку – нигде не нашли ни масла, ни сала, ни других продуктов, собранных для немцев. Видимо, Рудяк сегодня погрузил все на телегу и увез в город. Портить было нечего, и наше боевое настроение упало...
Правда, в хате на лавке стояло вдоль стены не менее десятка кувшинов с молоком. Я схватил один, поднял над головой и... За ним второй, третий...
Степа потом говорил, что они бухали, как бомбы. Он напугался даже, а вдруг кто услышит эти взрывы, хотел уже подавать сигнал тревоги.
Вот я и говорю: операция прошла вроде бы чисто и гладко. А на деле получилось черт те что! Насмешили всю деревню...
Назавтра на нас свалились сразу две неприятности. Во-первых, когда увидели Таню, она тут же бросила в глаза:
– Эй! Ну как – обсохло уже молоко на губах? Пошли еще горшки побъем...
– Молчи, подлиза немецкая! – не остался в долгу и я.
А Петрусь презрительно сплюнул и погрозил ей кулачком.
И причем здесь "молоко на губах", не понимаю. Сама всего на какой-то год старше меня. А если имела в виду что-нибудь другое, то вчера у Рудяка я даже и не попробовал молока. Это Петрусь успел слизнуть сливки с одной крынки.
И еще: откуда она знает, что это – наша работа? Рудяк и то не цепляется... Уж не слишком ли длинный у Степы язык? Я сам видел, пригнав овец с поля, как вечером того же дня Степа долго стоял с Таней возле ее калитки и старательно разглаживал ногой песок.